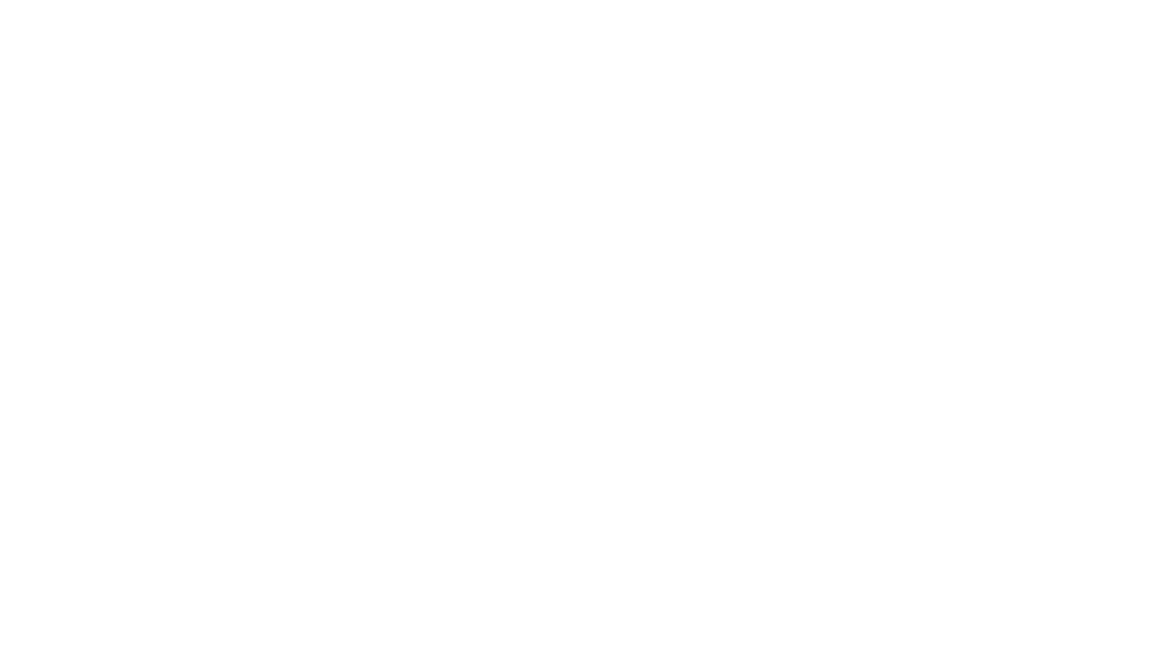
Вальтер Беньямин
Два стихотворения Фридриха Гельдерлина
Перевод Ивана Болдырева под редакцией Анны Глазовой
Фрагмент
Фрагмент
Мужество — это жизненное чувство человека, подвергающего себя опасности и потому в своей смерти расширяющего ее до опасности мировой и вместе с тем ее преодолевающего. Степень опасности исходит из него — лишь когда она настигает его, всецело этой опасности преданного, она настигает и мир. Но в смерти мужественного человека она преодолевается, она обрушилась на мир, которому более не угрожает; в ней высвобождаются и одновременно устанавливаются чудовищные силы — посреди них, принявших вид ограниченных вещей, каждодневно обитает тело. В смерти силы, грозившие тому, кто мужествен, опасностью, уже стремительно обращены вспять, в ней они успокоены. (Силы овеществляются — и это уже приближает сущность богов к поэту.) Мир мертвого героя — новый, мифический мир, насыщенный опасностью; именно это — мир второй версии стихотворения. В ней всецело возобладал духовный принцип — слияние героического поэта с миром. Поэт не должен бояться смерти, он герой, потому что проживает средоточие всех отношений. Общий принцип сочиненного — безраздельная власть отношения. В этом отдельном стихотворении она изображена как мужество — как глубочайшее тождество поэта с миром, из которого проистекают в этой поэзии все отождествления наглядного и духовного. Таково основание, в котором обособленная фигура постоянно упраздняет себя в пространственно-временном порядке, где она упразднена так, что не имеет фигуры, приобретает любую, оказывается и произошедшим, и существованием, временнóй пластикой и пространственным событием. В смерти, которая составляет его мир, объединены все познанные отношения. В ней — высшая бесконечная фигура и ее отсутствие, временнáя пластика и пространственное существование, идея и чувственность. И каждая функция жизни в этом мире — это судьба, тогда как в первой версии судьбой традиционно определялась жизнь. Именно этот восточный, мистический принцип, преодолевающий границы, с такой очевидностью вновь и вновь упраздняет в этом стихотворении принцип греческой фигуративности и создает духовный космос из чистых отношений созерцания, чувственного бытия, в котором духовное есть лишь выражение функции, стремящейся к тождеству. Превращение двойственности смерти и поэта в единство мертвого поэтического мира, «насыщенного опасностью», — так соотносится сочиненное обоих стихотворений. И лишь сейчас можно рассмотреть третью, срединную строфу. Очевидно, что смерть в образе «пристанища» была помещена в центр сочинения, что в этом центре — исток песни как совокупности всех функций, что отсюда происходят идеи «искусства», «истинного» как выражение покоящегося единства. То, что было сказано об упразднении порядка смертных и небесных богов, в этом контексте представляется всецело достоверным. Следует полагать, что слова «одиноки и дики» относятся к людям, что очень хорошо соответствует названию этого стихотворения. «Робость» стала теперь подлинным настроем поэта. Ему, помещенному в центр жизни, больше ничего не остается, кроме оцепенелого существования, полной пассивности, которая составляет сущность всего мужественного; ничего, кроме как полностью отдать себя во власть отношения. Оно исходит из него и к нему возвращается. Так песнь охватывает живущих, и так они становятся ему знакомыми — но больше не родными. Поэт и песнь в космосе стихотворения не различаются. Он лишь граница с жизнью, безразличие, в окружении чудовищных чувственных сил и идеи, хранящих в себе его закон. В двух последних стихах сильнее всего выражено, насколько он составляет неприкосновенный центр всех отношений. Небесные боги стали знаками бесконечной жизни, но однако же он ее ограничивает: «неся / Одного из небесных. Но сами / Несем мы искусные руки». Поэт, таким образом, видится уже не как фигура, а единственно лишь как принцип фигуративности, нечто ограничивающее, а также несущее и свое собственное тело. Он несет свои руки — и небесных. Выразительная цезура на этом месте показывает дистанцию, которую поэт должен соблюдать по отношению к любой фигуре и миру, будучи их единством. Построение стихотворения подтверждает правоту в словах Шиллера: «Настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание <…>. Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполне свободною и не пораненною; она должна выйти из заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною, как и из рук творца».
По ходу исследования намеренно избегалось слово «трезвость», которое столь часто было бы естественно использовать как характеристику. Ибо лишь сейчас следует произнести слова Гельдерлина о «священно трезвом», которые теперь можно понять с определенностью. Было замечено, что в этих словах заключена тенденция его поздних творений. Слова эти проистекают из той внутренней уверенности, с какой они пребывают в собственной духовной жизни, в которой теперь трезвость позволена, предписана, потому что такая жизнь в себе священна, пребывает по ту сторону всякого возвышения в возвышенном. Относится ли еще эта жизнь к миру греков? Настолько же мало, насколько жизнь чистого произведения искусства вообще может быть жизнью какого-либо народа и насколько она, будучи обнаружена в сочиненном, составляет жизнь какого-либо индивида и только его собственную жизнь. Эта жизнь выстроена в формах греческого мифа, но — и это имеет решающее значение — не только в них; как раз греческий элемент в последней версии упразднен и уравновешен по отношению к другому, который (хоть и без явного обоснования) был назван восточным. Почти все изменения позднейшей версии устремлены в этом направлении, в образах, как и в представлении новых идей, и, наконец, в новом значении смерти — все они, безграничные, возвышаются над явлением, покоящимся в себе, ограниченным формой. То, что здесь скрывается вопрос, решающий, быть может, не только для изучения Гельдерлина, — в этом контексте показать невозможно. Однако рассмотрение сочиненного ведет не к мифу, а — в величайших творениях — лишь к мифическим сопряженностям, которые в произведении искусства оформлены как отдельные немифологические и немифические, далее для нас непостижимые фигуры.
Но если бы существовало слово, чтобы уразуметь отношение этой внутренней жизни, из которой произошло последнее стихотворение, к мифу, то это было бы Гельдерлиново — принадлежащее более позднему времени — «Преданья, что все дальше от земли, <…> Обращаются к человечеству».
По ходу исследования намеренно избегалось слово «трезвость», которое столь часто было бы естественно использовать как характеристику. Ибо лишь сейчас следует произнести слова Гельдерлина о «священно трезвом», которые теперь можно понять с определенностью. Было замечено, что в этих словах заключена тенденция его поздних творений. Слова эти проистекают из той внутренней уверенности, с какой они пребывают в собственной духовной жизни, в которой теперь трезвость позволена, предписана, потому что такая жизнь в себе священна, пребывает по ту сторону всякого возвышения в возвышенном. Относится ли еще эта жизнь к миру греков? Настолько же мало, насколько жизнь чистого произведения искусства вообще может быть жизнью какого-либо народа и насколько она, будучи обнаружена в сочиненном, составляет жизнь какого-либо индивида и только его собственную жизнь. Эта жизнь выстроена в формах греческого мифа, но — и это имеет решающее значение — не только в них; как раз греческий элемент в последней версии упразднен и уравновешен по отношению к другому, который (хоть и без явного обоснования) был назван восточным. Почти все изменения позднейшей версии устремлены в этом направлении, в образах, как и в представлении новых идей, и, наконец, в новом значении смерти — все они, безграничные, возвышаются над явлением, покоящимся в себе, ограниченным формой. То, что здесь скрывается вопрос, решающий, быть может, не только для изучения Гельдерлина, — в этом контексте показать невозможно. Однако рассмотрение сочиненного ведет не к мифу, а — в величайших творениях — лишь к мифическим сопряженностям, которые в произведении искусства оформлены как отдельные немифологические и немифические, далее для нас непостижимые фигуры.
Но если бы существовало слово, чтобы уразуметь отношение этой внутренней жизни, из которой произошло последнее стихотворение, к мифу, то это было бы Гельдерлиново — принадлежащее более позднему времени — «Преданья, что все дальше от земли, <…> Обращаются к человечеству».
Цит. по: Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человечества / Собр. cоч.: в 7 т. М.: Гослитиздат, 1955–1957. Т. 6. С. 326. (Пер. Э. Л. Радлова незначительно изменен.
вас может заинтересовать
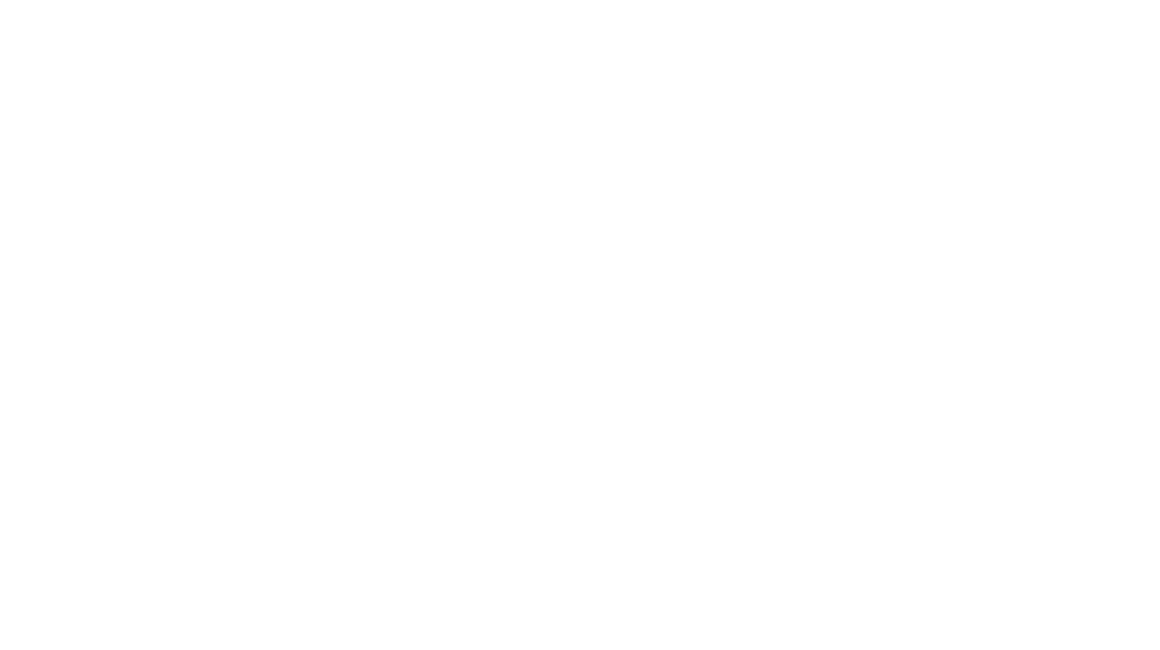
Вальтер Беньямин
Два стихотворения Фридриха Гельдерлина
Перевод Ивана Болдырева под редакцией Анны Глазовой
Фрагмент
Фрагмент
Мужество — это жизненное чувство человека, подвергающего себя опасности и потому в своей смерти расширяющего ее до опасности мировой и вместе с тем ее преодолевающего. Степень опасности исходит из него — лишь когда она настигает его, всецело этой опасности преданного, она настигает и мир. Но в смерти мужественного человека она преодолевается, она обрушилась на мир, которому более не угрожает; в ней высвобождаются и одновременно устанавливаются чудовищные силы — посреди них, принявших вид ограниченных вещей, каждодневно обитает тело. В смерти силы, грозившие тому, кто мужествен, опасностью, уже стремительно обращены вспять, в ней они успокоены. (Силы овеществляются — и это уже приближает сущность богов к поэту.) Мир мертвого героя — новый, мифический мир, насыщенный опасностью; именно это — мир второй версии стихотворения. В ней всецело возобладал духовный принцип — слияние героического поэта с миром. Поэт не должен бояться смерти, он герой, потому что проживает средоточие всех отношений. Общий принцип сочиненного — безраздельная власть отношения. В этом отдельном стихотворении она изображена как мужество — как глубочайшее тождество поэта с миром, из которого проистекают в этой поэзии все отождествления наглядного и духовного. Таково основание, в котором обособленная фигура постоянно упраздняет себя в пространственно-временном порядке, где она упразднена так, что не имеет фигуры, приобретает любую, оказывается и произошедшим, и существованием, временнóй пластикой и пространственным событием. В смерти, которая составляет его мир, объединены все познанные отношения. В ней — высшая бесконечная фигура и ее отсутствие, временнáя пластика и пространственное существование, идея и чувственность. И каждая функция жизни в этом мире — это судьба, тогда как в первой версии судьбой традиционно определялась жизнь. Именно этот восточный, мистический принцип, преодолевающий границы, с такой очевидностью вновь и вновь упраздняет в этом стихотворении принцип греческой фигуративности и создает духовный космос из чистых отношений созерцания, чувственного бытия, в котором духовное есть лишь выражение функции, стремящейся к тождеству. Превращение двойственности смерти и поэта в единство мертвого поэтического мира, «насыщенного опасностью», — так соотносится сочиненное обоих стихотворений. И лишь сейчас можно рассмотреть третью, срединную строфу. Очевидно, что смерть в образе «пристанища» была помещена в центр сочинения, что в этом центре — исток песни как совокупности всех функций, что отсюда происходят идеи «искусства», «истинного» как выражение покоящегося единства. То, что было сказано об упразднении порядка смертных и небесных богов, в этом контексте представляется всецело достоверным. Следует полагать, что слова «одиноки и дики» относятся к людям, что очень хорошо соответствует названию этого стихотворения. «Робость» стала теперь подлинным настроем поэта. Ему, помещенному в центр жизни, больше ничего не остается, кроме оцепенелого существования, полной пассивности, которая составляет сущность всего мужественного; ничего, кроме как полностью отдать себя во власть отношения. Оно исходит из него и к нему возвращается. Так песнь охватывает живущих, и так они становятся ему знакомыми — но больше не родными. Поэт и песнь в космосе стихотворения не различаются. Он лишь граница с жизнью, безразличие, в окружении чудовищных чувственных сил и идеи, хранящих в себе его закон. В двух последних стихах сильнее всего выражено, насколько он составляет неприкосновенный центр всех отношений. Небесные боги стали знаками бесконечной жизни, но однако же он ее ограничивает: «неся / Одного из небесных. Но сами / Несем мы искусные руки». Поэт, таким образом, видится уже не как фигура, а единственно лишь как принцип фигуративности, нечто ограничивающее, а также несущее и свое собственное тело. Он несет свои руки — и небесных. Выразительная цезура на этом месте показывает дистанцию, которую поэт должен соблюдать по отношению к любой фигуре и миру, будучи их единством. Построение стихотворения подтверждает правоту в словах Шиллера: «Настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание <…>. Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполне свободною и не пораненною; она должна выйти из заколдованной сферы художника столь же чистою и совершенною, как и из рук творца».
По ходу исследования намеренно избегалось слово «трезвость», которое столь часто было бы естественно использовать как характеристику. Ибо лишь сейчас следует произнести слова Гельдерлина о «священно трезвом», которые теперь можно понять с определенностью. Было замечено, что в этих словах заключена тенденция его поздних творений. Слова эти проистекают из той внутренней уверенности, с какой они пребывают в собственной духовной жизни, в которой теперь трезвость позволена, предписана, потому что такая жизнь в себе священна, пребывает по ту сторону всякого возвышения в возвышенном. Относится ли еще эта жизнь к миру греков? Настолько же мало, насколько жизнь чистого произведения искусства вообще может быть жизнью какого-либо народа и насколько она, будучи обнаружена в сочиненном, составляет жизнь какого-либо индивида и только его собственную жизнь. Эта жизнь выстроена в формах греческого мифа, но — и это имеет решающее значение — не только в них; как раз греческий элемент в последней версии упразднен и уравновешен по отношению к другому, который (хоть и без явного обоснования) был назван восточным. Почти все изменения позднейшей версии устремлены в этом направлении, в образах, как и в представлении новых идей, и, наконец, в новом значении смерти — все они, безграничные, возвышаются над явлением, покоящимся в себе, ограниченным формой. То, что здесь скрывается вопрос, решающий, быть может, не только для изучения Гельдерлина, — в этом контексте показать невозможно. Однако рассмотрение сочиненного ведет не к мифу, а — в величайших творениях — лишь к мифическим сопряженностям, которые в произведении искусства оформлены как отдельные немифологические и немифические, далее для нас непостижимые фигуры.
Но если бы существовало слово, чтобы уразуметь отношение этой внутренней жизни, из которой произошло последнее стихотворение, к мифу, то это было бы Гельдерлиново — принадлежащее более позднему времени — «Преданья, что все дальше от земли, <…> Обращаются к человечеству».
По ходу исследования намеренно избегалось слово «трезвость», которое столь часто было бы естественно использовать как характеристику. Ибо лишь сейчас следует произнести слова Гельдерлина о «священно трезвом», которые теперь можно понять с определенностью. Было замечено, что в этих словах заключена тенденция его поздних творений. Слова эти проистекают из той внутренней уверенности, с какой они пребывают в собственной духовной жизни, в которой теперь трезвость позволена, предписана, потому что такая жизнь в себе священна, пребывает по ту сторону всякого возвышения в возвышенном. Относится ли еще эта жизнь к миру греков? Настолько же мало, насколько жизнь чистого произведения искусства вообще может быть жизнью какого-либо народа и насколько она, будучи обнаружена в сочиненном, составляет жизнь какого-либо индивида и только его собственную жизнь. Эта жизнь выстроена в формах греческого мифа, но — и это имеет решающее значение — не только в них; как раз греческий элемент в последней версии упразднен и уравновешен по отношению к другому, который (хоть и без явного обоснования) был назван восточным. Почти все изменения позднейшей версии устремлены в этом направлении, в образах, как и в представлении новых идей, и, наконец, в новом значении смерти — все они, безграничные, возвышаются над явлением, покоящимся в себе, ограниченным формой. То, что здесь скрывается вопрос, решающий, быть может, не только для изучения Гельдерлина, — в этом контексте показать невозможно. Однако рассмотрение сочиненного ведет не к мифу, а — в величайших творениях — лишь к мифическим сопряженностям, которые в произведении искусства оформлены как отдельные немифологические и немифические, далее для нас непостижимые фигуры.
Но если бы существовало слово, чтобы уразуметь отношение этой внутренней жизни, из которой произошло последнее стихотворение, к мифу, то это было бы Гельдерлиново — принадлежащее более позднему времени — «Преданья, что все дальше от земли, <…> Обращаются к человечеству».
вас может заинтересовать

