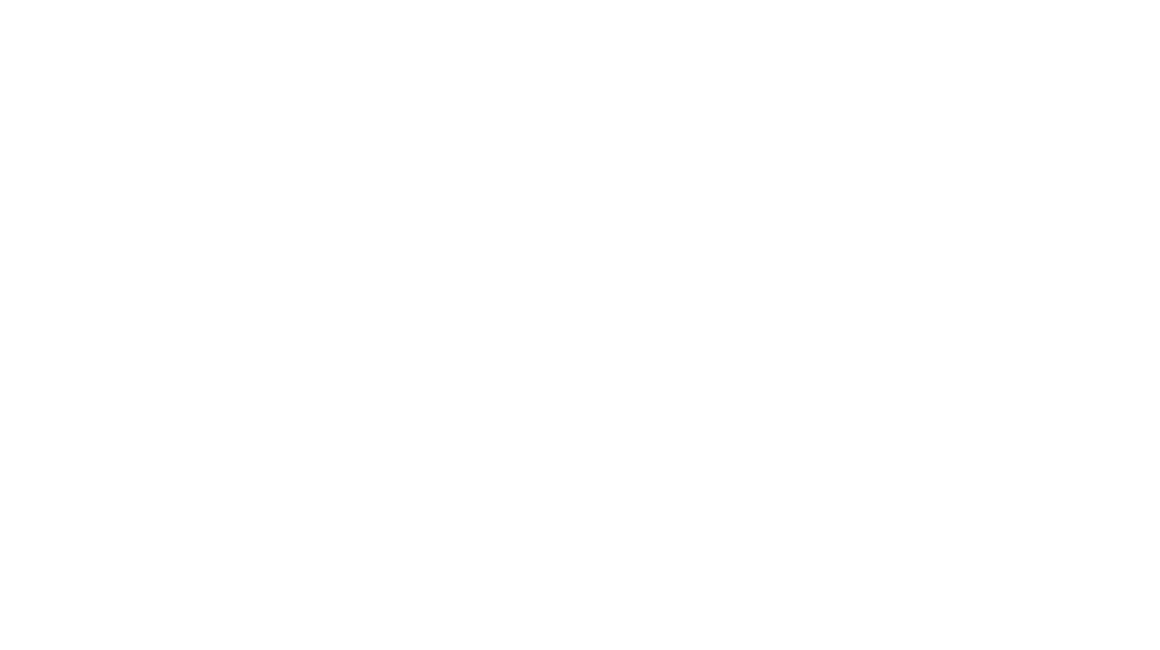
Михаил Лаптев
Меж клоуном и чертежом
***
Человек — плечо картины.
Так Иешуа сказал.
Но навек неукротимы
и газета, и подвал.
Человек идет на финиш,
человек идет навзрыд.
Ты кольцо в вино не кинешь —
а не то заговорит.
Я пишу в проклятый год.
Дай мне ложечку варенья,
а не то стихотворенье
сгинет, сгинет, пропадет!
***
Григориадзе — фамилия этого лося,
и Иванов — фамилия этого дня.
Лось осторожно выходит из леса,
для
осторожность свою до известных пределов,
отражая людское жилище величьем зрачка.
И ФИО его, жилища, — Горелов
А.К. — запечатлена на века
в извилинах лося, в жестоком спинном мозгу,
в его полоумной сетчатке.
Лось, как Авель, идет в голубую тайгу
опечатки.
Он учится трудной жизненной простоте,
привычке первому встречному говорить «ты»,
лось идет к пустоте
из пустоты.
***
Я обрастаю желтым плачем,
я с детства рисовал овал.
Мне гарпии вонзились в плечи,
зернистые, словно вокзал.
И черноногая богиня
в слепых испуганных шелках
мне, словно мячик, имя пишет,
вдали растаявши впотьмах.
И будет илистый анапест
мерцать на улицах под ночь,
и поплывут сквозь снег трамваи
в сутулом свете фонарей.
Рот вечера — словно платочек.
У снегопада нет спины.
Я двери камушком открою
и вниду в царство тишины,
как нож — в батон, и пыль я вытру,
скопившуюся по углам.
И буду слушать с видом хитрым
боль с снегопадом пополам.
Положи платок пловца
в поле, в поле, дорогая!
Мир на травы разлагая,
бродит черная овца.
Без конца, без конца!
Бродит звездная овца,
как мирянин в ожерелье,
и пространство ожирело,
и забилися сердца.
Ласточка кричит «Цивить!»
Снега белого белее,
входят трое Бармалеев,
чтобы деву удавить.
Эка прыть!
***
Меж клоуном и чертежом
созвездий грузовик гремучий
ватиновые режет тучи
сырым ножом.
А дальше — все, как на подбор:
семья, машина, латы, сажа,
щипцы для сахара и даже —
карманный вор.
Не забирайтесь под диван,
но низ исследуйте дивана:
там — коренастая нирвана,
там — царь Иван,
он там заначил полстакана,
но он не пьян.
А дальше — дыры в антимир,
прет холодом из антимира.
Разит общественным сортиром
из этих дыр.
В село, в село! Изба, корова
там кратны трем,
там буду жизнью жить здоровой
меж клоуном и чертежом.
***
Из лета — в кровь, из пули — в слизь,
из перманента — в решето.
Зачем Аттилы вознеслись
из бесконечности в ничто?
Зачем рождается дебил
в соитье рыбы и гвоздя?
Зачем ты дуру полюбил,
по жизни пасмурной идя?
Под паутиной арматур
непостижимый муравей
играет 25-й тур
на зрячем холоде ветвей.
Он друга детства потерял,
воруя стройматериал,
он топит ветер на юру
в медвежью пыльную жару.
Из мозга — в ствол, из тьмы — в Христа,
из голубятни — в распредвал.
Иду всей массою листа
в холодный каменный подвал.
Там спит бумажный Святогор,
официозный звук — «Сергей»
и ужас имени «Егор».
Непостижимый муравей…
***
Спокойно молоко, отважно серебро
и щурится огонь, — сеньор свобод сыпучих.
Разрушь плечо огня на узловатых кручах,
войди в неандертальское метро!
Там на стенах висят собачьи черепа
на зеркалах гвоздей, и в их глазницах свечи.
В рассыпанном метро древесный вечный вечер,
и у костров безмолвствует толпа.
Она чего-то ждет, она молчит всегда, —
когда, давя ее, сорвется эскалатор,
когда сгорит перрон, похожий на палату
психиатрички, и когда вода
на плиты просочится из намокших стен,
прорвется с потолков, с отвисшей штукатурки,
захлюпает и мутью, всосанной в придурке,
затопит память солнечных Микен.
И грязью захлестнет могучие угли,
и на поверхности закрутится воронка,
отняв у матери ревущего ребенка
И не останется Земли.
***
И у ветвистого виска вискозы
дымится конь,
и держит черные искусственные розы
моя ладонь.
И бледный день похож на онаниста,
и вечер — как «бычок».
О тихая извилистая пристань!
Молчок, молчок!
И розу черную держу в ладони,
даю немой обет.
И накрывают, ложками долдоня,
длиннобородый маленький обед.
Человек — плечо картины.
Так Иешуа сказал.
Но навек неукротимы
и газета, и подвал.
Человек идет на финиш,
человек идет навзрыд.
Ты кольцо в вино не кинешь —
а не то заговорит.
Я пишу в проклятый год.
Дай мне ложечку варенья,
а не то стихотворенье
сгинет, сгинет, пропадет!
***
Григориадзе — фамилия этого лося,
и Иванов — фамилия этого дня.
Лось осторожно выходит из леса,
для
осторожность свою до известных пределов,
отражая людское жилище величьем зрачка.
И ФИО его, жилища, — Горелов
А.К. — запечатлена на века
в извилинах лося, в жестоком спинном мозгу,
в его полоумной сетчатке.
Лось, как Авель, идет в голубую тайгу
опечатки.
Он учится трудной жизненной простоте,
привычке первому встречному говорить «ты»,
лось идет к пустоте
из пустоты.
***
Я обрастаю желтым плачем,
я с детства рисовал овал.
Мне гарпии вонзились в плечи,
зернистые, словно вокзал.
И черноногая богиня
в слепых испуганных шелках
мне, словно мячик, имя пишет,
вдали растаявши впотьмах.
И будет илистый анапест
мерцать на улицах под ночь,
и поплывут сквозь снег трамваи
в сутулом свете фонарей.
Рот вечера — словно платочек.
У снегопада нет спины.
Я двери камушком открою
и вниду в царство тишины,
как нож — в батон, и пыль я вытру,
скопившуюся по углам.
И буду слушать с видом хитрым
боль с снегопадом пополам.
Положи платок пловца
в поле, в поле, дорогая!
Мир на травы разлагая,
бродит черная овца.
Без конца, без конца!
Бродит звездная овца,
как мирянин в ожерелье,
и пространство ожирело,
и забилися сердца.
Ласточка кричит «Цивить!»
Снега белого белее,
входят трое Бармалеев,
чтобы деву удавить.
Эка прыть!
***
Меж клоуном и чертежом
созвездий грузовик гремучий
ватиновые режет тучи
сырым ножом.
А дальше — все, как на подбор:
семья, машина, латы, сажа,
щипцы для сахара и даже —
карманный вор.
Не забирайтесь под диван,
но низ исследуйте дивана:
там — коренастая нирвана,
там — царь Иван,
он там заначил полстакана,
но он не пьян.
А дальше — дыры в антимир,
прет холодом из антимира.
Разит общественным сортиром
из этих дыр.
В село, в село! Изба, корова
там кратны трем,
там буду жизнью жить здоровой
меж клоуном и чертежом.
***
Из лета — в кровь, из пули — в слизь,
из перманента — в решето.
Зачем Аттилы вознеслись
из бесконечности в ничто?
Зачем рождается дебил
в соитье рыбы и гвоздя?
Зачем ты дуру полюбил,
по жизни пасмурной идя?
Под паутиной арматур
непостижимый муравей
играет 25-й тур
на зрячем холоде ветвей.
Он друга детства потерял,
воруя стройматериал,
он топит ветер на юру
в медвежью пыльную жару.
Из мозга — в ствол, из тьмы — в Христа,
из голубятни — в распредвал.
Иду всей массою листа
в холодный каменный подвал.
Там спит бумажный Святогор,
официозный звук — «Сергей»
и ужас имени «Егор».
Непостижимый муравей…
***
Спокойно молоко, отважно серебро
и щурится огонь, — сеньор свобод сыпучих.
Разрушь плечо огня на узловатых кручах,
войди в неандертальское метро!
Там на стенах висят собачьи черепа
на зеркалах гвоздей, и в их глазницах свечи.
В рассыпанном метро древесный вечный вечер,
и у костров безмолвствует толпа.
Она чего-то ждет, она молчит всегда, —
когда, давя ее, сорвется эскалатор,
когда сгорит перрон, похожий на палату
психиатрички, и когда вода
на плиты просочится из намокших стен,
прорвется с потолков, с отвисшей штукатурки,
захлюпает и мутью, всосанной в придурке,
затопит память солнечных Микен.
И грязью захлестнет могучие угли,
и на поверхности закрутится воронка,
отняв у матери ревущего ребенка
И не останется Земли.
***
И у ветвистого виска вискозы
дымится конь,
и держит черные искусственные розы
моя ладонь.
И бледный день похож на онаниста,
и вечер — как «бычок».
О тихая извилистая пристань!
Молчок, молчок!
И розу черную держу в ладони,
даю немой обет.
И накрывают, ложками долдоня,
длиннобородый маленький обед.
вас может заинтересовать
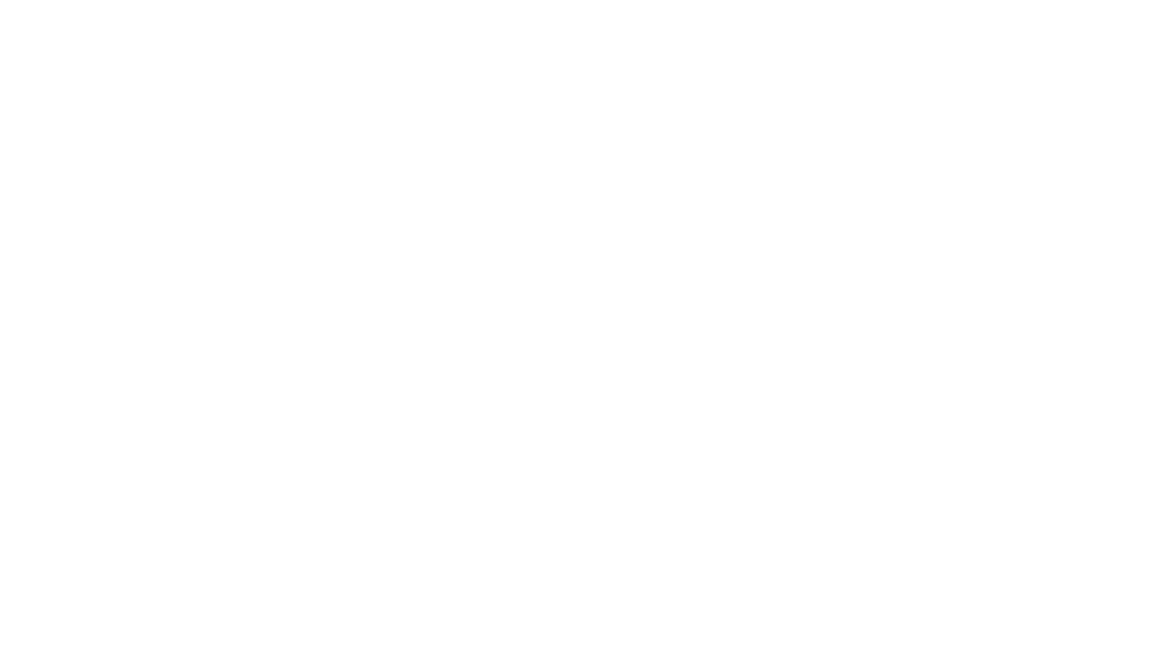
Михаил Лаптев
Меж клоуном и чертежом
***
Человек — плечо картины.
Так Иешуа сказал.
Но навек неукротимы
и газета, и подвал.
Человек идет на финиш,
человек идет навзрыд.
Ты кольцо в вино не кинешь —
а не то заговорит.
Я пишу в проклятый год.
Дай мне ложечку варенья,
а не то стихотворенье
сгинет, сгинет, пропадет!
***
Григориадзе — фамилия этого лося,
и Иванов — фамилия этого дня.
Лось осторожно выходит из леса,
для
осторожность свою до известных пределов,
отражая людское жилище величьем зрачка.
И ФИО его, жилища, — Горелов
А.К. — запечатлена на века
в извилинах лося, в жестоком спинном мозгу,
в его полоумной сетчатке.
Лось, как Авель, идет в голубую тайгу
опечатки.
Он учится трудной жизненной простоте,
привычке первому встречному говорить «ты»,
лось идет к пустоте
из пустоты.
***
Я обрастаю желтым плачем,
я с детства рисовал овал.
Мне гарпии вонзились в плечи,
зернистые, словно вокзал.
И черноногая богиня
в слепых испуганных шелках
мне, словно мячик, имя пишет,
вдали растаявши впотьмах.
И будет илистый анапест
мерцать на улицах под ночь,
и поплывут сквозь снег трамваи
в сутулом свете фонарей.
Рот вечера — словно платочек.
У снегопада нет спины.
Я двери камушком открою
и вниду в царство тишины,
как нож — в батон, и пыль я вытру,
скопившуюся по углам.
И буду слушать с видом хитрым
боль с снегопадом пополам.
Положи платок пловца
в поле, в поле, дорогая!
Мир на травы разлагая,
бродит черная овца.
Без конца, без конца!
Бродит звездная овца,
как мирянин в ожерелье,
и пространство ожирело,
и забилися сердца.
Ласточка кричит «Цивить!»
Снега белого белее,
входят трое Бармалеев,
чтобы деву удавить.
Эка прыть!
***
Меж клоуном и чертежом
созвездий грузовик гремучий
ватиновые режет тучи
сырым ножом.
А дальше — все, как на подбор:
семья, машина, латы, сажа,
щипцы для сахара и даже —
карманный вор.
Не забирайтесь под диван,
но низ исследуйте дивана:
там — коренастая нирвана,
там — царь Иван,
он там заначил полстакана,
но он не пьян.
А дальше — дыры в антимир,
прет холодом из антимира.
Разит общественным сортиром
из этих дыр.
В село, в село! Изба, корова
там кратны трем,
там буду жизнью жить здоровой
меж клоуном и чертежом.
***
Из лета — в кровь, из пули — в слизь,
из перманента — в решето.
Зачем Аттилы вознеслись
из бесконечности в ничто?
Зачем рождается дебил
в соитье рыбы и гвоздя?
Зачем ты дуру полюбил,
по жизни пасмурной идя?
Под паутиной арматур
непостижимый муравей
играет 25-й тур
на зрячем холоде ветвей.
Он друга детства потерял,
воруя стройматериал,
он топит ветер на юру
в медвежью пыльную жару.
Из мозга — в ствол, из тьмы — в Христа,
из голубятни — в распредвал.
Иду всей массою листа
в холодный каменный подвал.
Там спит бумажный Святогор,
официозный звук — «Сергей»
и ужас имени «Егор».
Непостижимый муравей…
***
Спокойно молоко, отважно серебро
и щурится огонь, — сеньор свобод сыпучих.
Разрушь плечо огня на узловатых кручах,
войди в неандертальское метро!
Там на стенах висят собачьи черепа
на зеркалах гвоздей, и в их глазницах свечи.
В рассыпанном метро древесный вечный вечер,
и у костров безмолвствует толпа.
Она чего-то ждет, она молчит всегда, —
когда, давя ее, сорвется эскалатор,
когда сгорит перрон, похожий на палату
психиатрички, и когда вода
на плиты просочится из намокших стен,
прорвется с потолков, с отвисшей штукатурки,
захлюпает и мутью, всосанной в придурке,
затопит память солнечных Микен.
И грязью захлестнет могучие угли,
и на поверхности закрутится воронка,
отняв у матери ревущего ребенка
И не останется Земли.
***
И у ветвистого виска вискозы
дымится конь,
и держит черные искусственные розы
моя ладонь.
И бледный день похож на онаниста,
и вечер — как «бычок».
О тихая извилистая пристань!
Молчок, молчок!
И розу черную держу в ладони,
даю немой обет.
И накрывают, ложками долдоня,
длиннобородый маленький обед.
Человек — плечо картины.
Так Иешуа сказал.
Но навек неукротимы
и газета, и подвал.
Человек идет на финиш,
человек идет навзрыд.
Ты кольцо в вино не кинешь —
а не то заговорит.
Я пишу в проклятый год.
Дай мне ложечку варенья,
а не то стихотворенье
сгинет, сгинет, пропадет!
***
Григориадзе — фамилия этого лося,
и Иванов — фамилия этого дня.
Лось осторожно выходит из леса,
для
осторожность свою до известных пределов,
отражая людское жилище величьем зрачка.
И ФИО его, жилища, — Горелов
А.К. — запечатлена на века
в извилинах лося, в жестоком спинном мозгу,
в его полоумной сетчатке.
Лось, как Авель, идет в голубую тайгу
опечатки.
Он учится трудной жизненной простоте,
привычке первому встречному говорить «ты»,
лось идет к пустоте
из пустоты.
***
Я обрастаю желтым плачем,
я с детства рисовал овал.
Мне гарпии вонзились в плечи,
зернистые, словно вокзал.
И черноногая богиня
в слепых испуганных шелках
мне, словно мячик, имя пишет,
вдали растаявши впотьмах.
И будет илистый анапест
мерцать на улицах под ночь,
и поплывут сквозь снег трамваи
в сутулом свете фонарей.
Рот вечера — словно платочек.
У снегопада нет спины.
Я двери камушком открою
и вниду в царство тишины,
как нож — в батон, и пыль я вытру,
скопившуюся по углам.
И буду слушать с видом хитрым
боль с снегопадом пополам.
Положи платок пловца
в поле, в поле, дорогая!
Мир на травы разлагая,
бродит черная овца.
Без конца, без конца!
Бродит звездная овца,
как мирянин в ожерелье,
и пространство ожирело,
и забилися сердца.
Ласточка кричит «Цивить!»
Снега белого белее,
входят трое Бармалеев,
чтобы деву удавить.
Эка прыть!
***
Меж клоуном и чертежом
созвездий грузовик гремучий
ватиновые режет тучи
сырым ножом.
А дальше — все, как на подбор:
семья, машина, латы, сажа,
щипцы для сахара и даже —
карманный вор.
Не забирайтесь под диван,
но низ исследуйте дивана:
там — коренастая нирвана,
там — царь Иван,
он там заначил полстакана,
но он не пьян.
А дальше — дыры в антимир,
прет холодом из антимира.
Разит общественным сортиром
из этих дыр.
В село, в село! Изба, корова
там кратны трем,
там буду жизнью жить здоровой
меж клоуном и чертежом.
***
Из лета — в кровь, из пули — в слизь,
из перманента — в решето.
Зачем Аттилы вознеслись
из бесконечности в ничто?
Зачем рождается дебил
в соитье рыбы и гвоздя?
Зачем ты дуру полюбил,
по жизни пасмурной идя?
Под паутиной арматур
непостижимый муравей
играет 25-й тур
на зрячем холоде ветвей.
Он друга детства потерял,
воруя стройматериал,
он топит ветер на юру
в медвежью пыльную жару.
Из мозга — в ствол, из тьмы — в Христа,
из голубятни — в распредвал.
Иду всей массою листа
в холодный каменный подвал.
Там спит бумажный Святогор,
официозный звук — «Сергей»
и ужас имени «Егор».
Непостижимый муравей…
***
Спокойно молоко, отважно серебро
и щурится огонь, — сеньор свобод сыпучих.
Разрушь плечо огня на узловатых кручах,
войди в неандертальское метро!
Там на стенах висят собачьи черепа
на зеркалах гвоздей, и в их глазницах свечи.
В рассыпанном метро древесный вечный вечер,
и у костров безмолвствует толпа.
Она чего-то ждет, она молчит всегда, —
когда, давя ее, сорвется эскалатор,
когда сгорит перрон, похожий на палату
психиатрички, и когда вода
на плиты просочится из намокших стен,
прорвется с потолков, с отвисшей штукатурки,
захлюпает и мутью, всосанной в придурке,
затопит память солнечных Микен.
И грязью захлестнет могучие угли,
и на поверхности закрутится воронка,
отняв у матери ревущего ребенка
И не останется Земли.
***
И у ветвистого виска вискозы
дымится конь,
и держит черные искусственные розы
моя ладонь.
И бледный день похож на онаниста,
и вечер — как «бычок».
О тихая извилистая пристань!
Молчок, молчок!
И розу черную держу в ладони,
даю немой обет.
И накрывают, ложками долдоня,
длиннобородый маленький обед.
вас может заинтересовать

