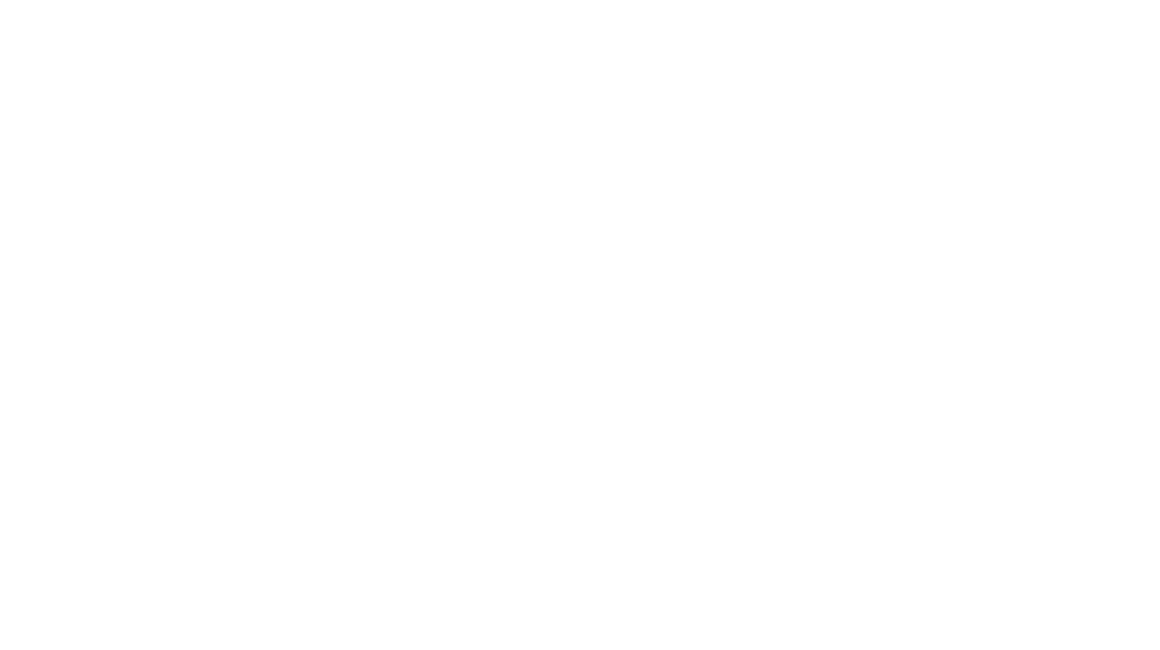
Вальжына Морт
Эпидемия розы
Перевод с беларусского Галины Рымбу
(транслитерация имени поэтессы и названия языка принадлежат переводчице).
(транслитерация имени поэтессы и названия языка принадлежат переводчице).
Остров
Сыпь портовых огней в горном районе.
Ночь, он говорит, это черный юмор дня —
сначала страшно, но на рассвете уже будешь смеяться.
Я закидываю голову и отбиваю волан смеха,
ведь мужчины прижимали меня и работали, как китайские ткачихи,
но ни один не смог ударить меня по лицу так,
как море бьет свою приемную дочь
и само в слезах отступает.
Остров, сплюнутый солнцем через плечо вселенной,
ворота охраняют сон перегретых овчарок,
забор держит за белыми зубами смех бугенвиллей.
Дорога поднимается передо мною зеркалом,
где отражается все, что меня сюда привело: кровать,
мягкая, как побитый плод,
целый лаймовый сад под синяком
полуденной тени, в центре — женщина сжимает в руке корешок книги.
Тело раздевается до самого прощения
и прощает без всякой причины, разве хочет
сказать: я прощу
твоим сокам, что не налили эти плоды,
я прощу твоей коже, что не трескается и не гниет
над муравьиным гнездом,
я прощу твоему горлу,
что не разразилось собачьим кашлем,
прощу твоему лицу, что никогда не станет пятном,
чтобы отметить эту кровать, эту дорогу и, главное, это море.
Кирпичи лунного света
сквозь жалюзи
падают на пол,
где он лежит на животе. Провал
между его бедрами и задом — идеальный черный алмаз.
Солнечный пузырь на линии горизонта
заживает,
оставляя
едва видимый шрам.
Две Евы
Мария Петровна,
Ваши косы проложены,
как рельсы, через груди.
По этим косам едут поезда.
На вагонном окне
Ваш внук играет скрипичный концерт
карманным ножиком.
За окном — вечно красные сосны.
Поезд просит:
еще-еще-еще-еще.
Мария Петровна,
рот на ширине плеч!
Мария Петровна,
это косы или черных шин следы?
Мария Петровна печет серый хлеб.
Лунное ребро
легло на кухонный стол.
Слепите себе, Мария Петровна,
маленькую Еву,
Вам на радость,
курам на смех.
День стирки
У голой стены, будто лезвием выбритой,
Амэля стирает платье.
Настежь окно. Воздушная тревога
звенит, как из будущего телефон.
Мыло шипит. И платье
гвоздем к бельевой веревке прибито.
От этого серого строя, что, может, караулит,
а может, и атакует дом, три ярда темноты
вдоль пола падают. Она стоит внутри,
словно на дне реки, и ее сердце — осьминог.
Под огромными руками голова ее кажется
маленькой «о» (сосед прищуривается),
до треска набитой волосами.
Зингер
В стакане молока — меда желток.
На линиях связи — игра летучих мышей.
В твоих песнях кровь висит, точно косы
лука сухого. В нашей деревне
даже кладбища своего нет.
Мужчины умирают на войне,
их тела — сами себе могилы.
Женщины горят в огне. И нам не спится,
когда Купалье падает грозою,
ведь наша хата — деревянное сито,
и молния серпом нам отрезала косы.
Всю ночь горят болота, и мы не спим.
А мне все чудилось, что твой трофейный Зингер
нас из огня спасет на выгнутой спине.
Что мы ухватимся за гриву расхристанных
ниток и шпулек вдоль вороного стана.
Эти самые нитки в моих юбках,
трусах, в моих первых лифчиках. Что за запах
шел от этих ниток! Столько раз
вшитых, распоротых и снова вшитых
в одежду, что держала мужчин,
которые иначе бы развалились.
Эти самые нитки у меня между ног.
Я стегаю, и Зингер летит галопом.
И небо за соломинку молнии ухватилось.
Как в той поэме:
кишит Егерштрассе
разгулом арийских шлюх
в сорочках
содранных
с изрезанных грудей
наших девчат.
Мой коник-Зингер, почему все всегда как в поэме?
Эпидемия розы
При случайной встрече человек, знавший тебя в мордовской эвакуации,рассказал про голод и добавил, что никогда не видел тебя без книги.
1
На столе, сбитом из чужих деревьев,
хлеб тишины непреломленный.
Немая,
как свой портрет: я в раме
спинки кресла. И будто бы ты здесь
и не здесь. Твои кости в утробе земли
и нет, голодный мальчик с книгой в братской могиле,
рядом с близнецами по смерти, твое имя,
что странно звучало для них,
измененное на русское имя
актом открещивания.
И нет.
Хлеб сидит на квадратных плечах стола.
Если долго не есть,
от сердца останется красная кость.
В каждой книге я вижу одно — твой пустой желудок.
2
Иногда твой желудок — это увеличительное стекло.
С ним в руках я ищу, строка за строкой,
старую картофелину, зарытую в землю букв.
Я теряю разум, ухо прикладываю к страницам,
чтобы услышать, жевал ли ты корни деревьев,
ставшие их бумагой.
В своем кулаке, размером с желудок, я сжимаю
щепотку сахара, грецкий орех, изюминку.
Этим кулаком я выбиваю мозги из воздуха,
бью по всему, что под руку попадется.
Обо мне: часто я провожу целые дни в разъездах
между парковками, где машины похожи на пустые
гигантские панцири черепах.
С этих черепашьих кладбищ я наблюдаю
холмы — искажение зрения,
красные сараи — муравьи на глазном яблоке.
Доктор мне прописал капли Леты.
Почему я разговариваю с тобой?
Любимая внучка твоей любимой сестры,
чем больше Леты я капаю себе в глаза,
тем ближе я к тебе, и нет.
В моем Ноевом ковчеге — каждому призраку по паре.
Знаешь, на что призрак похож?
На кровь.
3
В одном выдохе от тебя,
я боюсь тени
своего языка, шевелящегося
в углу рта.
Я надела этот дом на себя, как гипс,
чтоб зарастить голову, мысль к мысли.
Я цыкнула на прошлое вспышкой камеры,
и нет.
Поэтому,
если быть между нами звуку,
пусть это будет звук,
начинающийся от прикосновения,
музыка.
Музыка, что над клавишами разжимает
кулак родословной,
распускает пальцы,
словно лепестки.
Родословная — это не древо, а бутон розы,
лепестки, связанные вместе, губами вниз.
По ночам на койке ты ждал
визга железных ворот, как на забое,
и облизывал рот.
Потом тишина расправила плечи
в твоих ноздрях.
Ты умер на больничной простыне,
выбеленной и накрахмаленной так,
словно она была выткана из отутюженных костей.
Что роза-родословная думает про это,
пока мой карандаш дыбом встает на бумаге?
Между бело-больничными клавишами
я ношу своих мертвых, чтобы накрыть их
саваном, сотканным из музыкальных звуков,
чтобы похоронить их, как надо — по одному! —
внутри гробовых клавиш.
Я спешу — я научилась спешить у Земли!
Земля — мочевой пузырь, полный грязи и снега.
И нет.
Псалом 18
1
Я молюсь деревьям, и слова ползут вдоль моих ног стадом немого скота.
Я молюсь деревянному мясу, что не бросило своих корней.
Я и сама — мясо, вплетенное в нитку мысли.
Я молюсь деревьям:
горит в темноте звездный квадрат
окна в мою первую спальню.
Призраки, мои воспитатели!
На вершинах лип — дышите, мои призраки
(кровь шелестит в ушах!),
в липах — виски моих мертвых, плечи
моих мертвых — в зеленых зеркалах.
2
Разве так можно, что деревья — с этой земли
и я тоже — с этой земли?
Под тяжестью белья веревка среди невесомых деревьев,
тысячелистник, лопух, Баха фуга, Баха
тишина на наших выстиранных, мокрых простынях.
Бах фуги, Бах тишины ворочается в скважине земли.
Портреты мертвых — за стеклом серванта.
Закрой занавески — мертвые смотрят недвижно.
Открой занавески — они дрожат.
Закрой занавески — они смотрят немые.
Открой занавески — они шепчут.
Как раньше живые слали птиц с весточками,
мертвые шлют нам деревья
с их шепотом.
Деревья, занавески — шевелятся,
ими мертвые вытирают молитву
со своих языков.
3
Свой запах, как зрение, в сумерках напрягли
укроп и мята. Сетка на окне,
и ветер вытирается о занавеску.
Лежу с тобой голова к голове,
а радио поет «Желаю вам».
Могила памяти, могила
над могилой памяти:
вагоны гробов поездом летят,
летят вагоны гробов поездом
в землю.
Выходите, призраки, подышать на остановке,
и я приду обнять вас, принесу с собой
с чаем из сирени китайский термос.
* * *
Самый человечий из всех человечьих звуков:
вверх-вниз щеткой по зубам, через коридор.
За окном саранча зачарованно слушает. Вот иона, на голом матрасе, кинутом на пол,
удивляется, сколько его тела в этом звуке —словно только сейчас заметила, что он не безрукий.
Плевок в раковину — она считает
его телом.
Петлю его слюны над своей вагиной —
она считает его телом.
Тело-чемодан
в наклейках шрамов с каждого места назначения.
Он складывает ее внутри, как рубашку,
и шлет ее, шлет ее, шлет ее через столовые
и бензоколонки, через море,
через руки людей в синих униформах,
он шлет ее экспрессом, чтобы успеть на первую машину
доставки.
Иногда он сидит у нее под юбкой и исповедуется.
За стеной соседка читает вслух названия своих лекарств,
а ей кажется, соседка раскладывает на столе драгоценные каменья:
амиодарон, зофеноприл, матопролол, мексифин.
А как же, ведь она унаследует это богатство,
будет носить у себя во рту,
чтобы скрыть его кривизну.
А пока что
он чистит зубы
и саранча молчит.
Она лежит на матрасе, а через коридор,
снятая после долгого дня на работе,
кинутая на пол после долгого дня на работе,
молчаливая одежда лежит.
Сыпь портовых огней в горном районе.
Ночь, он говорит, это черный юмор дня —
сначала страшно, но на рассвете уже будешь смеяться.
Я закидываю голову и отбиваю волан смеха,
ведь мужчины прижимали меня и работали, как китайские ткачихи,
но ни один не смог ударить меня по лицу так,
как море бьет свою приемную дочь
и само в слезах отступает.
Остров, сплюнутый солнцем через плечо вселенной,
ворота охраняют сон перегретых овчарок,
забор держит за белыми зубами смех бугенвиллей.
Дорога поднимается передо мною зеркалом,
где отражается все, что меня сюда привело: кровать,
мягкая, как побитый плод,
целый лаймовый сад под синяком
полуденной тени, в центре — женщина сжимает в руке корешок книги.
Тело раздевается до самого прощения
и прощает без всякой причины, разве хочет
сказать: я прощу
твоим сокам, что не налили эти плоды,
я прощу твоей коже, что не трескается и не гниет
над муравьиным гнездом,
я прощу твоему горлу,
что не разразилось собачьим кашлем,
прощу твоему лицу, что никогда не станет пятном,
чтобы отметить эту кровать, эту дорогу и, главное, это море.
Кирпичи лунного света
сквозь жалюзи
падают на пол,
где он лежит на животе. Провал
между его бедрами и задом — идеальный черный алмаз.
Солнечный пузырь на линии горизонта
заживает,
оставляя
едва видимый шрам.
Две Евы
Мария Петровна,
Ваши косы проложены,
как рельсы, через груди.
По этим косам едут поезда.
На вагонном окне
Ваш внук играет скрипичный концерт
карманным ножиком.
За окном — вечно красные сосны.
Поезд просит:
еще-еще-еще-еще.
Мария Петровна,
рот на ширине плеч!
Мария Петровна,
это косы или черных шин следы?
Мария Петровна печет серый хлеб.
Лунное ребро
легло на кухонный стол.
Слепите себе, Мария Петровна,
маленькую Еву,
Вам на радость,
курам на смех.
День стирки
У голой стены, будто лезвием выбритой,
Амэля стирает платье.
Настежь окно. Воздушная тревога
звенит, как из будущего телефон.
Мыло шипит. И платье
гвоздем к бельевой веревке прибито.
От этого серого строя, что, может, караулит,
а может, и атакует дом, три ярда темноты
вдоль пола падают. Она стоит внутри,
словно на дне реки, и ее сердце — осьминог.
Под огромными руками голова ее кажется
маленькой «о» (сосед прищуривается),
до треска набитой волосами.
Зингер
В стакане молока — меда желток.
На линиях связи — игра летучих мышей.
В твоих песнях кровь висит, точно косы
лука сухого. В нашей деревне
даже кладбища своего нет.
Мужчины умирают на войне,
их тела — сами себе могилы.
Женщины горят в огне. И нам не спится,
когда Купалье падает грозою,
ведь наша хата — деревянное сито,
и молния серпом нам отрезала косы.
Всю ночь горят болота, и мы не спим.
А мне все чудилось, что твой трофейный Зингер
нас из огня спасет на выгнутой спине.
Что мы ухватимся за гриву расхристанных
ниток и шпулек вдоль вороного стана.
Эти самые нитки в моих юбках,
трусах, в моих первых лифчиках. Что за запах
шел от этих ниток! Столько раз
вшитых, распоротых и снова вшитых
в одежду, что держала мужчин,
которые иначе бы развалились.
Эти самые нитки у меня между ног.
Я стегаю, и Зингер летит галопом.
И небо за соломинку молнии ухватилось.
Как в той поэме:
кишит Егерштрассе
разгулом арийских шлюх
в сорочках
содранных
с изрезанных грудей
наших девчат.
Мой коник-Зингер, почему все всегда как в поэме?
Эпидемия розы
При случайной встрече человек, знавший тебя в мордовской эвакуации,рассказал про голод и добавил, что никогда не видел тебя без книги.
1
На столе, сбитом из чужих деревьев,
хлеб тишины непреломленный.
Немая,
как свой портрет: я в раме
спинки кресла. И будто бы ты здесь
и не здесь. Твои кости в утробе земли
и нет, голодный мальчик с книгой в братской могиле,
рядом с близнецами по смерти, твое имя,
что странно звучало для них,
измененное на русское имя
актом открещивания.
И нет.
Хлеб сидит на квадратных плечах стола.
Если долго не есть,
от сердца останется красная кость.
В каждой книге я вижу одно — твой пустой желудок.
2
Иногда твой желудок — это увеличительное стекло.
С ним в руках я ищу, строка за строкой,
старую картофелину, зарытую в землю букв.
Я теряю разум, ухо прикладываю к страницам,
чтобы услышать, жевал ли ты корни деревьев,
ставшие их бумагой.
В своем кулаке, размером с желудок, я сжимаю
щепотку сахара, грецкий орех, изюминку.
Этим кулаком я выбиваю мозги из воздуха,
бью по всему, что под руку попадется.
Обо мне: часто я провожу целые дни в разъездах
между парковками, где машины похожи на пустые
гигантские панцири черепах.
С этих черепашьих кладбищ я наблюдаю
холмы — искажение зрения,
красные сараи — муравьи на глазном яблоке.
Доктор мне прописал капли Леты.
Почему я разговариваю с тобой?
Любимая внучка твоей любимой сестры,
чем больше Леты я капаю себе в глаза,
тем ближе я к тебе, и нет.
В моем Ноевом ковчеге — каждому призраку по паре.
Знаешь, на что призрак похож?
На кровь.
3
В одном выдохе от тебя,
я боюсь тени
своего языка, шевелящегося
в углу рта.
Я надела этот дом на себя, как гипс,
чтоб зарастить голову, мысль к мысли.
Я цыкнула на прошлое вспышкой камеры,
и нет.
Поэтому,
если быть между нами звуку,
пусть это будет звук,
начинающийся от прикосновения,
музыка.
Музыка, что над клавишами разжимает
кулак родословной,
распускает пальцы,
словно лепестки.
Родословная — это не древо, а бутон розы,
лепестки, связанные вместе, губами вниз.
По ночам на койке ты ждал
визга железных ворот, как на забое,
и облизывал рот.
Потом тишина расправила плечи
в твоих ноздрях.
Ты умер на больничной простыне,
выбеленной и накрахмаленной так,
словно она была выткана из отутюженных костей.
Что роза-родословная думает про это,
пока мой карандаш дыбом встает на бумаге?
Между бело-больничными клавишами
я ношу своих мертвых, чтобы накрыть их
саваном, сотканным из музыкальных звуков,
чтобы похоронить их, как надо — по одному! —
внутри гробовых клавиш.
Я спешу — я научилась спешить у Земли!
Земля — мочевой пузырь, полный грязи и снега.
И нет.
Псалом 18
1
Я молюсь деревьям, и слова ползут вдоль моих ног стадом немого скота.
Я молюсь деревянному мясу, что не бросило своих корней.
Я и сама — мясо, вплетенное в нитку мысли.
Я молюсь деревьям:
горит в темноте звездный квадрат
окна в мою первую спальню.
Призраки, мои воспитатели!
На вершинах лип — дышите, мои призраки
(кровь шелестит в ушах!),
в липах — виски моих мертвых, плечи
моих мертвых — в зеленых зеркалах.
2
Разве так можно, что деревья — с этой земли
и я тоже — с этой земли?
Под тяжестью белья веревка среди невесомых деревьев,
тысячелистник, лопух, Баха фуга, Баха
тишина на наших выстиранных, мокрых простынях.
Бах фуги, Бах тишины ворочается в скважине земли.
Портреты мертвых — за стеклом серванта.
Закрой занавески — мертвые смотрят недвижно.
Открой занавески — они дрожат.
Закрой занавески — они смотрят немые.
Открой занавески — они шепчут.
Как раньше живые слали птиц с весточками,
мертвые шлют нам деревья
с их шепотом.
Деревья, занавески — шевелятся,
ими мертвые вытирают молитву
со своих языков.
3
Свой запах, как зрение, в сумерках напрягли
укроп и мята. Сетка на окне,
и ветер вытирается о занавеску.
Лежу с тобой голова к голове,
а радио поет «Желаю вам».
Могила памяти, могила
над могилой памяти:
вагоны гробов поездом летят,
летят вагоны гробов поездом
в землю.
Выходите, призраки, подышать на остановке,
и я приду обнять вас, принесу с собой
с чаем из сирени китайский термос.
* * *
Самый человечий из всех человечьих звуков:
вверх-вниз щеткой по зубам, через коридор.
За окном саранча зачарованно слушает. Вот иона, на голом матрасе, кинутом на пол,
удивляется, сколько его тела в этом звуке —словно только сейчас заметила, что он не безрукий.
Плевок в раковину — она считает
его телом.
Петлю его слюны над своей вагиной —
она считает его телом.
Тело-чемодан
в наклейках шрамов с каждого места назначения.
Он складывает ее внутри, как рубашку,
и шлет ее, шлет ее, шлет ее через столовые
и бензоколонки, через море,
через руки людей в синих униформах,
он шлет ее экспрессом, чтобы успеть на первую машину
доставки.
Иногда он сидит у нее под юбкой и исповедуется.
За стеной соседка читает вслух названия своих лекарств,
а ей кажется, соседка раскладывает на столе драгоценные каменья:
амиодарон, зофеноприл, матопролол, мексифин.
А как же, ведь она унаследует это богатство,
будет носить у себя во рту,
чтобы скрыть его кривизну.
А пока что
он чистит зубы
и саранча молчит.
Она лежит на матрасе, а через коридор,
снятая после долгого дня на работе,
кинутая на пол после долгого дня на работе,
молчаливая одежда лежит.
Отсылка к предсмертному неоконченному военному стихотворению Янки Купалы (1882–1942) «Девять осиновых кольев» (1942), где есть строчки:
«Кишит Егерштрассе разгулом полночным,
Арийские шлюхи повсюду торчат.
Они щеголяют в трофейных сорочках,
Сорванных немцами с наших девчат.
Усни, белорусская девушка-ветка,
Солдат-изувер тебе вырезал грудь…»
(Пер. Дмитрия Кузьмина)
«Кишит Егерштрассе разгулом полночным,
Арийские шлюхи повсюду торчат.
Они щеголяют в трофейных сорочках,
Сорванных немцами с наших девчат.
Усни, белорусская девушка-ветка,
Солдат-изувер тебе вырезал грудь…»
(Пер. Дмитрия Кузьмина)
вас может заинтересовать
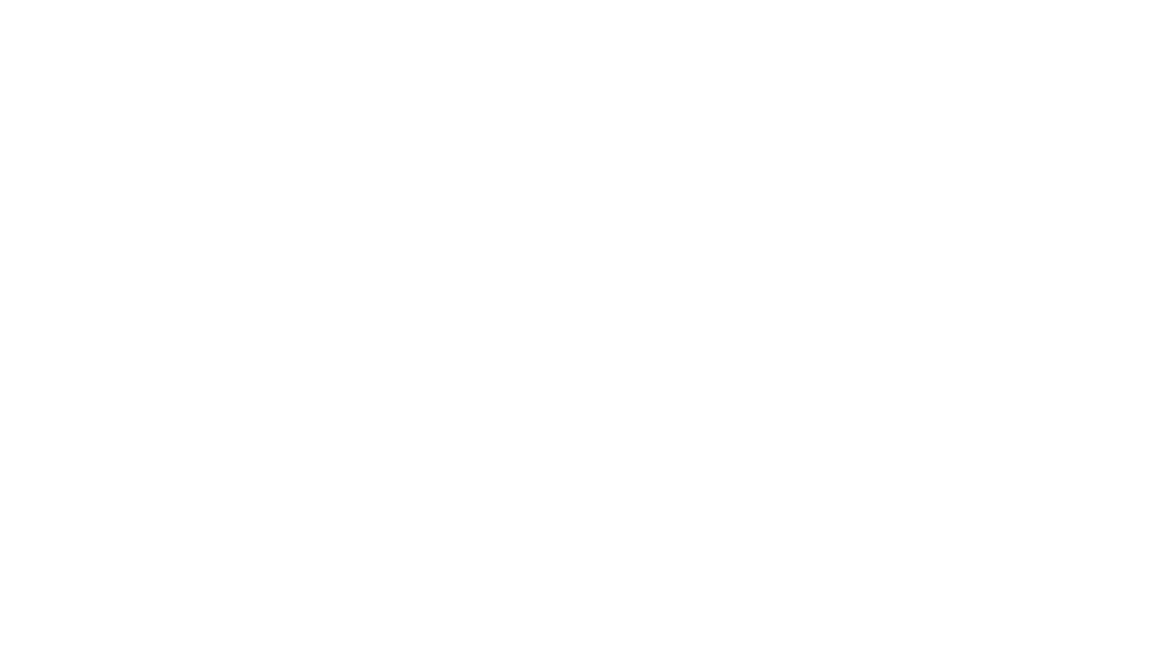
Вальжына Морт
Эпидемия розы
Перевод с беларусского Галины Рымбу (транслитерация имени поэтессы и названия языка принадлежат переводчице).
Остров
Сыпь портовых огней в горном районе.
Ночь, он говорит, это черный юмор дня —
сначала страшно, но на рассвете уже будешь смеяться.
Я закидываю голову и отбиваю волан смеха,
ведь мужчины прижимали меня и работали, как китайские ткачихи,
но ни один не смог ударить меня по лицу так,
как море бьет свою приемную дочь
и само в слезах отступает.
Остров, сплюнутый солнцем через плечо вселенной,
ворота охраняют сон перегретых овчарок,
забор держит за белыми зубами смех бугенвиллей.
Дорога поднимается передо мною зеркалом,
где отражается все, что меня сюда привело: кровать,
мягкая, как побитый плод,
целый лаймовый сад под синяком
полуденной тени, в центре — женщина сжимает в руке корешок книги.
Тело раздевается до самого прощения
и прощает без всякой причины, разве хочет
сказать: я прощу
твоим сокам, что не налили эти плоды,
я прощу твоей коже, что не трескается и не гниет
над муравьиным гнездом,
я прощу твоему горлу,
что не разразилось собачьим кашлем,
прощу твоему лицу, что никогда не станет пятном,
чтобы отметить эту кровать, эту дорогу и, главное, это море.
Кирпичи лунного света
сквозь жалюзи
падают на пол,
где он лежит на животе. Провал
между его бедрами и задом — идеальный черный алмаз.
Солнечный пузырь на линии горизонта
заживает,
оставляя
едва видимый шрам.
Две Евы
Мария Петровна,
Ваши косы проложены,
как рельсы, через груди.
По этим косам едут поезда.
На вагонном окне
Ваш внук играет скрипичный концерт
карманным ножиком.
За окном — вечно красные сосны.
Поезд просит:
еще-еще-еще-еще.
Мария Петровна,
рот на ширине плеч!
Мария Петровна,
это косы или черных шин следы?
Мария Петровна печет серый хлеб.
Лунное ребро
легло на кухонный стол.
Слепите себе, Мария Петровна,
маленькую Еву,
Вам на радость,
курам на смех.
День стирки
У голой стены, будто лезвием выбритой,
Амэля стирает платье.
Настежь окно. Воздушная тревога
звенит, как из будущего телефон.
Мыло шипит. И платье
гвоздем к бельевой веревке прибито.
От этого серого строя, что, может, караулит,
а может, и атакует дом, три ярда темноты
вдоль пола падают. Она стоит внутри,
словно на дне реки, и ее сердце — осьминог.
Под огромными руками голова ее кажется
маленькой «о» (сосед прищуривается),
до треска набитой волосами.
Зингер
В стакане молока — меда желток.
На линиях связи — игра летучих мышей.
В твоих песнях кровь висит, точно косы
лука сухого. В нашей деревне
даже кладбища своего нет.
Мужчины умирают на войне,
их тела — сами себе могилы.
Женщины горят в огне. И нам не спится,
когда Купалье падает грозою,
ведь наша хата — деревянное сито,
и молния серпом нам отрезала косы.
Всю ночь горят болота, и мы не спим.
А мне все чудилось, что твой трофейный Зингер
нас из огня спасет на выгнутой спине.
Что мы ухватимся за гриву расхристанных
ниток и шпулек вдоль вороного стана.
Эти самые нитки в моих юбках,
трусах, в моих первых лифчиках. Что за запах
шел от этих ниток! Столько раз
вшитых, распоротых и снова вшитых
в одежду, что держала мужчин,
которые иначе бы развалились.
Эти самые нитки у меня между ног.
Я стегаю, и Зингер летит галопом.
И небо за соломинку молнии ухватилось.
Как в той поэме:
кишит Егерштрассе
разгулом арийских шлюх
в сорочках
содранных
с изрезанных грудей
наших девчат.
Мой коник-Зингер, почему все всегда как в поэме?
Эпидемия розы
При случайной встрече человек, знавший тебя в мордовской эвакуации,рассказал про голод и добавил, что никогда не видел тебя без книги.
1
На столе, сбитом из чужих деревьев,
хлеб тишины непреломленный.
Немая,
как свой портрет: я в раме
спинки кресла. И будто бы ты здесь
и не здесь. Твои кости в утробе земли
и нет, голодный мальчик с книгой в братской могиле,
рядом с близнецами по смерти, твое имя,
что странно звучало для них,
измененное на русское имя
актом открещивания.
И нет.
Хлеб сидит на квадратных плечах стола.
Если долго не есть,
от сердца останется красная кость.
В каждой книге я вижу одно — твой пустой желудок.
2
Иногда твой желудок — это увеличительное стекло.
С ним в руках я ищу, строка за строкой,
старую картофелину, зарытую в землю букв.
Я теряю разум, ухо прикладываю к страницам,
чтобы услышать, жевал ли ты корни деревьев,
ставшие их бумагой.
В своем кулаке, размером с желудок, я сжимаю
щепотку сахара, грецкий орех, изюминку.
Этим кулаком я выбиваю мозги из воздуха,
бью по всему, что под руку попадется.
Обо мне: часто я провожу целые дни в разъездах
между парковками, где машины похожи на пустые
гигантские панцири черепах.
С этих черепашьих кладбищ я наблюдаю
холмы — искажение зрения,
красные сараи — муравьи на глазном яблоке.
Доктор мне прописал капли Леты.
Почему я разговариваю с тобой?
Любимая внучка твоей любимой сестры,
чем больше Леты я капаю себе в глаза,
тем ближе я к тебе, и нет.
В моем Ноевом ковчеге — каждому призраку по паре.
Знаешь, на что призрак похож?
На кровь.
3
В одном выдохе от тебя,
я боюсь тени
своего языка, шевелящегося
в углу рта.
Я надела этот дом на себя, как гипс,
чтоб зарастить голову, мысль к мысли.
Я цыкнула на прошлое вспышкой камеры,
и нет.
Поэтому,
если быть между нами звуку,
пусть это будет звук,
начинающийся от прикосновения,
музыка.
Музыка, что над клавишами разжимает
кулак родословной,
распускает пальцы,
словно лепестки.
Родословная — это не древо, а бутон розы,
лепестки, связанные вместе, губами вниз.
По ночам на койке ты ждал
визга железных ворот, как на забое,
и облизывал рот.
Потом тишина расправила плечи
в твоих ноздрях.
Ты умер на больничной простыне,
выбеленной и накрахмаленной так,
словно она была выткана из отутюженных костей.
Что роза-родословная думает про это,
пока мой карандаш дыбом встает на бумаге?
Между бело-больничными клавишами
я ношу своих мертвых, чтобы накрыть их
саваном, сотканным из музыкальных звуков,
чтобы похоронить их, как надо — по одному! —
внутри гробовых клавиш.
Я спешу — я научилась спешить у Земли!
Земля — мочевой пузырь, полный грязи и снега.
И нет.
Псалом 18
1
Я молюсь деревьям, и слова ползут вдоль моих ног стадом немого скота.
Я молюсь деревянному мясу, что не бросило своих корней.
Я и сама — мясо, вплетенное в нитку мысли.
Я молюсь деревьям:
горит в темноте звездный квадрат
окна в мою первую спальню.
Призраки, мои воспитатели!
На вершинах лип — дышите, мои призраки
(кровь шелестит в ушах!),
в липах — виски моих мертвых, плечи
моих мертвых — в зеленых зеркалах.
2
Разве так можно, что деревья — с этой земли
и я тоже — с этой земли?
Под тяжестью белья веревка среди невесомых деревьев,
тысячелистник, лопух, Баха фуга, Баха
тишина на наших выстиранных, мокрых простынях.
Бах фуги, Бах тишины ворочается в скважине земли.
Портреты мертвых — за стеклом серванта.
Закрой занавески — мертвые смотрят недвижно.
Открой занавески — они дрожат.
Закрой занавески — они смотрят немые.
Открой занавески — они шепчут.
Как раньше живые слали птиц с весточками,
мертвые шлют нам деревья
с их шепотом.
Деревья, занавески — шевелятся,
ими мертвые вытирают молитву
со своих языков.
3
Свой запах, как зрение, в сумерках напрягли
укроп и мята. Сетка на окне,
и ветер вытирается о занавеску.
Лежу с тобой голова к голове,
а радио поет «Желаю вам».
Могила памяти, могила
над могилой памяти:
вагоны гробов поездом летят,
летят вагоны гробов поездом
в землю.
Выходите, призраки, подышать на остановке,
и я приду обнять вас, принесу с собой
с чаем из сирени китайский термос.
* * *
Самый человечий из всех человечьих звуков:
вверх-вниз щеткой по зубам, через коридор.
За окном саранча зачарованно слушает. Вот иона, на голом матрасе, кинутом на пол,
удивляется, сколько его тела в этом звуке —словно только сейчас заметила, что он не безрукий.
Плевок в раковину — она считает
его телом.
Петлю его слюны над своей вагиной —
она считает его телом.
Тело-чемодан
в наклейках шрамов с каждого места назначения.
Он складывает ее внутри, как рубашку,
и шлет ее, шлет ее, шлет ее через столовые
и бензоколонки, через море,
через руки людей в синих униформах,
он шлет ее экспрессом, чтобы успеть на первую машину
доставки.
Иногда он сидит у нее под юбкой и исповедуется.
За стеной соседка читает вслух названия своих лекарств,
а ей кажется, соседка раскладывает на столе драгоценные каменья:
амиодарон, зофеноприл, матопролол, мексифин.
А как же, ведь она унаследует это богатство,
будет носить у себя во рту,
чтобы скрыть его кривизну.
А пока что
он чистит зубы
и саранча молчит.
Она лежит на матрасе, а через коридор,
снятая после долгого дня на работе,
кинутая на пол после долгого дня на работе,
молчаливая одежда лежит.
Сыпь портовых огней в горном районе.
Ночь, он говорит, это черный юмор дня —
сначала страшно, но на рассвете уже будешь смеяться.
Я закидываю голову и отбиваю волан смеха,
ведь мужчины прижимали меня и работали, как китайские ткачихи,
но ни один не смог ударить меня по лицу так,
как море бьет свою приемную дочь
и само в слезах отступает.
Остров, сплюнутый солнцем через плечо вселенной,
ворота охраняют сон перегретых овчарок,
забор держит за белыми зубами смех бугенвиллей.
Дорога поднимается передо мною зеркалом,
где отражается все, что меня сюда привело: кровать,
мягкая, как побитый плод,
целый лаймовый сад под синяком
полуденной тени, в центре — женщина сжимает в руке корешок книги.
Тело раздевается до самого прощения
и прощает без всякой причины, разве хочет
сказать: я прощу
твоим сокам, что не налили эти плоды,
я прощу твоей коже, что не трескается и не гниет
над муравьиным гнездом,
я прощу твоему горлу,
что не разразилось собачьим кашлем,
прощу твоему лицу, что никогда не станет пятном,
чтобы отметить эту кровать, эту дорогу и, главное, это море.
Кирпичи лунного света
сквозь жалюзи
падают на пол,
где он лежит на животе. Провал
между его бедрами и задом — идеальный черный алмаз.
Солнечный пузырь на линии горизонта
заживает,
оставляя
едва видимый шрам.
Две Евы
Мария Петровна,
Ваши косы проложены,
как рельсы, через груди.
По этим косам едут поезда.
На вагонном окне
Ваш внук играет скрипичный концерт
карманным ножиком.
За окном — вечно красные сосны.
Поезд просит:
еще-еще-еще-еще.
Мария Петровна,
рот на ширине плеч!
Мария Петровна,
это косы или черных шин следы?
Мария Петровна печет серый хлеб.
Лунное ребро
легло на кухонный стол.
Слепите себе, Мария Петровна,
маленькую Еву,
Вам на радость,
курам на смех.
День стирки
У голой стены, будто лезвием выбритой,
Амэля стирает платье.
Настежь окно. Воздушная тревога
звенит, как из будущего телефон.
Мыло шипит. И платье
гвоздем к бельевой веревке прибито.
От этого серого строя, что, может, караулит,
а может, и атакует дом, три ярда темноты
вдоль пола падают. Она стоит внутри,
словно на дне реки, и ее сердце — осьминог.
Под огромными руками голова ее кажется
маленькой «о» (сосед прищуривается),
до треска набитой волосами.
Зингер
В стакане молока — меда желток.
На линиях связи — игра летучих мышей.
В твоих песнях кровь висит, точно косы
лука сухого. В нашей деревне
даже кладбища своего нет.
Мужчины умирают на войне,
их тела — сами себе могилы.
Женщины горят в огне. И нам не спится,
когда Купалье падает грозою,
ведь наша хата — деревянное сито,
и молния серпом нам отрезала косы.
Всю ночь горят болота, и мы не спим.
А мне все чудилось, что твой трофейный Зингер
нас из огня спасет на выгнутой спине.
Что мы ухватимся за гриву расхристанных
ниток и шпулек вдоль вороного стана.
Эти самые нитки в моих юбках,
трусах, в моих первых лифчиках. Что за запах
шел от этих ниток! Столько раз
вшитых, распоротых и снова вшитых
в одежду, что держала мужчин,
которые иначе бы развалились.
Эти самые нитки у меня между ног.
Я стегаю, и Зингер летит галопом.
И небо за соломинку молнии ухватилось.
Как в той поэме:
кишит Егерштрассе
разгулом арийских шлюх
в сорочках
содранных
с изрезанных грудей
наших девчат.
Мой коник-Зингер, почему все всегда как в поэме?
Эпидемия розы
При случайной встрече человек, знавший тебя в мордовской эвакуации,рассказал про голод и добавил, что никогда не видел тебя без книги.
1
На столе, сбитом из чужих деревьев,
хлеб тишины непреломленный.
Немая,
как свой портрет: я в раме
спинки кресла. И будто бы ты здесь
и не здесь. Твои кости в утробе земли
и нет, голодный мальчик с книгой в братской могиле,
рядом с близнецами по смерти, твое имя,
что странно звучало для них,
измененное на русское имя
актом открещивания.
И нет.
Хлеб сидит на квадратных плечах стола.
Если долго не есть,
от сердца останется красная кость.
В каждой книге я вижу одно — твой пустой желудок.
2
Иногда твой желудок — это увеличительное стекло.
С ним в руках я ищу, строка за строкой,
старую картофелину, зарытую в землю букв.
Я теряю разум, ухо прикладываю к страницам,
чтобы услышать, жевал ли ты корни деревьев,
ставшие их бумагой.
В своем кулаке, размером с желудок, я сжимаю
щепотку сахара, грецкий орех, изюминку.
Этим кулаком я выбиваю мозги из воздуха,
бью по всему, что под руку попадется.
Обо мне: часто я провожу целые дни в разъездах
между парковками, где машины похожи на пустые
гигантские панцири черепах.
С этих черепашьих кладбищ я наблюдаю
холмы — искажение зрения,
красные сараи — муравьи на глазном яблоке.
Доктор мне прописал капли Леты.
Почему я разговариваю с тобой?
Любимая внучка твоей любимой сестры,
чем больше Леты я капаю себе в глаза,
тем ближе я к тебе, и нет.
В моем Ноевом ковчеге — каждому призраку по паре.
Знаешь, на что призрак похож?
На кровь.
3
В одном выдохе от тебя,
я боюсь тени
своего языка, шевелящегося
в углу рта.
Я надела этот дом на себя, как гипс,
чтоб зарастить голову, мысль к мысли.
Я цыкнула на прошлое вспышкой камеры,
и нет.
Поэтому,
если быть между нами звуку,
пусть это будет звук,
начинающийся от прикосновения,
музыка.
Музыка, что над клавишами разжимает
кулак родословной,
распускает пальцы,
словно лепестки.
Родословная — это не древо, а бутон розы,
лепестки, связанные вместе, губами вниз.
По ночам на койке ты ждал
визга железных ворот, как на забое,
и облизывал рот.
Потом тишина расправила плечи
в твоих ноздрях.
Ты умер на больничной простыне,
выбеленной и накрахмаленной так,
словно она была выткана из отутюженных костей.
Что роза-родословная думает про это,
пока мой карандаш дыбом встает на бумаге?
Между бело-больничными клавишами
я ношу своих мертвых, чтобы накрыть их
саваном, сотканным из музыкальных звуков,
чтобы похоронить их, как надо — по одному! —
внутри гробовых клавиш.
Я спешу — я научилась спешить у Земли!
Земля — мочевой пузырь, полный грязи и снега.
И нет.
Псалом 18
1
Я молюсь деревьям, и слова ползут вдоль моих ног стадом немого скота.
Я молюсь деревянному мясу, что не бросило своих корней.
Я и сама — мясо, вплетенное в нитку мысли.
Я молюсь деревьям:
горит в темноте звездный квадрат
окна в мою первую спальню.
Призраки, мои воспитатели!
На вершинах лип — дышите, мои призраки
(кровь шелестит в ушах!),
в липах — виски моих мертвых, плечи
моих мертвых — в зеленых зеркалах.
2
Разве так можно, что деревья — с этой земли
и я тоже — с этой земли?
Под тяжестью белья веревка среди невесомых деревьев,
тысячелистник, лопух, Баха фуга, Баха
тишина на наших выстиранных, мокрых простынях.
Бах фуги, Бах тишины ворочается в скважине земли.
Портреты мертвых — за стеклом серванта.
Закрой занавески — мертвые смотрят недвижно.
Открой занавески — они дрожат.
Закрой занавески — они смотрят немые.
Открой занавески — они шепчут.
Как раньше живые слали птиц с весточками,
мертвые шлют нам деревья
с их шепотом.
Деревья, занавески — шевелятся,
ими мертвые вытирают молитву
со своих языков.
3
Свой запах, как зрение, в сумерках напрягли
укроп и мята. Сетка на окне,
и ветер вытирается о занавеску.
Лежу с тобой голова к голове,
а радио поет «Желаю вам».
Могила памяти, могила
над могилой памяти:
вагоны гробов поездом летят,
летят вагоны гробов поездом
в землю.
Выходите, призраки, подышать на остановке,
и я приду обнять вас, принесу с собой
с чаем из сирени китайский термос.
* * *
Самый человечий из всех человечьих звуков:
вверх-вниз щеткой по зубам, через коридор.
За окном саранча зачарованно слушает. Вот иона, на голом матрасе, кинутом на пол,
удивляется, сколько его тела в этом звуке —словно только сейчас заметила, что он не безрукий.
Плевок в раковину — она считает
его телом.
Петлю его слюны над своей вагиной —
она считает его телом.
Тело-чемодан
в наклейках шрамов с каждого места назначения.
Он складывает ее внутри, как рубашку,
и шлет ее, шлет ее, шлет ее через столовые
и бензоколонки, через море,
через руки людей в синих униформах,
он шлет ее экспрессом, чтобы успеть на первую машину
доставки.
Иногда он сидит у нее под юбкой и исповедуется.
За стеной соседка читает вслух названия своих лекарств,
а ей кажется, соседка раскладывает на столе драгоценные каменья:
амиодарон, зофеноприл, матопролол, мексифин.
А как же, ведь она унаследует это богатство,
будет носить у себя во рту,
чтобы скрыть его кривизну.
А пока что
он чистит зубы
и саранча молчит.
Она лежит на матрасе, а через коридор,
снятая после долгого дня на работе,
кинутая на пол после долгого дня на работе,
молчаливая одежда лежит.
вас может заинтересовать

