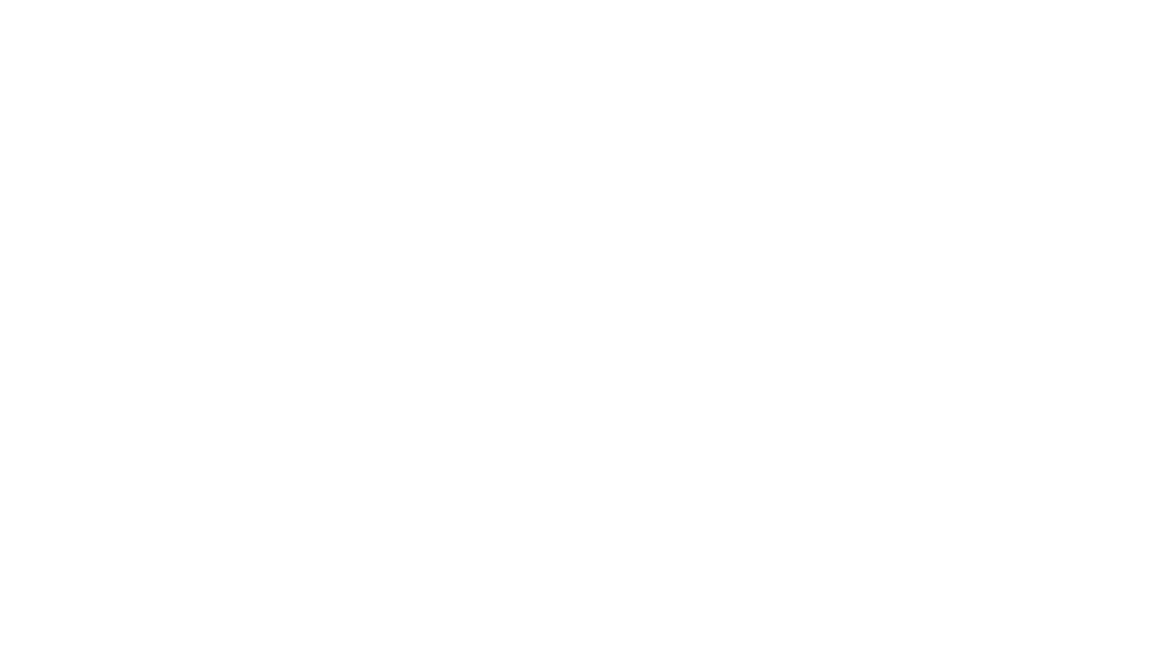
Перестал и смеется
Иван Овчинников
Предисловие Игоря Гулина
18 февраля 2016 года в Новосибирске умер поэт Иван Овчинников.
Нельзя сказать, что умер в безвестности. У него вышло несколько книг. Он был заметной фигурой на литературной карте Сибири. Небольшое количество почитателей было и за ее пределами. Но исчезающе тихая известность никак не соответствует величине его дара.
Впрочем эта незаметность объяснима. Новизну стихов Овчинникова сложно зафиксировать. Во многом потому, что он работал в системе координат, в которой новаторство не представляет собой ценности. Оно проникает в такие стихи украдкой.
За близкой Овчинникову группой поэтов (Александром Денисенко, Николаем Шипиловым и другими) ненароком закрепилось обозначение «Левая Сибирь». Такое название для альманаха новосибирского андеграунда предложил в конце 1980-х годов Анатолий Маковский — самый, скажем так, европейский из их круга. Однако в привычных нам эстетических координатах авторы эти — правые.
Овчинников — более всех. Игривая консервативность, тщательно выпестованное народничество приобретают у него манифестарные формы. Он собирал фольклор и сам выступал в фольклорном ансамбле, писал о народном уме и глупости интеллигенции. Наполнял свою поэзию просторечиями, напевами, приговорками и, что важнее, — философией внимательного постоянства, мудрой бездвижности, единой у народа и природы. В литературе, принимающей такую систему ценностей, желание отличаться вызывает подозрение. Ценится совпадение, узнавание.
И действительно в стихах Овчинникова многое можно узнать — общие для поколения 60-х поэтические интонации, немножко Есенина, немножко Цветаевой, мелодику русской песни. Тоже общий для многих поиск минимальной меры поэтического, укладывающейся в две строчки, два слова.
Эти стихи — вообще очень простые. Они не требуют от читателя подкованности, усилия расшифровки. Все, что спрятано в них, спрятано на виду — как в «Украденном письме» Эдгара По. Именно хорошо знакомое, узнаваемое отвлекает нас от чуда этой поэзии.
Чудо это — удивительная переплавка языка, которая происходит в овчинниковских текстах. Ее сила вполне сравнима с открытиями главных новаторов его поколения. Но если в поэзии Айги, Еремина, Некрасова метаморфозы зримы, то у Овчинникова они лукаво прикрыты ворохом пустяков, сиротской простотой.
Странная, немного юродивая хитрость, которая чувствуется в его будто бы простодушных признаниях и любованиях, — это не разоблачительная ирония. Она не раскрывает, но скрывает. Как засыпают пеплом жар костра — приглушая его, превращая в тепло.
Именно тепло — главное свойство стихов Овчинникова. Слова в них как-то по-особому льнут друг к другу. Они теряют наносную гордость крепких значений — как сбрасывают в деревенской неге городской костюм и с ним лишние приличия. Однако эта вольность не предполагает отказа от культуры. Напротив — весь большой мир с его музеями, симфониями и книгами она захватывает утопией добрососедства.
Мы привыкли к тому, что хорошая поэзия должна озадачивать, беспокоить. Нам не так просто полюбить и увидеть гармонию. Именно это делает трудным, неуловимым открытие Овчинникова. Оно — в новом, не описанном никем до него счастье.
Выздоравливаю
Вот и Пасха, солнышко играет.
Некому сказать: Исус воскрес.
Некому: воистину воскрес.
Все больные веруют в спираль.
В Пасху, правда, солнышко играет.
Значит, мир в грехах не так погряз.
Жизнь еще пойдет на свете.
А за то, что я хоть так, а выражаю,
тетушка техничка к нам вошла
и сказала: с праздником, а я
сразу ей сказал: Христос воскрес.
И она ответила: воистину воскрес.
Казак Аникеев во тьме
Кто же в самом деле так
разорался в буераке?
То ли песня что ли там,
или кто вопят на драке.
Неохота никуда.
Только слушать или кушать.
По трубе пошла вода.
«Господа», пошли на кухню.
Гальки нет. Казак один.
Сам себе картошку чистит.
Сам за кошкою следит.
Потакает ей, как мистик.
Свет зажег. Пошла мысля.
В миг один перековала
буераки и поля
с бою-драки на орала.
По-людски
По душе мне вот так. И никто, кого спросишь, не спорит.
С годами сильнее пошел совпадения глас.
Только в юности книжной своей, то есть скорой,
что-то ссорит вдруг с братьями, сестрами нас.
Какой же абзац, человек соблазнил отличаться,
ценить нелюбимое многими, всеми почти,
когда на тебя (а скажи, есть за что) ополчатся
знакомые люди на старом знакомом пути.
Охота забиться потом, ото всех задеваться
куда-то. А после… охота пожить по-людски.
Хорошее помню — когда-то годов так в двенадцать
тоже мотался за шайбой среди городских.
Но как на беду, как на грех, был, увы, я не ловок.
Соображать на коньках, на ходу да со всеми, не мог.
И это несчастье не скрыть и не выразить словом,
особенно деревенским, а милый был слог.
Катил вкривь и вкось. И от шайбы далёко.
Не мог завернутъ. Все по кругу, по бортику, черт!
Какая же ненавистная, горькая мука-морока —
не совпадать. Для команды не делать ничо.
И я, как никто, с этих пор не хотел отличаться,
Зато, если счет добавляли мои, глянь, броски,
что было со мною, со мной настоящее счастье,
когда выходило у нас и на льду по-людски.
* * *
Кто любит свет.
Кто, неужели тьму?
Темнеет?.. — Нет, еще светло…
Тьму любят, если уж ко сну.
А свет… Ну, свет и свет.
Но свет в огромном мире тьмы.
А вдруг, наоборот —
что беспределен свет.
А тьма, лишь — вот.
* * *
Пошли завтра в музей.
С просьбами, с грустью.
В сияющий синий со снегом Зимний дворец.
Чтоб зимний был только дворец
с десятью, сто двадцатью, пятистами картинами.
А музей пусть уедет.
Доедет, глядишь, до нас.
Надо Рембрандта — поезжай в Новосибирск, в Ачинск.
Любишь Кранаха… любого —
под Энском стоит часть
и охраняет, и умнеет…
Люди! Никто не охватит его, Эрмитаж.
К роскоши с лестницы, тут же
уже привыкаешь. Голова болит.
На Неву глядишь.
А есть ведь, я точно знаю, что есть
деревенские, есть такие ребята восьмиклассники,
увидав только несколько
настоящих картин,
были бы так поражены!
Только несколько.
* * *
И все вместе влево.
И все вместе вправо.
Ветки над четвертым этажом
целый день, качаясь, повторяют
на ветру июля небольшом.
Спинки листьев сразу серебрятся.
В небе уже север облаков.
Скоро будем осыпаться, братцы,
потому что мир таков.
Час такой, что некуда деваться.
День уже кончается везде.
Никуда не надо ехать, оставаться
надо. К занавескам руки, к небесам воздев.
* * *
Резонные секунды были.
Когда же меня тут не бывает?
Как ни зайдешь, я все в каморке.
Другой раз даже зло разбирает.
Практически от меня вреда
Никакого, только странно —
Сидит и сидит, или валяется.
В августе у меня осень начинается,
Расплата за несчастное лето.
Листья желтые на меня…
О! идея — поеду по институтам к абитуриентам,
В море волнения.
Да простит одинокого
Бог меня.
* * *
Блажь у меня была — море.
Я и на море о нем мечтал.
Там у прибоя вагончик был
И кровать с бельем.
Как только шторм
В солнечный день,
Я туда раз, в вагончик.
Сяду на эту кровать
И смотрю — вот они, волны.
Прямо в окошко бегут.
И радостно задумаюсь…
Что в Москве красивые люди
Решили вместе со мной
Поехать к морю.
Я очень люблю ее.
И вот мы в вагончике.
Смотрим на море.
И тут только вижу:
Да вот оно, море-то!
Нет, не то это море!
Нет никого у волн,
И обед кончается.
И как бы валами
Избуху не завалило.
Лето
Ну, побежало, стало вот!
Перед нами и травка, и одуванчики.
Дружба, любовь цветет.
Тут и обманщики,
И обманщицы.
И ваш покорный слуга
С мечтами порвал.
Будет играть, если что —
бороться.
Мир, он воюет и, увы, воевал.
А перестал и смеется
Нельзя сказать, что умер в безвестности. У него вышло несколько книг. Он был заметной фигурой на литературной карте Сибири. Небольшое количество почитателей было и за ее пределами. Но исчезающе тихая известность никак не соответствует величине его дара.
Впрочем эта незаметность объяснима. Новизну стихов Овчинникова сложно зафиксировать. Во многом потому, что он работал в системе координат, в которой новаторство не представляет собой ценности. Оно проникает в такие стихи украдкой.
За близкой Овчинникову группой поэтов (Александром Денисенко, Николаем Шипиловым и другими) ненароком закрепилось обозначение «Левая Сибирь». Такое название для альманаха новосибирского андеграунда предложил в конце 1980-х годов Анатолий Маковский — самый, скажем так, европейский из их круга. Однако в привычных нам эстетических координатах авторы эти — правые.
Овчинников — более всех. Игривая консервативность, тщательно выпестованное народничество приобретают у него манифестарные формы. Он собирал фольклор и сам выступал в фольклорном ансамбле, писал о народном уме и глупости интеллигенции. Наполнял свою поэзию просторечиями, напевами, приговорками и, что важнее, — философией внимательного постоянства, мудрой бездвижности, единой у народа и природы. В литературе, принимающей такую систему ценностей, желание отличаться вызывает подозрение. Ценится совпадение, узнавание.
И действительно в стихах Овчинникова многое можно узнать — общие для поколения 60-х поэтические интонации, немножко Есенина, немножко Цветаевой, мелодику русской песни. Тоже общий для многих поиск минимальной меры поэтического, укладывающейся в две строчки, два слова.
Эти стихи — вообще очень простые. Они не требуют от читателя подкованности, усилия расшифровки. Все, что спрятано в них, спрятано на виду — как в «Украденном письме» Эдгара По. Именно хорошо знакомое, узнаваемое отвлекает нас от чуда этой поэзии.
Чудо это — удивительная переплавка языка, которая происходит в овчинниковских текстах. Ее сила вполне сравнима с открытиями главных новаторов его поколения. Но если в поэзии Айги, Еремина, Некрасова метаморфозы зримы, то у Овчинникова они лукаво прикрыты ворохом пустяков, сиротской простотой.
Странная, немного юродивая хитрость, которая чувствуется в его будто бы простодушных признаниях и любованиях, — это не разоблачительная ирония. Она не раскрывает, но скрывает. Как засыпают пеплом жар костра — приглушая его, превращая в тепло.
Именно тепло — главное свойство стихов Овчинникова. Слова в них как-то по-особому льнут друг к другу. Они теряют наносную гордость крепких значений — как сбрасывают в деревенской неге городской костюм и с ним лишние приличия. Однако эта вольность не предполагает отказа от культуры. Напротив — весь большой мир с его музеями, симфониями и книгами она захватывает утопией добрососедства.
Мы привыкли к тому, что хорошая поэзия должна озадачивать, беспокоить. Нам не так просто полюбить и увидеть гармонию. Именно это делает трудным, неуловимым открытие Овчинникова. Оно — в новом, не описанном никем до него счастье.
Выздоравливаю
Вот и Пасха, солнышко играет.
Некому сказать: Исус воскрес.
Некому: воистину воскрес.
Все больные веруют в спираль.
В Пасху, правда, солнышко играет.
Значит, мир в грехах не так погряз.
Жизнь еще пойдет на свете.
А за то, что я хоть так, а выражаю,
тетушка техничка к нам вошла
и сказала: с праздником, а я
сразу ей сказал: Христос воскрес.
И она ответила: воистину воскрес.
Казак Аникеев во тьме
Кто же в самом деле так
разорался в буераке?
То ли песня что ли там,
или кто вопят на драке.
Неохота никуда.
Только слушать или кушать.
По трубе пошла вода.
«Господа», пошли на кухню.
Гальки нет. Казак один.
Сам себе картошку чистит.
Сам за кошкою следит.
Потакает ей, как мистик.
Свет зажег. Пошла мысля.
В миг один перековала
буераки и поля
с бою-драки на орала.
По-людски
По душе мне вот так. И никто, кого спросишь, не спорит.
С годами сильнее пошел совпадения глас.
Только в юности книжной своей, то есть скорой,
что-то ссорит вдруг с братьями, сестрами нас.
Какой же абзац, человек соблазнил отличаться,
ценить нелюбимое многими, всеми почти,
когда на тебя (а скажи, есть за что) ополчатся
знакомые люди на старом знакомом пути.
Охота забиться потом, ото всех задеваться
куда-то. А после… охота пожить по-людски.
Хорошее помню — когда-то годов так в двенадцать
тоже мотался за шайбой среди городских.
Но как на беду, как на грех, был, увы, я не ловок.
Соображать на коньках, на ходу да со всеми, не мог.
И это несчастье не скрыть и не выразить словом,
особенно деревенским, а милый был слог.
Катил вкривь и вкось. И от шайбы далёко.
Не мог завернутъ. Все по кругу, по бортику, черт!
Какая же ненавистная, горькая мука-морока —
не совпадать. Для команды не делать ничо.
И я, как никто, с этих пор не хотел отличаться,
Зато, если счет добавляли мои, глянь, броски,
что было со мною, со мной настоящее счастье,
когда выходило у нас и на льду по-людски.
* * *
Кто любит свет.
Кто, неужели тьму?
Темнеет?.. — Нет, еще светло…
Тьму любят, если уж ко сну.
А свет… Ну, свет и свет.
Но свет в огромном мире тьмы.
А вдруг, наоборот —
что беспределен свет.
А тьма, лишь — вот.
* * *
Пошли завтра в музей.
С просьбами, с грустью.
В сияющий синий со снегом Зимний дворец.
Чтоб зимний был только дворец
с десятью, сто двадцатью, пятистами картинами.
А музей пусть уедет.
Доедет, глядишь, до нас.
Надо Рембрандта — поезжай в Новосибирск, в Ачинск.
Любишь Кранаха… любого —
под Энском стоит часть
и охраняет, и умнеет…
Люди! Никто не охватит его, Эрмитаж.
К роскоши с лестницы, тут же
уже привыкаешь. Голова болит.
На Неву глядишь.
А есть ведь, я точно знаю, что есть
деревенские, есть такие ребята восьмиклассники,
увидав только несколько
настоящих картин,
были бы так поражены!
Только несколько.
* * *
И все вместе влево.
И все вместе вправо.
Ветки над четвертым этажом
целый день, качаясь, повторяют
на ветру июля небольшом.
Спинки листьев сразу серебрятся.
В небе уже север облаков.
Скоро будем осыпаться, братцы,
потому что мир таков.
Час такой, что некуда деваться.
День уже кончается везде.
Никуда не надо ехать, оставаться
надо. К занавескам руки, к небесам воздев.
* * *
Резонные секунды были.
Когда же меня тут не бывает?
Как ни зайдешь, я все в каморке.
Другой раз даже зло разбирает.
Практически от меня вреда
Никакого, только странно —
Сидит и сидит, или валяется.
В августе у меня осень начинается,
Расплата за несчастное лето.
Листья желтые на меня…
О! идея — поеду по институтам к абитуриентам,
В море волнения.
Да простит одинокого
Бог меня.
* * *
Блажь у меня была — море.
Я и на море о нем мечтал.
Там у прибоя вагончик был
И кровать с бельем.
Как только шторм
В солнечный день,
Я туда раз, в вагончик.
Сяду на эту кровать
И смотрю — вот они, волны.
Прямо в окошко бегут.
И радостно задумаюсь…
Что в Москве красивые люди
Решили вместе со мной
Поехать к морю.
Я очень люблю ее.
И вот мы в вагончике.
Смотрим на море.
И тут только вижу:
Да вот оно, море-то!
Нет, не то это море!
Нет никого у волн,
И обед кончается.
И как бы валами
Избуху не завалило.
Лето
Ну, побежало, стало вот!
Перед нами и травка, и одуванчики.
Дружба, любовь цветет.
Тут и обманщики,
И обманщицы.
И ваш покорный слуга
С мечтами порвал.
Будет играть, если что —
бороться.
Мир, он воюет и, увы, воевал.
А перестал и смеется
вас может заинтересовать

Иван Овчинников
Перестал и смеется
Предисловие Игоря Гулина
18 февраля 2016 года в Новосибирске умер поэт Иван Овчинников.
Нельзя сказать, что умер в безвестности. У него вышло несколько книг. Он был заметной фигурой на литературной карте Сибири. Небольшое количество почитателей было и за ее пределами. Но исчезающе тихая известность никак не соответствует величине его дара.
Впрочем эта незаметность объяснима. Новизну стихов Овчинникова сложно зафиксировать. Во многом потому, что он работал в системе координат, в которой новаторство не представляет собой ценности. Оно проникает в такие стихи украдкой.
За близкой Овчинникову группой поэтов (Александром Денисенко, Николаем Шипиловым и другими) ненароком закрепилось обозначение «Левая Сибирь». Такое название для альманаха новосибирского андеграунда предложил в конце 1980-х годов Анатолий Маковский — самый, скажем так, европейский из их круга. Однако в привычных нам эстетических координатах авторы эти — правые.
Овчинников — более всех. Игривая консервативность, тщательно выпестованное народничество приобретают у него манифестарные формы. Он собирал фольклор и сам выступал в фольклорном ансамбле, писал о народном уме и глупости интеллигенции. Наполнял свою поэзию просторечиями, напевами, приговорками и, что важнее, — философией внимательного постоянства, мудрой бездвижности, единой у народа и природы. В литературе, принимающей такую систему ценностей, желание отличаться вызывает подозрение. Ценится совпадение, узнавание.
И действительно в стихах Овчинникова многое можно узнать — общие для поколения 60-х поэтические интонации, немножко Есенина, немножко Цветаевой, мелодику русской песни. Тоже общий для многих поиск минимальной меры поэтического, укладывающейся в две строчки, два слова.
Эти стихи — вообще очень простые. Они не требуют от читателя подкованности, усилия расшифровки. Все, что спрятано в них, спрятано на виду — как в «Украденном письме» Эдгара По. Именно хорошо знакомое, узнаваемое отвлекает нас от чуда этой поэзии.
Чудо это — удивительная переплавка языка, которая происходит в овчинниковских текстах. Ее сила вполне сравнима с открытиями главных новаторов его поколения. Но если в поэзии Айги, Еремина, Некрасова метаморфозы зримы, то у Овчинникова они лукаво прикрыты ворохом пустяков, сиротской простотой.
Странная, немного юродивая хитрость, которая чувствуется в его будто бы простодушных признаниях и любованиях, — это не разоблачительная ирония. Она не раскрывает, но скрывает. Как засыпают пеплом жар костра — приглушая его, превращая в тепло.
Именно тепло — главное свойство стихов Овчинникова. Слова в них как-то по-особому льнут друг к другу. Они теряют наносную гордость крепких значений — как сбрасывают в деревенской неге городской костюм и с ним лишние приличия. Однако эта вольность не предполагает отказа от культуры. Напротив — весь большой мир с его музеями, симфониями и книгами она захватывает утопией добрососедства.
Мы привыкли к тому, что хорошая поэзия должна озадачивать, беспокоить. Нам не так просто полюбить и увидеть гармонию. Именно это делает трудным, неуловимым открытие Овчинникова. Оно — в новом, не описанном никем до него счастье.
Выздоравливаю
Вот и Пасха, солнышко играет.
Некому сказать: Исус воскрес.
Некому: воистину воскрес.
Все больные веруют в спираль.
В Пасху, правда, солнышко играет.
Значит, мир в грехах не так погряз.
Жизнь еще пойдет на свете.
А за то, что я хоть так, а выражаю,
тетушка техничка к нам вошла
и сказала: с праздником, а я
сразу ей сказал: Христос воскрес.
И она ответила: воистину воскрес.
Казак Аникеев во тьме
Кто же в самом деле так
разорался в буераке?
То ли песня что ли там,
или кто вопят на драке.
Неохота никуда.
Только слушать или кушать.
По трубе пошла вода.
«Господа», пошли на кухню.
Гальки нет. Казак один.
Сам себе картошку чистит.
Сам за кошкою следит.
Потакает ей, как мистик.
Свет зажег. Пошла мысля.
В миг один перековала
буераки и поля
с бою-драки на орала.
По-людски
По душе мне вот так. И никто, кого спросишь, не спорит.
С годами сильнее пошел совпадения глас.
Только в юности книжной своей, то есть скорой,
что-то ссорит вдруг с братьями, сестрами нас.
Какой же абзац, человек соблазнил отличаться,
ценить нелюбимое многими, всеми почти,
когда на тебя (а скажи, есть за что) ополчатся
знакомые люди на старом знакомом пути.
Охота забиться потом, ото всех задеваться
куда-то. А после… охота пожить по-людски.
Хорошее помню — когда-то годов так в двенадцать
тоже мотался за шайбой среди городских.
Но как на беду, как на грех, был, увы, я не ловок.
Соображать на коньках, на ходу да со всеми, не мог.
И это несчастье не скрыть и не выразить словом,
особенно деревенским, а милый был слог.
Катил вкривь и вкось. И от шайбы далёко.
Не мог завернутъ. Все по кругу, по бортику, черт!
Какая же ненавистная, горькая мука-морока —
не совпадать. Для команды не делать ничо.
И я, как никто, с этих пор не хотел отличаться,
Зато, если счет добавляли мои, глянь, броски,
что было со мною, со мной настоящее счастье,
когда выходило у нас и на льду по-людски.
* * *
Кто любит свет.
Кто, неужели тьму?
Темнеет?.. — Нет, еще светло…
Тьму любят, если уж ко сну.
А свет… Ну, свет и свет.
Но свет в огромном мире тьмы.
А вдруг, наоборот —
что беспределен свет.
А тьма, лишь — вот.
* * *
Пошли завтра в музей.
С просьбами, с грустью.
В сияющий синий со снегом Зимний дворец.
Чтоб зимний был только дворец
с десятью, сто двадцатью, пятистами картинами.
А музей пусть уедет.
Доедет, глядишь, до нас.
Надо Рембрандта — поезжай в Новосибирск, в Ачинск.
Любишь Кранаха… любого —
под Энском стоит часть
и охраняет, и умнеет…
Люди! Никто не охватит его, Эрмитаж.
К роскоши с лестницы, тут же
уже привыкаешь. Голова болит.
На Неву глядишь.
А есть ведь, я точно знаю, что есть
деревенские, есть такие ребята восьмиклассники,
увидав только несколько
настоящих картин,
были бы так поражены!
Только несколько.
* * *
И все вместе влево.
И все вместе вправо.
Ветки над четвертым этажом
целый день, качаясь, повторяют
на ветру июля небольшом.
Спинки листьев сразу серебрятся.
В небе уже север облаков.
Скоро будем осыпаться, братцы,
потому что мир таков.
Час такой, что некуда деваться.
День уже кончается везде.
Никуда не надо ехать, оставаться
надо. К занавескам руки, к небесам воздев.
* * *
Резонные секунды были.
Когда же меня тут не бывает?
Как ни зайдешь, я все в каморке.
Другой раз даже зло разбирает.
Практически от меня вреда
Никакого, только странно —
Сидит и сидит, или валяется.
В августе у меня осень начинается,
Расплата за несчастное лето.
Листья желтые на меня…
О! идея — поеду по институтам к абитуриентам,
В море волнения.
Да простит одинокого
Бог меня.
* * *
Блажь у меня была — море.
Я и на море о нем мечтал.
Там у прибоя вагончик был
И кровать с бельем.
Как только шторм
В солнечный день,
Я туда раз, в вагончик.
Сяду на эту кровать
И смотрю — вот они, волны.
Прямо в окошко бегут.
И радостно задумаюсь…
Что в Москве красивые люди
Решили вместе со мной
Поехать к морю.
Я очень люблю ее.
И вот мы в вагончике.
Смотрим на море.
И тут только вижу:
Да вот оно, море-то!
Нет, не то это море!
Нет никого у волн,
И обед кончается.
И как бы валами
Избуху не завалило.
Лето
Ну, побежало, стало вот!
Перед нами и травка, и одуванчики.
Дружба, любовь цветет.
Тут и обманщики,
И обманщицы.
И ваш покорный слуга
С мечтами порвал.
Будет играть, если что —
бороться.
Мир, он воюет и, увы, воевал.
А перестал и смеется
Нельзя сказать, что умер в безвестности. У него вышло несколько книг. Он был заметной фигурой на литературной карте Сибири. Небольшое количество почитателей было и за ее пределами. Но исчезающе тихая известность никак не соответствует величине его дара.
Впрочем эта незаметность объяснима. Новизну стихов Овчинникова сложно зафиксировать. Во многом потому, что он работал в системе координат, в которой новаторство не представляет собой ценности. Оно проникает в такие стихи украдкой.
За близкой Овчинникову группой поэтов (Александром Денисенко, Николаем Шипиловым и другими) ненароком закрепилось обозначение «Левая Сибирь». Такое название для альманаха новосибирского андеграунда предложил в конце 1980-х годов Анатолий Маковский — самый, скажем так, европейский из их круга. Однако в привычных нам эстетических координатах авторы эти — правые.
Овчинников — более всех. Игривая консервативность, тщательно выпестованное народничество приобретают у него манифестарные формы. Он собирал фольклор и сам выступал в фольклорном ансамбле, писал о народном уме и глупости интеллигенции. Наполнял свою поэзию просторечиями, напевами, приговорками и, что важнее, — философией внимательного постоянства, мудрой бездвижности, единой у народа и природы. В литературе, принимающей такую систему ценностей, желание отличаться вызывает подозрение. Ценится совпадение, узнавание.
И действительно в стихах Овчинникова многое можно узнать — общие для поколения 60-х поэтические интонации, немножко Есенина, немножко Цветаевой, мелодику русской песни. Тоже общий для многих поиск минимальной меры поэтического, укладывающейся в две строчки, два слова.
Эти стихи — вообще очень простые. Они не требуют от читателя подкованности, усилия расшифровки. Все, что спрятано в них, спрятано на виду — как в «Украденном письме» Эдгара По. Именно хорошо знакомое, узнаваемое отвлекает нас от чуда этой поэзии.
Чудо это — удивительная переплавка языка, которая происходит в овчинниковских текстах. Ее сила вполне сравнима с открытиями главных новаторов его поколения. Но если в поэзии Айги, Еремина, Некрасова метаморфозы зримы, то у Овчинникова они лукаво прикрыты ворохом пустяков, сиротской простотой.
Странная, немного юродивая хитрость, которая чувствуется в его будто бы простодушных признаниях и любованиях, — это не разоблачительная ирония. Она не раскрывает, но скрывает. Как засыпают пеплом жар костра — приглушая его, превращая в тепло.
Именно тепло — главное свойство стихов Овчинникова. Слова в них как-то по-особому льнут друг к другу. Они теряют наносную гордость крепких значений — как сбрасывают в деревенской неге городской костюм и с ним лишние приличия. Однако эта вольность не предполагает отказа от культуры. Напротив — весь большой мир с его музеями, симфониями и книгами она захватывает утопией добрососедства.
Мы привыкли к тому, что хорошая поэзия должна озадачивать, беспокоить. Нам не так просто полюбить и увидеть гармонию. Именно это делает трудным, неуловимым открытие Овчинникова. Оно — в новом, не описанном никем до него счастье.
Выздоравливаю
Вот и Пасха, солнышко играет.
Некому сказать: Исус воскрес.
Некому: воистину воскрес.
Все больные веруют в спираль.
В Пасху, правда, солнышко играет.
Значит, мир в грехах не так погряз.
Жизнь еще пойдет на свете.
А за то, что я хоть так, а выражаю,
тетушка техничка к нам вошла
и сказала: с праздником, а я
сразу ей сказал: Христос воскрес.
И она ответила: воистину воскрес.
Казак Аникеев во тьме
Кто же в самом деле так
разорался в буераке?
То ли песня что ли там,
или кто вопят на драке.
Неохота никуда.
Только слушать или кушать.
По трубе пошла вода.
«Господа», пошли на кухню.
Гальки нет. Казак один.
Сам себе картошку чистит.
Сам за кошкою следит.
Потакает ей, как мистик.
Свет зажег. Пошла мысля.
В миг один перековала
буераки и поля
с бою-драки на орала.
По-людски
По душе мне вот так. И никто, кого спросишь, не спорит.
С годами сильнее пошел совпадения глас.
Только в юности книжной своей, то есть скорой,
что-то ссорит вдруг с братьями, сестрами нас.
Какой же абзац, человек соблазнил отличаться,
ценить нелюбимое многими, всеми почти,
когда на тебя (а скажи, есть за что) ополчатся
знакомые люди на старом знакомом пути.
Охота забиться потом, ото всех задеваться
куда-то. А после… охота пожить по-людски.
Хорошее помню — когда-то годов так в двенадцать
тоже мотался за шайбой среди городских.
Но как на беду, как на грех, был, увы, я не ловок.
Соображать на коньках, на ходу да со всеми, не мог.
И это несчастье не скрыть и не выразить словом,
особенно деревенским, а милый был слог.
Катил вкривь и вкось. И от шайбы далёко.
Не мог завернутъ. Все по кругу, по бортику, черт!
Какая же ненавистная, горькая мука-морока —
не совпадать. Для команды не делать ничо.
И я, как никто, с этих пор не хотел отличаться,
Зато, если счет добавляли мои, глянь, броски,
что было со мною, со мной настоящее счастье,
когда выходило у нас и на льду по-людски.
* * *
Кто любит свет.
Кто, неужели тьму?
Темнеет?.. — Нет, еще светло…
Тьму любят, если уж ко сну.
А свет… Ну, свет и свет.
Но свет в огромном мире тьмы.
А вдруг, наоборот —
что беспределен свет.
А тьма, лишь — вот.
* * *
Пошли завтра в музей.
С просьбами, с грустью.
В сияющий синий со снегом Зимний дворец.
Чтоб зимний был только дворец
с десятью, сто двадцатью, пятистами картинами.
А музей пусть уедет.
Доедет, глядишь, до нас.
Надо Рембрандта — поезжай в Новосибирск, в Ачинск.
Любишь Кранаха… любого —
под Энском стоит часть
и охраняет, и умнеет…
Люди! Никто не охватит его, Эрмитаж.
К роскоши с лестницы, тут же
уже привыкаешь. Голова болит.
На Неву глядишь.
А есть ведь, я точно знаю, что есть
деревенские, есть такие ребята восьмиклассники,
увидав только несколько
настоящих картин,
были бы так поражены!
Только несколько.
* * *
И все вместе влево.
И все вместе вправо.
Ветки над четвертым этажом
целый день, качаясь, повторяют
на ветру июля небольшом.
Спинки листьев сразу серебрятся.
В небе уже север облаков.
Скоро будем осыпаться, братцы,
потому что мир таков.
Час такой, что некуда деваться.
День уже кончается везде.
Никуда не надо ехать, оставаться
надо. К занавескам руки, к небесам воздев.
* * *
Резонные секунды были.
Когда же меня тут не бывает?
Как ни зайдешь, я все в каморке.
Другой раз даже зло разбирает.
Практически от меня вреда
Никакого, только странно —
Сидит и сидит, или валяется.
В августе у меня осень начинается,
Расплата за несчастное лето.
Листья желтые на меня…
О! идея — поеду по институтам к абитуриентам,
В море волнения.
Да простит одинокого
Бог меня.
* * *
Блажь у меня была — море.
Я и на море о нем мечтал.
Там у прибоя вагончик был
И кровать с бельем.
Как только шторм
В солнечный день,
Я туда раз, в вагончик.
Сяду на эту кровать
И смотрю — вот они, волны.
Прямо в окошко бегут.
И радостно задумаюсь…
Что в Москве красивые люди
Решили вместе со мной
Поехать к морю.
Я очень люблю ее.
И вот мы в вагончике.
Смотрим на море.
И тут только вижу:
Да вот оно, море-то!
Нет, не то это море!
Нет никого у волн,
И обед кончается.
И как бы валами
Избуху не завалило.
Лето
Ну, побежало, стало вот!
Перед нами и травка, и одуванчики.
Дружба, любовь цветет.
Тут и обманщики,
И обманщицы.
И ваш покорный слуга
С мечтами порвал.
Будет играть, если что —
бороться.
Мир, он воюет и, увы, воевал.
А перестал и смеется
вас может заинтересовать

