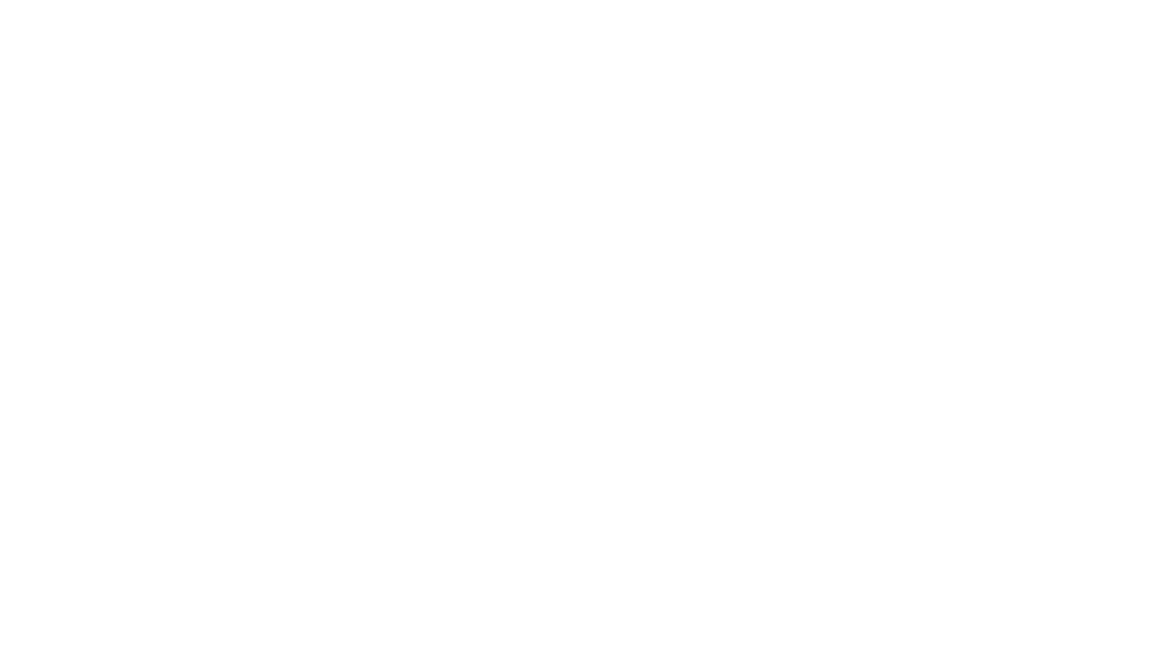
Шамшад Абдуллаев
Дубль
Стена в сторонке тмится сейчас от бликующих пчел. Июнь? Полыхает лишь правая половина угловатого участка, протоптанного когда-то босыми ногами забредавших сюда темнолицых, поджарых, обедневших дехкан, давно сгинувших с этих мест, и пешими купцами в гранатово-черных калошах. Воскресное утро? Но левая часть проходного пассажа по затемненному периметру, шугаясь огнистых, жужжащих искр, в подошве выбеленных дувалов, образует витую мглу, в которой копится летняя прохлада. Нет, июль, скоро полдень. Пойдешь к друзьям? Уцелевшим. К двум братьям, Теофилу и Костасу, к двум анашистски тихим близнецам, увязшим после смерти родителей в дымчатом дурмане немых тюркских сирен (и в мирном куреве истощается наследство их партизанско-греческих предков), к двум незаметно, как и ты, постаревшим братьям, к двум известным в городке трогательно болтливым домашним книгочеям, обожающим с тобой рассуждать о черных полковниках, о Ксенакисе, о бойцах ЭЛАС, о Гиперионе; безработные холостяки, живущие на улице Кирова (бывшей), около Комсомольского озера (тоже бывшего), в ашкеназском квартале (ни эллина, ни иудея), в приземистом домике бирюзового цвета (уютная под шиферной крышей саманно-кирпичная усыпальница многоязычного радушия), в сохранившейся до сих пор барачной атмосфере пятидесятых годов. Там, в общем дворе, в полынных зарослях, в которых буравчатое, горькое удушье вострится в той мере быстро, в какой слабеет в них дневное освещение, за песчаной кромкой запущенного сада, возле ребристого сарая, дядя Натан орудует чустским ножом (раненый полумесяц и две звезды в каплях пота на оливковом лезвии). Усатые тетушки встают к резнику в очередь; головой вниз пульсируют скрипуче в их руках беззубые, мутные, узловатые курицы; женщины, стоя боком друг к другу, подпаляют окрестный воздух ноздреватым окликанием своей занозистой артикуляции, густой, колючей гроздью пористых реплик — они словно говорят на немецком с завязанными глазами… Так, вы пойдете к друзьям? — доносится женский голос из столовой, такой мякотный, сочный зов сорокалетней хозяйки (вдова?) частной, п-образной, одноэтажной мехмонхоны с внутренним прогулочным пространством (наполовину короче теннисного корта), в дальнем развороте которого с постоянно открытой входной дверью над трехступенчатым, цементным крылечком видна, как уплощенный расстоянием узкий пенал, безоконная комната, куда вернешься через сорок минут. Женщина готовит твой поздний завтрак; яичница с ветчиной, черный ржаной хлеб, кофе; подражает своим западным товаркам; закат Европы; аментет. Если решили пойти в гости, слышен ее встречный крик в твою сторону, возьмите три лепешки; если ступите в чужой дом в полдень, настаивает она спокойнее, подле кухонной плиты, когда ты появляешься в столовой, не забудьте взять три лепешки; как всегда, просыпаетесь в середине дня, говорит она, в самую жару, снова читали книги до глубокой ночи, мне бы вашу беззаботность. Три солнцеликих диска, думаешь, брошенных на узорчатую скатерть, на льняной
г. Фергана, 2018 г.
г. Фергана, 2018 г.
Чуст — городок в Ферганской долине, славится производством художественных ножей. (Здесь и далее примеч. авт.)
Мехмонхона (узб.) — постоялый двор, заезжий дом, гостиница.
Дастархан (узб.) — обеденная скатерть, трапезный стол, яства земные и т.д.
Нават (узб.) — среднеазиатская сладость, сахар в форме комьевидного кристалла.
Отинча (узб.) — женщина-богослов, учительница в исламских школах для девочек.
Бекасам (узб.) — шелковая ткань ручной работы.
Авваль (узб.) — название древнего селения под Ферганой.
Устоз (узб.) — учитель, мастер, путеводитель, учительница, духовная наставница.
Намазхон (узб.) — усердная в молитвах, одержимая молитвой, «госпожа молитвы».
Хызр Бува (мусульм.) — в среднеазиатских поверьях небесное существо, приходит к людям в облике невзрачного странника или старика, святой, покровитель путников, торговцев, мастеров слова и тех, кто выказывает гостеприимство, доброту и щедрость.
Пахтадан яна (узб.) — к тому же из хлопка.
Кет, олим хак (узб.) — прочь, смерть права.
Чек-Шура — название квартала на южной окраине Ферганы.
вас может заинтересовать
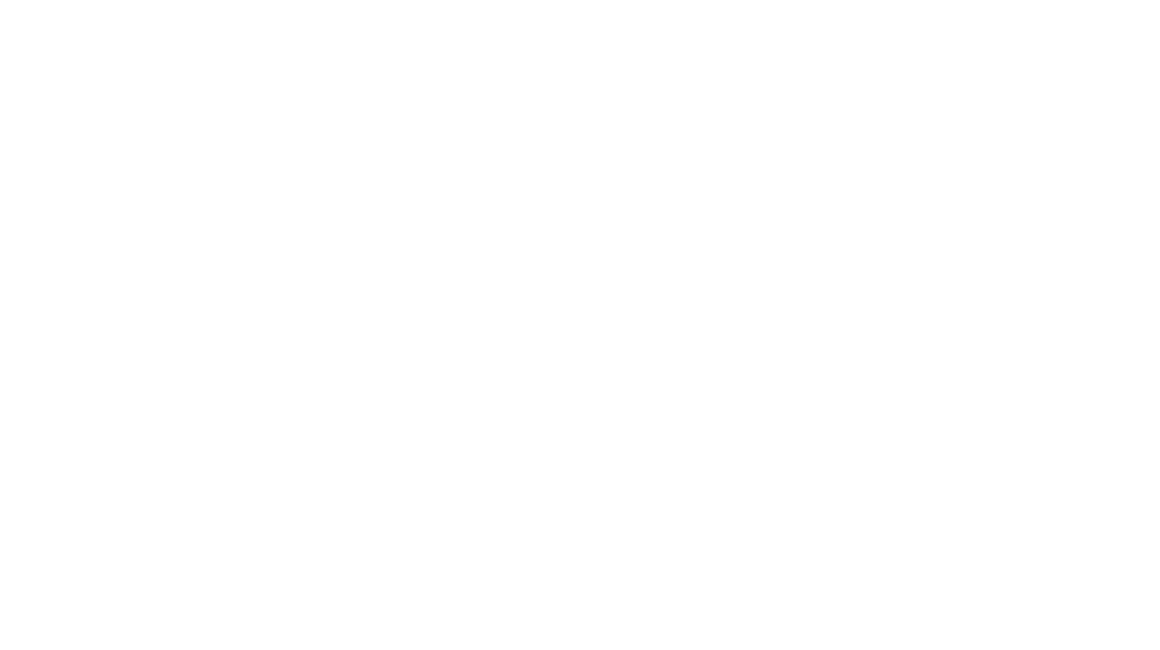
Марианна Гейде
Люди и другие существа
Стена в сторонке тмится сейчас от бликующих пчел. Июнь? Полыхает лишь правая половина угловатого участка, протоптанного когда-то босыми ногами забредавших сюда темнолицых, поджарых, обедневших дехкан, давно сгинувших с этих мест, и пешими купцами в гранатово-черных калошах. Воскресное утро? Но левая часть проходного пассажа по затемненному периметру, шугаясь огнистых, жужжащих искр, в подошве выбеленных дувалов, образует витую мглу, в которой копится летняя прохлада. Нет, июль, скоро полдень. Пойдешь к друзьям? Уцелевшим. К двум братьям, Теофилу и Костасу, к двум анашистски тихим близнецам, увязшим после смерти родителей в дымчатом дурмане немых тюркских сирен (и в мирном куреве истощается наследство их партизанско-греческих предков), к двум незаметно, как и ты, постаревшим братьям, к двум известным в городке трогательно болтливым домашним книгочеям, обожающим с тобой рассуждать о черных полковниках, о Ксенакисе, о бойцах ЭЛАС, о Гиперионе; безработные холостяки, живущие на улице Кирова (бывшей), около Комсомольского озера (тоже бывшего), в ашкеназском квартале (ни эллина, ни иудея), в приземистом домике бирюзового цвета (уютная под шиферной крышей саманно-кирпичная усыпальница многоязычного радушия), в сохранившейся до сих пор барачной атмосфере пятидесятых годов. Там, в общем дворе, в полынных зарослях, в которых буравчатое, горькое удушье вострится в той мере быстро, в какой слабеет в них дневное освещение, за песчаной кромкой запущенного сада, возле ребристого сарая, дядя Натан орудует чустским ножом (раненый полумесяц и две звезды в каплях пота на оливковом лезвии). Усатые тетушки встают к резнику в очередь; головой вниз пульсируют скрипуче в их руках беззубые, мутные, узловатые курицы; женщины, стоя боком друг к другу, подпаляют окрестный воздух ноздреватым окликанием своей занозистой артикуляции, густой, колючей гроздью пористых реплик — они словно говорят на немецком с завязанными глазами… Так, вы пойдете к друзьям? — доносится женский голос из столовой, такой мякотный, сочный зов сорокалетней хозяйки (вдова?) частной, п-образной, одноэтажной мехмонхоны с внутренним прогулочным пространством (наполовину короче теннисного корта), в дальнем развороте которого с постоянно открытой входной дверью над трехступенчатым, цементным крылечком видна, как уплощенный расстоянием узкий пенал, безоконная комната, куда вернешься через сорок минут. Женщина готовит твой поздний завтрак; яичница с ветчиной, черный ржаной хлеб, кофе; подражает своим западным товаркам; закат Европы; аментет. Если решили пойти в гости, слышен ее встречный крик в твою сторону, возьмите три лепешки; если ступите в чужой дом в полдень, настаивает она спокойнее, подле кухонной плиты, когда ты появляешься в столовой, не забудьте взять три лепешки; как всегда, просыпаетесь в середине дня, говорит она, в самую жару, снова читали книги до глубокой ночи, мне бы вашу беззаботность. Три солнцеликих диска, думаешь, брошенных на узорчатую скатерть, на льняной
г. Фергана, 2018 г.
г. Фергана, 2018 г.
вас может заинтересовать

