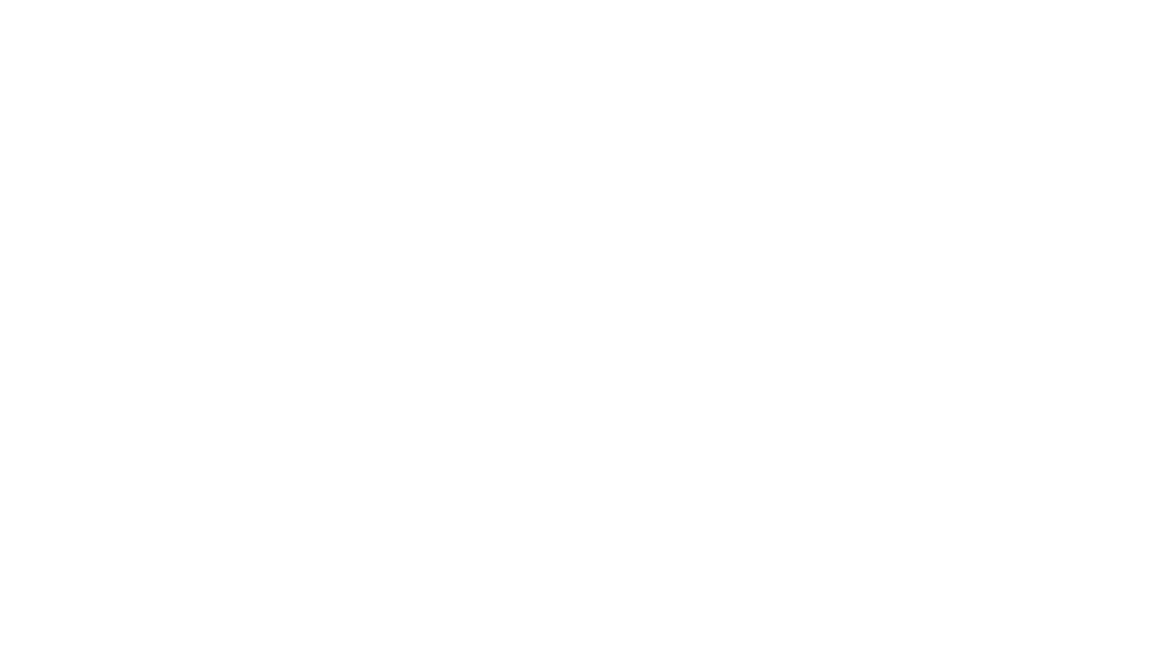
Николай Байтов
Три рассказа
ВМЕСТО МЕНЯ
— Нет, мы возьмем этого котенка!
— Нет, не возьмем, я сказала!
— Ну и вали, я сам возьму. Я сейчас скажу Глебу…
— Как это «вали»? Ты что, один живешь?… Ты Андрей, дурак. А кто будет с ним? Ты соображаешь? Он же громадный вырастет. Ты на работе, я на работе. Это ж элитная порода! Это ж не то что ты взял где-то там с помойки!… Да я сейчас позвоню Глебу, чтобы он тебе не давал, потому что котенок точно умрет. Я с ним сидеть не буду…
— Вот дура! Да чегой-то он умрет, здоровый котенок?
— Нет, я сказала. Мне этого не надо!
— Хорошо. Это твое последнее слово? Ну что ж, смотри. Ты еще об этом пожалеешь.
— Да пошел ты!
Ругаются. Молодой муж с молодой женой по телефону. Он отошел в сторону от компании. Корпоративный пикник в Серебряном Бору. Все пьяные. Конец августа. Погода жаркая. Девять часов вечера. Одни парни собрались, без жен. Едят шашлык.
Андрей, пошатываясь, идет к Глебу.
— Котенка возьму. Поругался с Наташей, все равно возьму.
— Это ты зря. Я же не говорил… Позвони ей. Не будет котенка. Не надо было ругаться.
— Почему? Ты же говорил…
— Будут. Но все расписаны, всех уже забирают.
— А чего ж ты сказал? Значит, я поздно?
— Она принесет четырех, может быть, пять. У меня пять человек давно записались.
— А если шесть?
— Если шесть, тогда шестого обязательно тебе. Обещаю. Но это маловероятно.
— Спасибо, старик, утешил. Ты идешь купаться?
— Нет, не хочу. Я сейчас домой поеду.
Парни собрались у мостика. Курят, раздеваются. Пьют пиво.
Наташа звонит:
— Андрей, я разговаривала с мамой. Она согласна. Ты слышишь меня?
— Чего?
— Я говорю: мама согласна сидеть с котенком…
— Да ты что! Она согласна, чтобы мы взяли?
— Она как услышала, что мейн-кун, сразу говорит: берите без всяких разговоров, я помогу. Только кошечку, говорит, берите.
— Кошечку — кота — посмотрим. Неизвестно еще…
Нырнули с мостика. Вообще-то уже темнело. Когда вылезли, не сразу сообразили, что не все в сборе.
— А где Андрей?
— Да вон он.
— Где?
— Вон он плывет.
— Андрей!
— Нет, это не он.
— Он вообще вынырнул или нет? Кто видел?
Нырнули снова, стали шарить в воде. Когда вытащили, он уж основательно захлебнулся. Все протрезвели. Кто мог, делал искусственное дыхание. Бесполезно. Вызвали скорую. Пока она не приехала, снова давили ему на грудь, но он был уже трупом. Скорая увезла в морг.
Глеб к тому времени уже уехал домой и не знал всего этого. Узнал на следующее утро. Потом, еще через день, были похороны и поминки. Наташа к нему подошла:
— Глеб, ты знаешь, ведь мы с ним помирились, и это было перед самой его смертью. Я сказала, что согласна взять котенка. Ты дашь? Ведь это было его последнее желание. У меня теперь чувство, что он ушел и как бы оставил мне этого котенка вместо себя.
Она не удержалась и начала плакать.
Вдруг несуразная мысль мелькнула у Глеба в голове: «Если б ты за минуту перед тем не позвонила и не сказала, что согласна, он бы, может быть, и не погиб… Потому что тогда не было б замены…». Но вслух Глеб, конечно, это не произнес.
Через два дня, когда кошка разродилась (принесла пять, но пятый был мертвым, — видимо, она его случайно придушила), Глеб позвонил друзьям, которые хотели забрать котят, и все уладил: кто-то, проникшись сочувствием к Наташе, отказался в ее пользу. Правда, достался ей котик, а не кошечка.
КЕША И АГЛАЯ
Попугаи залетели ночью из кухни в мою комнату, где я спал. — Кеша и Аглая. — Видимо, двери были открыты — из кухни в коридор и из коридора в комнату. Попугаи желто-зеленые. У Кеши больше желтых перьев, а у Аглаи — зеленых: у нее вся грудка зеленая, а спина и крылья зеленые в черную крапинку…
Кеша сел на столик между диваном и окном, прямо около моей головы. А над этим столиком развешены иконы, они занимают угол — от столика до потолка. И Кеша стал просить меня, чтобы я его научил молиться. Я взял его в руку и начал читать «Отче наш». Он повторял за мной, но не своим обычным сочным чириканьем, а как-то тихо лепетал, почти шелестел.
— Да святится имя Твое.
— Да святится имя Твое…
— Да приидет царствие Твое.
— Да приидет царствие Твое…
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Аглая сидела где-то высоко, я не помню — возможно, на лампадке под потолком — и оттуда смотрела на нас молча и тупо. О чем она думает, нельзя было ни понять, ни предположить. Скорей всего, у нее не было вообще никаких мыслей. Глаза выпуклые — две черные бусинки.
Все это меня — нельзя сказать чтобы умилило, но как-то тихо поразило. —
Я открыл глаза. — Оказалось, что я лежу на диване лицом к спинке.
Я приподнялся и оглядел комнату. — Настольная лампа горела у окна, рядом с компьютером. Попугаев не было. — То ли они улетели назад в кухню (Аглая впереди), то ли вообще не прилетали…
СКРЫЛИСЬ ОНИ
Здесь предпринята попытка восстановить ряд ветхих и мелких существ, исчезнувших в районе так называемого Сухого шлюза. Их пятнадцать или четырнадцать скрывшихся там — то ли в обрушенном здании мельницы, то ли в машинном павильоне, неплохо сохранившемся, где до сих пор можно видеть зубчатые колеса, приводившие в движение ворота, и другие, служившие, по-видимому, для поднятия и опускания сливных створок. Теперь они могут быть там где угодно, эти пятнадцать или четырнадцать сквозящих на просвет, плохо уловимых ветошек, скорей скрывшихся, нежели сокрытых кем-то или захороненных. В конце концов, они могли просто смешаться с мусором, в избытке наваленным в пустых помещениях, но все же думается, что, использовав его как завесу, они проскользнули куда-то дальше и глубже, на более спокойные и темные уровни, совсем недоступные глазу. Кое-кто из них еще мог немного задержаться, приняв вид, например, лопасти дюралевого весла, сломанного и погнутого, выглядывающего из ошметьев засохшей тины. Но неизвестно, было ли когда-нибудь время, в котором эти немощные мо́роки были кем-то видимы. Вот, наверное, одна из целей, если не главная, их собственного сокрытия — внушить сомнение в событиях прошлого. Почему они выбрали это место — другой вопрос, хоть и тоже немаловажный.
Во-первых, среди них несомненно числится высокий лисенок неизвестного пола, который раньше ходил по берегу, прячась в зарослях бредняка, перекрученного после паводков пучками сухой травы. Рыбаки кидали ему случайно выловленную мелочь, но этого не хватало, он был истощен и какое-то время еще покачивался вдалеке на длинных ногах, а потом скрылся. От него или не от него осталось название «Лисий брод» — это выше шлюза, километрах в полутора: устье лесного ручья, текущего в глубоком овраге. Выходя в пойму реки, овраг выписывает причудливую излучину, почти петлю. Здесь были деревянные мостки, но их каждую весну сносило полой водой, и в конце концов их перестали восстанавливать. Лежит только несколько округлых больших валунов, поверх которых ручей, бурля, устремляется в спокойное озерцо — и дальше, уже неспешно, втекает в реку. Вот, прыгая с одного скользкого, обросшего тиной валуна на другой, здесь и переходят. Название «Лисий брод», возможно, исчезло бы вместе с выморочным лисенком, если б не стихи поэта, ставшие вскоре известными: «За плосководьем Лисий брод, а там луга, луга. Тропы внезапный поворот из темного угла. Клин ельника бежит назад, за теменной бугор. — А там застенчивый размах березовой рукой…» — и далее: «В дождливый год на Лисий брод накинуты мостки. Тут поперек мельчайших вод стоят мальки, мальки — единой ротой во весь фронт, как новобранцы на плацу, — и вдруг — нос к носу, хвост к хвосту — мгновенный поворот. На сотне спин единый блик сверкнул — и вмиг погас. Спроси, кто вымуштровал их, какой педант, тиран иль псих? Команды кто подал сигнал? Сигнала кто отдал приказ? Приказа кто исчислил сдвиг? — Все к берегу стремглав». Быть может, лисенок, забравшись на мокрый камень, пробовал здесь ловить этих мальков, и поэт (он же, кстати, и фотограф) случайно застал его за этим занятием, спугнул — но почему-то не пожелал его назвать, а оставил лишь название места. — «Мы переходим Лисий брод и падаем в луга. Мы тонем в травах: в нос и в рот метет цветов пурга. Расчешешь и пересечешь многообразье трав…» — И получается, что о лисенке больше сказать нечего.
Мотылек — или мотыльки, поскольку неизвестно, был ли он один или их было много: он показывался часто и в разных местах, он, можно сказать, примелькался, но ни разу никто не видел одновременно двух или нескольких. Часами он сидел на полоске темного ила, перемешанного с песком, — под берегом, возле самой воды, то поднимая схлопнутые крылья, как треугольный парус, то распластывая их. Иногда он поворачивался на месте на какой-то угол — зачем, неизвестно — и снова надолго замирал. Солнечные пятна, покачивающиеся вместе с узкими листьями брединника, приходили и уходили — он все сидел: казалось, они его не интересуют. Может быть, он напитывался влагой из песка. Какой-нибудь рыбак, сидевший неподалеку, забывал о нем на минуту, увлекшись подпрыгнувшим поплавком. Потом оглядывался — там уже никого не было.
Никто не знает, когда он исчез окончательно. Можно сказать, что, не видя его, о нем забыли на некоторое время, а потом, когда вспомнили, уже длительность этого времени можно было оценить лишь с большой ошибкой: может, неделя, а может, и две…
У поэта, описавшего Лисий брод, есть в другом стихотворении (менее известном) такие строчки: «Та же самая в реке блестит вода, та же бабочка над отмелью всегда. Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот, реет, кру́жится уже девятый год». По некоторым признакам — по единственности и по неявному сопоставлению с листиком — можно предположить, что здесь запечатлен именно тот мотылек, который потом скрылся.
Все, происходящее в звездах и между ними, происходит и здесь — так следует полагать, имея в виду геометрию фрактала. Но в данном случае речь должна идти о событийной геометрии, а пока очень трудно сказать, что это такое. Если взять какие-то интуитивные соображения, то они оказываются зыбкими, как болото в тумане, где не за что ухватиться в тот момент, когда чувствуешь, что не на что опереться. А что касается звезд и межзвездного вещества, то — есть ли у них индивидуальность или, скажем скромнее, уникальность? — вопрос тоже не из простых. В то время как для любого из этих истертых, хило мерцающих лоскутков такой вопрос даже не возникает: они уникальны кричаще, вопиюще — и неважно, что эти крик и вопль не громче шелеста сухих листьев или журчанья медленной воды в камнях размытой плотины.
Мальчик на велосипеде, проехавший один раз вдоль высоковольтной линии, и екарный вахлюй, проплывший ему навстречу в надувной лодке, были как-то связаны, хоть и делали вид, что не знают друг друга. Возможно, они занимались одним исследованием в двух противоположных направлениях. Екарный вахлюй почти не греб — только подправлял, вглядываясь в заверти медленного течения впереди. Но все же иногда лодку разворачивало кормой вперед, воту́рку, — и тогда некоторое время он глядел в ту же сторону, что и мальчик. Тот, заметив это, всякий раз сердился и как будто порывался махнуть рукой угрожающе и воспретительно, но какое-то правило, которого мы не знаем, не позволяло ему так сделать, он отводил возмущенный взгляд от реки и направлял снова на дорогу — кривую и в колдобинах.
И скрылись они порознь: екарный вахлюй еще долго после исчезновения мальчика жил в палатке на верети́ще, на правом берегу, примерно в километре ниже плотины. Потом палатка какое-то время стояла там под елками, вроде бы заброшенная: провисла уже и покосилась. Но она была застегнута изнутри, и прошел, наверное, месяц, прежде чем кто-то из рыбаков решился в нее заглянуть. Там нашли труп мужчины в тренировочном костюме и кроссовках, и хотя он уже сильно разложился, сразу было понятно, что это не екарный вахлюй, а кто-то другой. Рядом внутри лежало и все нехитрое снаряжение екарного вахлюя, а отчего умер мужчина — осталось неизвестным: ран и крови на нем не было. Полиция, приплывшая на катере, увезла тело в город. Потом нашли надувную лодку без весел — она застряла в заросшей протоке среди камыша и рогоза, в трех километрах ниже верети́ща, — но и в лодке никаких следов екарного вахлюя не оказалось.
В какие-то годы река уклонилась немного вправо, а пониже шлюза намыло высокую отмель, так что проходить его стало совсем нельзя. Да им и раньше редко пользовались, а потом плотину размыло, она стала разрушаться и постепенно превратилась просто в небольшой перекат. На дне шлюза сначала стояла вода, — собственно, лужа, которая каждой весной полнилась, но с каждым летом делалась все мельче, — теперь там жидкая грязь и мусор, состоящий в основном из пластиковых бутылок.
Если задуматься, каким образом они скрылись, то представится, будто они сначала истончались и становились плоскими, как листья или бумажки, но происходило это довольно быстро — для кого-то из них стремительно. И, хотя скрылись они в разное время, но странным образом под постройки Сухого шлюза они юркнули все вместе, сложившись в кипу, а вернее в тонкую стопку, словно бы ускользающую от какого-то преследования. Странно еще и то, что эта стопка никоим образом не похожа на пачку, например, фотографий, что с определенной точки зрения казалось бы естественным. А на что она похожа, сказать нельзя, потому что под более сосредоточенным, сфокусированным взглядом она стремительно начинает расползаться и рассыпаться, как будто огонь ее ест и она тлеет на сильном ветру.
Дальше следуют несколько птиц. Если старательно припомнить, то определенно можно назвать по крайней мере четырех. — Это винтохвостка, шилохвостка, попугай и чайка, которую окрестные жители называли витахой.
Наиболее заметным из них был попугай. Он был крупным, но не ярким — темно-зеленым с просинью. Он неподвижно сидел на старой разломанной ветле, иногда менял позицию, перелетая с одной ветки на другую. Он не кричал и не говорил. Далеко вниз свисал его острый хвост. И темный крючковатый клюв, если приглядеться, был виден. Люди гадали, откуда он мог взяться, и вскоре сообразили сообщить о нем в детский санаторий. Оказалось, что действительно он улетел от них, преодолев зачем-то расстояние больше пяти километров. За ним пришли, пытались звать и ловить, он взлетел со своей ветлы, и больше его не видели.
Витаха же приплыла по реке сверху и задержалась на время у плотины. Она не летала — видимо, у нее было повреждено крыло, — плавала ниже слива вместе с какой-то обыкновенной, но одинокой шилохвостью, тоже неизвестно откуда взявшейся. Но держались они всегда на расстоянии друг от друга. Шилохвость питалась чем-то своим на мелководье, а витаха должна была бы ловить рыбу, но из сидячего положения это у нее не получалось, и она, наверное, голодала.
Что до винтохвостки, то это обычная ласточка, проносившаяся над рекой в разных направлениях, — из тех, что роют гнезда в отвесных речных обрывах. Береговушками их еще зовут. Если бы здесь поблизости были такие обрывы, никто б и внимания ей не уделил.
Почему среди скрывшихся эфемеров нет ни одного растения — цветка или какой-нибудь невзрачной травы? — Это вопрос странный и, наверное, важный. Возможно, что они есть и даже очень много — целые толпы увядших и высохших, — но они скрываются скрытно, то есть так, что никто этого не замечает. Потому что мы не привыкли в растении видеть индивидуальность, разве что в каком-нибудь могучем дубе, кедре или секвойе. А исчезни, например, какая-нибудь хрупкая березка или даже куст орешника с опушки, находящейся всего в ста пятидесяти метрах от реки, за высоковольткой, мы не опознали бы пустоты на их месте, потому что рядом много других, очень похожих. Что уж говорить о травах — о целых спутанных мирах клевера, пижмы, полыни, конского щавеля, оплетенных многажды и во всех направлениях вьюнком и мышиным горошком и обитаемых миллионами насекомых…
Супружеская пара (он заметно старше нее, но и она совсем не молода) появлялась редко. Он нес ящичек с тремя свернутыми металлическими ножками. Это был этюдник. Где-нибудь на берегу ножки раздвигались, как телескопы, и этюдник устанавливался горизонтально, открывался: в нем были краски и кисти. Женщина садилась на раскладную скамеечку и принималась рисовать пейзаж. Мужчина тоже рисовал, но на весу, стоя. Притом он еще и бегал вокруг этюдника — в левой руке у него была картонка, в правой кисточка, и он то и дело наклонялся и макал кисточку в какую-нибудь из тех красок, которые женщина развела на палитре перед собой. Хорошо они рисовали или плохо — никто не знает, потому что никто к ним не приближался и не смотрел, стеснялись. Даже неизвестно, какими красками они рисовали — акварелью, маслом ли или акрилом, а то, может быть, темперой или гуашью… Однажды видели издали, что будто бы они рисуют одну картину вдвоем. Но поручиться нельзя, точно этого никто не скажет, может быть, они вообще не рисовали, а лишь имитировали похожие движения зачем-то. Фотограф-ала́харь, он же поэт — тот самый, что прославил Лисий брод и увидел индивидуальность в кружащемся желтом листике, — подходил к ним пару раз и о чем-то разговаривал. Но вряд ли он фотографировал их или их картины. К тому же он сам исчез в свой черед, и спросить у него невозможно. Хотя скрылся он несколько в ином смысле и в ином направлении — не в сторону Сухого шлюза, а, наоборот, прочь от реки и куда-то на север, — а потому и спрятался он, может быть, не окончательно, однако толку какого-либо от него ждать или добиваться — это дело, по-видимому, безнадежное.
Наконец, была еще девушка, которую укусила змея. Она приехала на мопеде из деревни с каким-то парнем. Верней, мопедов было несколько, потому что приехала целая компания. Пили пиво и коктейли из жестяных банок, некоторые купались. Стоял яркий день конца июля. Девушка в купальнике и босиком забрела зачем-то на отмель, намытую ниже шлюза. Отмель была длинная и сырая, уже давно заросшая травой вроде низкой осоки. И девушка вдруг закричала, почувствовав острый укус и увидев извилистое быстрое движение в траве рядом с ногой. Парень, который ее привез, бросился к ней, перетащил на руках на берег и стал старательно высасывать из ранки яд, то и дело сплевывая. А другие парни, обув кроссовки, пошли на отмель с палками и камнями — искать и наказывать эту змею. Вроде бы они ее нашли, стали бить и как будто даже перебили ей хребет, но прикончить не смогли, потому что змея — с уже расплющенной спиной — куда-то скрылась в траве, и больше ее не видели, как ни искали. С девушкой же ничего особенного не случилось: нога опухла, но не сильно, ее отвезли в деревню и там еще чем-то помогли.
— Нет, мы возьмем этого котенка!
— Нет, не возьмем, я сказала!
— Ну и вали, я сам возьму. Я сейчас скажу Глебу…
— Как это «вали»? Ты что, один живешь?… Ты Андрей, дурак. А кто будет с ним? Ты соображаешь? Он же громадный вырастет. Ты на работе, я на работе. Это ж элитная порода! Это ж не то что ты взял где-то там с помойки!… Да я сейчас позвоню Глебу, чтобы он тебе не давал, потому что котенок точно умрет. Я с ним сидеть не буду…
— Вот дура! Да чегой-то он умрет, здоровый котенок?
— Нет, я сказала. Мне этого не надо!
— Хорошо. Это твое последнее слово? Ну что ж, смотри. Ты еще об этом пожалеешь.
— Да пошел ты!
Ругаются. Молодой муж с молодой женой по телефону. Он отошел в сторону от компании. Корпоративный пикник в Серебряном Бору. Все пьяные. Конец августа. Погода жаркая. Девять часов вечера. Одни парни собрались, без жен. Едят шашлык.
Андрей, пошатываясь, идет к Глебу.
— Котенка возьму. Поругался с Наташей, все равно возьму.
— Это ты зря. Я же не говорил… Позвони ей. Не будет котенка. Не надо было ругаться.
— Почему? Ты же говорил…
— Будут. Но все расписаны, всех уже забирают.
— А чего ж ты сказал? Значит, я поздно?
— Она принесет четырех, может быть, пять. У меня пять человек давно записались.
— А если шесть?
— Если шесть, тогда шестого обязательно тебе. Обещаю. Но это маловероятно.
— Спасибо, старик, утешил. Ты идешь купаться?
— Нет, не хочу. Я сейчас домой поеду.
Парни собрались у мостика. Курят, раздеваются. Пьют пиво.
Наташа звонит:
— Андрей, я разговаривала с мамой. Она согласна. Ты слышишь меня?
— Чего?
— Я говорю: мама согласна сидеть с котенком…
— Да ты что! Она согласна, чтобы мы взяли?
— Она как услышала, что мейн-кун, сразу говорит: берите без всяких разговоров, я помогу. Только кошечку, говорит, берите.
— Кошечку — кота — посмотрим. Неизвестно еще…
Нырнули с мостика. Вообще-то уже темнело. Когда вылезли, не сразу сообразили, что не все в сборе.
— А где Андрей?
— Да вон он.
— Где?
— Вон он плывет.
— Андрей!
— Нет, это не он.
— Он вообще вынырнул или нет? Кто видел?
Нырнули снова, стали шарить в воде. Когда вытащили, он уж основательно захлебнулся. Все протрезвели. Кто мог, делал искусственное дыхание. Бесполезно. Вызвали скорую. Пока она не приехала, снова давили ему на грудь, но он был уже трупом. Скорая увезла в морг.
Глеб к тому времени уже уехал домой и не знал всего этого. Узнал на следующее утро. Потом, еще через день, были похороны и поминки. Наташа к нему подошла:
— Глеб, ты знаешь, ведь мы с ним помирились, и это было перед самой его смертью. Я сказала, что согласна взять котенка. Ты дашь? Ведь это было его последнее желание. У меня теперь чувство, что он ушел и как бы оставил мне этого котенка вместо себя.
Она не удержалась и начала плакать.
Вдруг несуразная мысль мелькнула у Глеба в голове: «Если б ты за минуту перед тем не позвонила и не сказала, что согласна, он бы, может быть, и не погиб… Потому что тогда не было б замены…». Но вслух Глеб, конечно, это не произнес.
Через два дня, когда кошка разродилась (принесла пять, но пятый был мертвым, — видимо, она его случайно придушила), Глеб позвонил друзьям, которые хотели забрать котят, и все уладил: кто-то, проникшись сочувствием к Наташе, отказался в ее пользу. Правда, достался ей котик, а не кошечка.
КЕША И АГЛАЯ
Попугаи залетели ночью из кухни в мою комнату, где я спал. — Кеша и Аглая. — Видимо, двери были открыты — из кухни в коридор и из коридора в комнату. Попугаи желто-зеленые. У Кеши больше желтых перьев, а у Аглаи — зеленых: у нее вся грудка зеленая, а спина и крылья зеленые в черную крапинку…
Кеша сел на столик между диваном и окном, прямо около моей головы. А над этим столиком развешены иконы, они занимают угол — от столика до потолка. И Кеша стал просить меня, чтобы я его научил молиться. Я взял его в руку и начал читать «Отче наш». Он повторял за мной, но не своим обычным сочным чириканьем, а как-то тихо лепетал, почти шелестел.
— Да святится имя Твое.
— Да святится имя Твое…
— Да приидет царствие Твое.
— Да приидет царствие Твое…
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Аглая сидела где-то высоко, я не помню — возможно, на лампадке под потолком — и оттуда смотрела на нас молча и тупо. О чем она думает, нельзя было ни понять, ни предположить. Скорей всего, у нее не было вообще никаких мыслей. Глаза выпуклые — две черные бусинки.
Все это меня — нельзя сказать чтобы умилило, но как-то тихо поразило. —
Я открыл глаза. — Оказалось, что я лежу на диване лицом к спинке.
Я приподнялся и оглядел комнату. — Настольная лампа горела у окна, рядом с компьютером. Попугаев не было. — То ли они улетели назад в кухню (Аглая впереди), то ли вообще не прилетали…
СКРЫЛИСЬ ОНИ
Здесь предпринята попытка восстановить ряд ветхих и мелких существ, исчезнувших в районе так называемого Сухого шлюза. Их пятнадцать или четырнадцать скрывшихся там — то ли в обрушенном здании мельницы, то ли в машинном павильоне, неплохо сохранившемся, где до сих пор можно видеть зубчатые колеса, приводившие в движение ворота, и другие, служившие, по-видимому, для поднятия и опускания сливных створок. Теперь они могут быть там где угодно, эти пятнадцать или четырнадцать сквозящих на просвет, плохо уловимых ветошек, скорей скрывшихся, нежели сокрытых кем-то или захороненных. В конце концов, они могли просто смешаться с мусором, в избытке наваленным в пустых помещениях, но все же думается, что, использовав его как завесу, они проскользнули куда-то дальше и глубже, на более спокойные и темные уровни, совсем недоступные глазу. Кое-кто из них еще мог немного задержаться, приняв вид, например, лопасти дюралевого весла, сломанного и погнутого, выглядывающего из ошметьев засохшей тины. Но неизвестно, было ли когда-нибудь время, в котором эти немощные мо́роки были кем-то видимы. Вот, наверное, одна из целей, если не главная, их собственного сокрытия — внушить сомнение в событиях прошлого. Почему они выбрали это место — другой вопрос, хоть и тоже немаловажный.
Во-первых, среди них несомненно числится высокий лисенок неизвестного пола, который раньше ходил по берегу, прячась в зарослях бредняка, перекрученного после паводков пучками сухой травы. Рыбаки кидали ему случайно выловленную мелочь, но этого не хватало, он был истощен и какое-то время еще покачивался вдалеке на длинных ногах, а потом скрылся. От него или не от него осталось название «Лисий брод» — это выше шлюза, километрах в полутора: устье лесного ручья, текущего в глубоком овраге. Выходя в пойму реки, овраг выписывает причудливую излучину, почти петлю. Здесь были деревянные мостки, но их каждую весну сносило полой водой, и в конце концов их перестали восстанавливать. Лежит только несколько округлых больших валунов, поверх которых ручей, бурля, устремляется в спокойное озерцо — и дальше, уже неспешно, втекает в реку. Вот, прыгая с одного скользкого, обросшего тиной валуна на другой, здесь и переходят. Название «Лисий брод», возможно, исчезло бы вместе с выморочным лисенком, если б не стихи поэта, ставшие вскоре известными: «За плосководьем Лисий брод, а там луга, луга. Тропы внезапный поворот из темного угла. Клин ельника бежит назад, за теменной бугор. — А там застенчивый размах березовой рукой…» — и далее: «В дождливый год на Лисий брод накинуты мостки. Тут поперек мельчайших вод стоят мальки, мальки — единой ротой во весь фронт, как новобранцы на плацу, — и вдруг — нос к носу, хвост к хвосту — мгновенный поворот. На сотне спин единый блик сверкнул — и вмиг погас. Спроси, кто вымуштровал их, какой педант, тиран иль псих? Команды кто подал сигнал? Сигнала кто отдал приказ? Приказа кто исчислил сдвиг? — Все к берегу стремглав». Быть может, лисенок, забравшись на мокрый камень, пробовал здесь ловить этих мальков, и поэт (он же, кстати, и фотограф) случайно застал его за этим занятием, спугнул — но почему-то не пожелал его назвать, а оставил лишь название места. — «Мы переходим Лисий брод и падаем в луга. Мы тонем в травах: в нос и в рот метет цветов пурга. Расчешешь и пересечешь многообразье трав…» — И получается, что о лисенке больше сказать нечего.
Мотылек — или мотыльки, поскольку неизвестно, был ли он один или их было много: он показывался часто и в разных местах, он, можно сказать, примелькался, но ни разу никто не видел одновременно двух или нескольких. Часами он сидел на полоске темного ила, перемешанного с песком, — под берегом, возле самой воды, то поднимая схлопнутые крылья, как треугольный парус, то распластывая их. Иногда он поворачивался на месте на какой-то угол — зачем, неизвестно — и снова надолго замирал. Солнечные пятна, покачивающиеся вместе с узкими листьями брединника, приходили и уходили — он все сидел: казалось, они его не интересуют. Может быть, он напитывался влагой из песка. Какой-нибудь рыбак, сидевший неподалеку, забывал о нем на минуту, увлекшись подпрыгнувшим поплавком. Потом оглядывался — там уже никого не было.
Никто не знает, когда он исчез окончательно. Можно сказать, что, не видя его, о нем забыли на некоторое время, а потом, когда вспомнили, уже длительность этого времени можно было оценить лишь с большой ошибкой: может, неделя, а может, и две…
У поэта, описавшего Лисий брод, есть в другом стихотворении (менее известном) такие строчки: «Та же самая в реке блестит вода, та же бабочка над отмелью всегда. Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот, реет, кру́жится уже девятый год». По некоторым признакам — по единственности и по неявному сопоставлению с листиком — можно предположить, что здесь запечатлен именно тот мотылек, который потом скрылся.
Все, происходящее в звездах и между ними, происходит и здесь — так следует полагать, имея в виду геометрию фрактала. Но в данном случае речь должна идти о событийной геометрии, а пока очень трудно сказать, что это такое. Если взять какие-то интуитивные соображения, то они оказываются зыбкими, как болото в тумане, где не за что ухватиться в тот момент, когда чувствуешь, что не на что опереться. А что касается звезд и межзвездного вещества, то — есть ли у них индивидуальность или, скажем скромнее, уникальность? — вопрос тоже не из простых. В то время как для любого из этих истертых, хило мерцающих лоскутков такой вопрос даже не возникает: они уникальны кричаще, вопиюще — и неважно, что эти крик и вопль не громче шелеста сухих листьев или журчанья медленной воды в камнях размытой плотины.
Мальчик на велосипеде, проехавший один раз вдоль высоковольтной линии, и екарный вахлюй, проплывший ему навстречу в надувной лодке, были как-то связаны, хоть и делали вид, что не знают друг друга. Возможно, они занимались одним исследованием в двух противоположных направлениях. Екарный вахлюй почти не греб — только подправлял, вглядываясь в заверти медленного течения впереди. Но все же иногда лодку разворачивало кормой вперед, воту́рку, — и тогда некоторое время он глядел в ту же сторону, что и мальчик. Тот, заметив это, всякий раз сердился и как будто порывался махнуть рукой угрожающе и воспретительно, но какое-то правило, которого мы не знаем, не позволяло ему так сделать, он отводил возмущенный взгляд от реки и направлял снова на дорогу — кривую и в колдобинах.
И скрылись они порознь: екарный вахлюй еще долго после исчезновения мальчика жил в палатке на верети́ще, на правом берегу, примерно в километре ниже плотины. Потом палатка какое-то время стояла там под елками, вроде бы заброшенная: провисла уже и покосилась. Но она была застегнута изнутри, и прошел, наверное, месяц, прежде чем кто-то из рыбаков решился в нее заглянуть. Там нашли труп мужчины в тренировочном костюме и кроссовках, и хотя он уже сильно разложился, сразу было понятно, что это не екарный вахлюй, а кто-то другой. Рядом внутри лежало и все нехитрое снаряжение екарного вахлюя, а отчего умер мужчина — осталось неизвестным: ран и крови на нем не было. Полиция, приплывшая на катере, увезла тело в город. Потом нашли надувную лодку без весел — она застряла в заросшей протоке среди камыша и рогоза, в трех километрах ниже верети́ща, — но и в лодке никаких следов екарного вахлюя не оказалось.
В какие-то годы река уклонилась немного вправо, а пониже шлюза намыло высокую отмель, так что проходить его стало совсем нельзя. Да им и раньше редко пользовались, а потом плотину размыло, она стала разрушаться и постепенно превратилась просто в небольшой перекат. На дне шлюза сначала стояла вода, — собственно, лужа, которая каждой весной полнилась, но с каждым летом делалась все мельче, — теперь там жидкая грязь и мусор, состоящий в основном из пластиковых бутылок.
Если задуматься, каким образом они скрылись, то представится, будто они сначала истончались и становились плоскими, как листья или бумажки, но происходило это довольно быстро — для кого-то из них стремительно. И, хотя скрылись они в разное время, но странным образом под постройки Сухого шлюза они юркнули все вместе, сложившись в кипу, а вернее в тонкую стопку, словно бы ускользающую от какого-то преследования. Странно еще и то, что эта стопка никоим образом не похожа на пачку, например, фотографий, что с определенной точки зрения казалось бы естественным. А на что она похожа, сказать нельзя, потому что под более сосредоточенным, сфокусированным взглядом она стремительно начинает расползаться и рассыпаться, как будто огонь ее ест и она тлеет на сильном ветру.
Дальше следуют несколько птиц. Если старательно припомнить, то определенно можно назвать по крайней мере четырех. — Это винтохвостка, шилохвостка, попугай и чайка, которую окрестные жители называли витахой.
Наиболее заметным из них был попугай. Он был крупным, но не ярким — темно-зеленым с просинью. Он неподвижно сидел на старой разломанной ветле, иногда менял позицию, перелетая с одной ветки на другую. Он не кричал и не говорил. Далеко вниз свисал его острый хвост. И темный крючковатый клюв, если приглядеться, был виден. Люди гадали, откуда он мог взяться, и вскоре сообразили сообщить о нем в детский санаторий. Оказалось, что действительно он улетел от них, преодолев зачем-то расстояние больше пяти километров. За ним пришли, пытались звать и ловить, он взлетел со своей ветлы, и больше его не видели.
Витаха же приплыла по реке сверху и задержалась на время у плотины. Она не летала — видимо, у нее было повреждено крыло, — плавала ниже слива вместе с какой-то обыкновенной, но одинокой шилохвостью, тоже неизвестно откуда взявшейся. Но держались они всегда на расстоянии друг от друга. Шилохвость питалась чем-то своим на мелководье, а витаха должна была бы ловить рыбу, но из сидячего положения это у нее не получалось, и она, наверное, голодала.
Что до винтохвостки, то это обычная ласточка, проносившаяся над рекой в разных направлениях, — из тех, что роют гнезда в отвесных речных обрывах. Береговушками их еще зовут. Если бы здесь поблизости были такие обрывы, никто б и внимания ей не уделил.
Почему среди скрывшихся эфемеров нет ни одного растения — цветка или какой-нибудь невзрачной травы? — Это вопрос странный и, наверное, важный. Возможно, что они есть и даже очень много — целые толпы увядших и высохших, — но они скрываются скрытно, то есть так, что никто этого не замечает. Потому что мы не привыкли в растении видеть индивидуальность, разве что в каком-нибудь могучем дубе, кедре или секвойе. А исчезни, например, какая-нибудь хрупкая березка или даже куст орешника с опушки, находящейся всего в ста пятидесяти метрах от реки, за высоковольткой, мы не опознали бы пустоты на их месте, потому что рядом много других, очень похожих. Что уж говорить о травах — о целых спутанных мирах клевера, пижмы, полыни, конского щавеля, оплетенных многажды и во всех направлениях вьюнком и мышиным горошком и обитаемых миллионами насекомых…
Супружеская пара (он заметно старше нее, но и она совсем не молода) появлялась редко. Он нес ящичек с тремя свернутыми металлическими ножками. Это был этюдник. Где-нибудь на берегу ножки раздвигались, как телескопы, и этюдник устанавливался горизонтально, открывался: в нем были краски и кисти. Женщина садилась на раскладную скамеечку и принималась рисовать пейзаж. Мужчина тоже рисовал, но на весу, стоя. Притом он еще и бегал вокруг этюдника — в левой руке у него была картонка, в правой кисточка, и он то и дело наклонялся и макал кисточку в какую-нибудь из тех красок, которые женщина развела на палитре перед собой. Хорошо они рисовали или плохо — никто не знает, потому что никто к ним не приближался и не смотрел, стеснялись. Даже неизвестно, какими красками они рисовали — акварелью, маслом ли или акрилом, а то, может быть, темперой или гуашью… Однажды видели издали, что будто бы они рисуют одну картину вдвоем. Но поручиться нельзя, точно этого никто не скажет, может быть, они вообще не рисовали, а лишь имитировали похожие движения зачем-то. Фотограф-ала́харь, он же поэт — тот самый, что прославил Лисий брод и увидел индивидуальность в кружащемся желтом листике, — подходил к ним пару раз и о чем-то разговаривал. Но вряд ли он фотографировал их или их картины. К тому же он сам исчез в свой черед, и спросить у него невозможно. Хотя скрылся он несколько в ином смысле и в ином направлении — не в сторону Сухого шлюза, а, наоборот, прочь от реки и куда-то на север, — а потому и спрятался он, может быть, не окончательно, однако толку какого-либо от него ждать или добиваться — это дело, по-видимому, безнадежное.
Наконец, была еще девушка, которую укусила змея. Она приехала на мопеде из деревни с каким-то парнем. Верней, мопедов было несколько, потому что приехала целая компания. Пили пиво и коктейли из жестяных банок, некоторые купались. Стоял яркий день конца июля. Девушка в купальнике и босиком забрела зачем-то на отмель, намытую ниже шлюза. Отмель была длинная и сырая, уже давно заросшая травой вроде низкой осоки. И девушка вдруг закричала, почувствовав острый укус и увидев извилистое быстрое движение в траве рядом с ногой. Парень, который ее привез, бросился к ней, перетащил на руках на берег и стал старательно высасывать из ранки яд, то и дело сплевывая. А другие парни, обув кроссовки, пошли на отмель с палками и камнями — искать и наказывать эту змею. Вроде бы они ее нашли, стали бить и как будто даже перебили ей хребет, но прикончить не смогли, потому что змея — с уже расплющенной спиной — куда-то скрылась в траве, и больше ее не видели, как ни искали. С девушкой же ничего особенного не случилось: нога опухла, но не сильно, ее отвезли в деревню и там еще чем-то помогли.
вас может заинтересовать
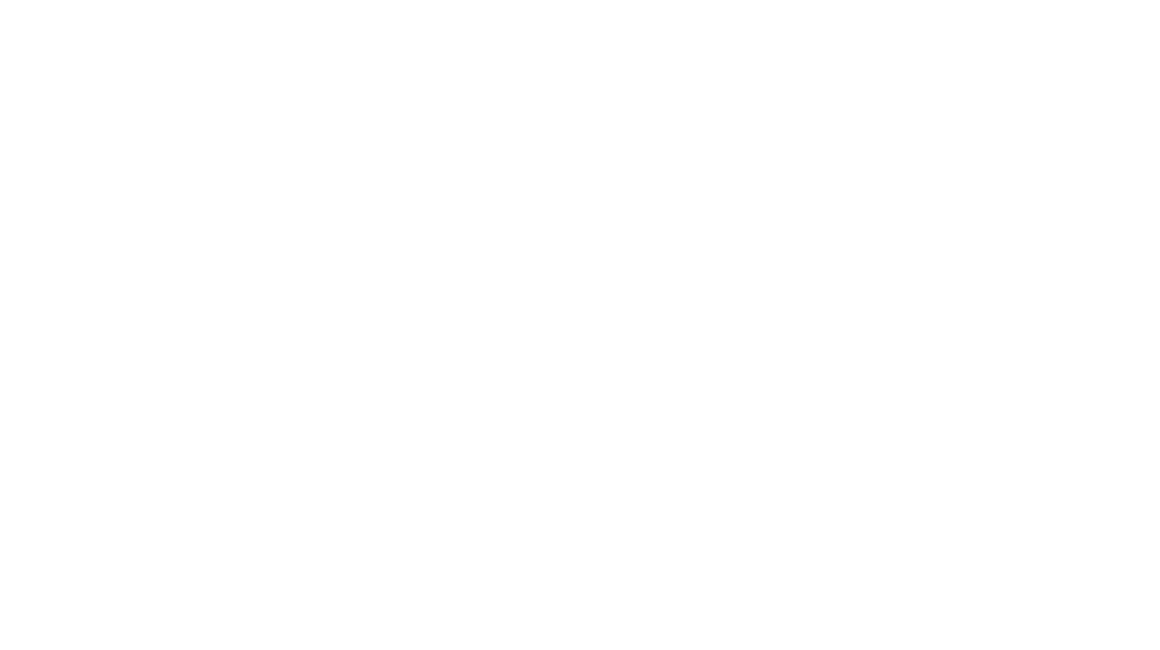
Марианна Гейде
Три рассказа
ВМЕСТО МЕНЯ
— Нет, мы возьмем этого котенка!
— Нет, не возьмем, я сказала!
— Ну и вали, я сам возьму. Я сейчас скажу Глебу…
— Как это «вали»? Ты что, один живешь?… Ты Андрей, дурак. А кто будет с ним? Ты соображаешь? Он же громадный вырастет. Ты на работе, я на работе. Это ж элитная порода! Это ж не то что ты взял где-то там с помойки!… Да я сейчас позвоню Глебу, чтобы он тебе не давал, потому что котенок точно умрет. Я с ним сидеть не буду…
— Вот дура! Да чегой-то он умрет, здоровый котенок?
— Нет, я сказала. Мне этого не надо!
— Хорошо. Это твое последнее слово? Ну что ж, смотри. Ты еще об этом пожалеешь.
— Да пошел ты!
Ругаются. Молодой муж с молодой женой по телефону. Он отошел в сторону от компании. Корпоративный пикник в Серебряном Бору. Все пьяные. Конец августа. Погода жаркая. Девять часов вечера. Одни парни собрались, без жен. Едят шашлык.
Андрей, пошатываясь, идет к Глебу.
— Котенка возьму. Поругался с Наташей, все равно возьму.
— Это ты зря. Я же не говорил… Позвони ей. Не будет котенка. Не надо было ругаться.
— Почему? Ты же говорил…
— Будут. Но все расписаны, всех уже забирают.
— А чего ж ты сказал? Значит, я поздно?
— Она принесет четырех, может быть, пять. У меня пять человек давно записались.
— А если шесть?
— Если шесть, тогда шестого обязательно тебе. Обещаю. Но это маловероятно.
— Спасибо, старик, утешил. Ты идешь купаться?
— Нет, не хочу. Я сейчас домой поеду.
Парни собрались у мостика. Курят, раздеваются. Пьют пиво.
Наташа звонит:
— Андрей, я разговаривала с мамой. Она согласна. Ты слышишь меня?
— Чего?
— Я говорю: мама согласна сидеть с котенком…
— Да ты что! Она согласна, чтобы мы взяли?
— Она как услышала, что мейн-кун, сразу говорит: берите без всяких разговоров, я помогу. Только кошечку, говорит, берите.
— Кошечку — кота — посмотрим. Неизвестно еще…
Нырнули с мостика. Вообще-то уже темнело. Когда вылезли, не сразу сообразили, что не все в сборе.
— А где Андрей?
— Да вон он.
— Где?
— Вон он плывет.
— Андрей!
— Нет, это не он.
— Он вообще вынырнул или нет? Кто видел?
Нырнули снова, стали шарить в воде. Когда вытащили, он уж основательно захлебнулся. Все протрезвели. Кто мог, делал искусственное дыхание. Бесполезно. Вызвали скорую. Пока она не приехала, снова давили ему на грудь, но он был уже трупом. Скорая увезла в морг.
Глеб к тому времени уже уехал домой и не знал всего этого. Узнал на следующее утро. Потом, еще через день, были похороны и поминки. Наташа к нему подошла:
— Глеб, ты знаешь, ведь мы с ним помирились, и это было перед самой его смертью. Я сказала, что согласна взять котенка. Ты дашь? Ведь это было его последнее желание. У меня теперь чувство, что он ушел и как бы оставил мне этого котенка вместо себя.
Она не удержалась и начала плакать.
Вдруг несуразная мысль мелькнула у Глеба в голове: «Если б ты за минуту перед тем не позвонила и не сказала, что согласна, он бы, может быть, и не погиб… Потому что тогда не было б замены…». Но вслух Глеб, конечно, это не произнес.
Через два дня, когда кошка разродилась (принесла пять, но пятый был мертвым, — видимо, она его случайно придушила), Глеб позвонил друзьям, которые хотели забрать котят, и все уладил: кто-то, проникшись сочувствием к Наташе, отказался в ее пользу. Правда, достался ей котик, а не кошечка.
КЕША И АГЛАЯ
Попугаи залетели ночью из кухни в мою комнату, где я спал. — Кеша и Аглая. — Видимо, двери были открыты — из кухни в коридор и из коридора в комнату. Попугаи желто-зеленые. У Кеши больше желтых перьев, а у Аглаи — зеленых: у нее вся грудка зеленая, а спина и крылья зеленые в черную крапинку…
Кеша сел на столик между диваном и окном, прямо около моей головы. А над этим столиком развешены иконы, они занимают угол — от столика до потолка. И Кеша стал просить меня, чтобы я его научил молиться. Я взял его в руку и начал читать «Отче наш». Он повторял за мной, но не своим обычным сочным чириканьем, а как-то тихо лепетал, почти шелестел.
— Да святится имя Твое.
— Да святится имя Твое…
— Да приидет царствие Твое.
— Да приидет царствие Твое…
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Аглая сидела где-то высоко, я не помню — возможно, на лампадке под потолком — и оттуда смотрела на нас молча и тупо. О чем она думает, нельзя было ни понять, ни предположить. Скорей всего, у нее не было вообще никаких мыслей. Глаза выпуклые — две черные бусинки.
Все это меня — нельзя сказать чтобы умилило, но как-то тихо поразило. —
Я открыл глаза. — Оказалось, что я лежу на диване лицом к спинке.
Я приподнялся и оглядел комнату. — Настольная лампа горела у окна, рядом с компьютером. Попугаев не было. — То ли они улетели назад в кухню (Аглая впереди), то ли вообще не прилетали…
СКРЫЛИСЬ ОНИ
Здесь предпринята попытка восстановить ряд ветхих и мелких существ, исчезнувших в районе так называемого Сухого шлюза. Их пятнадцать или четырнадцать скрывшихся там — то ли в обрушенном здании мельницы, то ли в машинном павильоне, неплохо сохранившемся, где до сих пор можно видеть зубчатые колеса, приводившие в движение ворота, и другие, служившие, по-видимому, для поднятия и опускания сливных створок. Теперь они могут быть там где угодно, эти пятнадцать или четырнадцать сквозящих на просвет, плохо уловимых ветошек, скорей скрывшихся, нежели сокрытых кем-то или захороненных. В конце концов, они могли просто смешаться с мусором, в избытке наваленным в пустых помещениях, но все же думается, что, использовав его как завесу, они проскользнули куда-то дальше и глубже, на более спокойные и темные уровни, совсем недоступные глазу. Кое-кто из них еще мог немного задержаться, приняв вид, например, лопасти дюралевого весла, сломанного и погнутого, выглядывающего из ошметьев засохшей тины. Но неизвестно, было ли когда-нибудь время, в котором эти немощные мо́роки были кем-то видимы. Вот, наверное, одна из целей, если не главная, их собственного сокрытия — внушить сомнение в событиях прошлого. Почему они выбрали это место — другой вопрос, хоть и тоже немаловажный.
Во-первых, среди них несомненно числится высокий лисенок неизвестного пола, который раньше ходил по берегу, прячась в зарослях бредняка, перекрученного после паводков пучками сухой травы. Рыбаки кидали ему случайно выловленную мелочь, но этого не хватало, он был истощен и какое-то время еще покачивался вдалеке на длинных ногах, а потом скрылся. От него или не от него осталось название «Лисий брод» — это выше шлюза, километрах в полутора: устье лесного ручья, текущего в глубоком овраге. Выходя в пойму реки, овраг выписывает причудливую излучину, почти петлю. Здесь были деревянные мостки, но их каждую весну сносило полой водой, и в конце концов их перестали восстанавливать. Лежит только несколько округлых больших валунов, поверх которых ручей, бурля, устремляется в спокойное озерцо — и дальше, уже неспешно, втекает в реку. Вот, прыгая с одного скользкого, обросшего тиной валуна на другой, здесь и переходят. Название «Лисий брод», возможно, исчезло бы вместе с выморочным лисенком, если б не стихи поэта, ставшие вскоре известными: «За плосководьем Лисий брод, а там луга, луга. Тропы внезапный поворот из темного угла. Клин ельника бежит назад, за теменной бугор. — А там застенчивый размах березовой рукой…» — и далее: «В дождливый год на Лисий брод накинуты мостки. Тут поперек мельчайших вод стоят мальки, мальки — единой ротой во весь фронт, как новобранцы на плацу, — и вдруг — нос к носу, хвост к хвосту — мгновенный поворот. На сотне спин единый блик сверкнул — и вмиг погас. Спроси, кто вымуштровал их, какой педант, тиран иль псих? Команды кто подал сигнал? Сигнала кто отдал приказ? Приказа кто исчислил сдвиг? — Все к берегу стремглав». Быть может, лисенок, забравшись на мокрый камень, пробовал здесь ловить этих мальков, и поэт (он же, кстати, и фотограф) случайно застал его за этим занятием, спугнул — но почему-то не пожелал его назвать, а оставил лишь название места. — «Мы переходим Лисий брод и падаем в луга. Мы тонем в травах: в нос и в рот метет цветов пурга. Расчешешь и пересечешь многообразье трав…» — И получается, что о лисенке больше сказать нечего.
Мотылек — или мотыльки, поскольку неизвестно, был ли он один или их было много: он показывался часто и в разных местах, он, можно сказать, примелькался, но ни разу никто не видел одновременно двух или нескольких. Часами он сидел на полоске темного ила, перемешанного с песком, — под берегом, возле самой воды, то поднимая схлопнутые крылья, как треугольный парус, то распластывая их. Иногда он поворачивался на месте на какой-то угол — зачем, неизвестно — и снова надолго замирал. Солнечные пятна, покачивающиеся вместе с узкими листьями брединника, приходили и уходили — он все сидел: казалось, они его не интересуют. Может быть, он напитывался влагой из песка. Какой-нибудь рыбак, сидевший неподалеку, забывал о нем на минуту, увлекшись подпрыгнувшим поплавком. Потом оглядывался — там уже никого не было.
Никто не знает, когда он исчез окончательно. Можно сказать, что, не видя его, о нем забыли на некоторое время, а потом, когда вспомнили, уже длительность этого времени можно было оценить лишь с большой ошибкой: может, неделя, а может, и две…
У поэта, описавшего Лисий брод, есть в другом стихотворении (менее известном) такие строчки: «Та же самая в реке блестит вода, та же бабочка над отмелью всегда. Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот, реет, кру́жится уже девятый год». По некоторым признакам — по единственности и по неявному сопоставлению с листиком — можно предположить, что здесь запечатлен именно тот мотылек, который потом скрылся.
Все, происходящее в звездах и между ними, происходит и здесь — так следует полагать, имея в виду геометрию фрактала. Но в данном случае речь должна идти о событийной геометрии, а пока очень трудно сказать, что это такое. Если взять какие-то интуитивные соображения, то они оказываются зыбкими, как болото в тумане, где не за что ухватиться в тот момент, когда чувствуешь, что не на что опереться. А что касается звезд и межзвездного вещества, то — есть ли у них индивидуальность или, скажем скромнее, уникальность? — вопрос тоже не из простых. В то время как для любого из этих истертых, хило мерцающих лоскутков такой вопрос даже не возникает: они уникальны кричаще, вопиюще — и неважно, что эти крик и вопль не громче шелеста сухих листьев или журчанья медленной воды в камнях размытой плотины.
Мальчик на велосипеде, проехавший один раз вдоль высоковольтной линии, и екарный вахлюй, проплывший ему навстречу в надувной лодке, были как-то связаны, хоть и делали вид, что не знают друг друга. Возможно, они занимались одним исследованием в двух противоположных направлениях. Екарный вахлюй почти не греб — только подправлял, вглядываясь в заверти медленного течения впереди. Но все же иногда лодку разворачивало кормой вперед, воту́рку, — и тогда некоторое время он глядел в ту же сторону, что и мальчик. Тот, заметив это, всякий раз сердился и как будто порывался махнуть рукой угрожающе и воспретительно, но какое-то правило, которого мы не знаем, не позволяло ему так сделать, он отводил возмущенный взгляд от реки и направлял снова на дорогу — кривую и в колдобинах.
И скрылись они порознь: екарный вахлюй еще долго после исчезновения мальчика жил в палатке на верети́ще, на правом берегу, примерно в километре ниже плотины. Потом палатка какое-то время стояла там под елками, вроде бы заброшенная: провисла уже и покосилась. Но она была застегнута изнутри, и прошел, наверное, месяц, прежде чем кто-то из рыбаков решился в нее заглянуть. Там нашли труп мужчины в тренировочном костюме и кроссовках, и хотя он уже сильно разложился, сразу было понятно, что это не екарный вахлюй, а кто-то другой. Рядом внутри лежало и все нехитрое снаряжение екарного вахлюя, а отчего умер мужчина — осталось неизвестным: ран и крови на нем не было. Полиция, приплывшая на катере, увезла тело в город. Потом нашли надувную лодку без весел — она застряла в заросшей протоке среди камыша и рогоза, в трех километрах ниже верети́ща, — но и в лодке никаких следов екарного вахлюя не оказалось.
В какие-то годы река уклонилась немного вправо, а пониже шлюза намыло высокую отмель, так что проходить его стало совсем нельзя. Да им и раньше редко пользовались, а потом плотину размыло, она стала разрушаться и постепенно превратилась просто в небольшой перекат. На дне шлюза сначала стояла вода, — собственно, лужа, которая каждой весной полнилась, но с каждым летом делалась все мельче, — теперь там жидкая грязь и мусор, состоящий в основном из пластиковых бутылок.
Если задуматься, каким образом они скрылись, то представится, будто они сначала истончались и становились плоскими, как листья или бумажки, но происходило это довольно быстро — для кого-то из них стремительно. И, хотя скрылись они в разное время, но странным образом под постройки Сухого шлюза они юркнули все вместе, сложившись в кипу, а вернее в тонкую стопку, словно бы ускользающую от какого-то преследования. Странно еще и то, что эта стопка никоим образом не похожа на пачку, например, фотографий, что с определенной точки зрения казалось бы естественным. А на что она похожа, сказать нельзя, потому что под более сосредоточенным, сфокусированным взглядом она стремительно начинает расползаться и рассыпаться, как будто огонь ее ест и она тлеет на сильном ветру.
Дальше следуют несколько птиц. Если старательно припомнить, то определенно можно назвать по крайней мере четырех. — Это винтохвостка, шилохвостка, попугай и чайка, которую окрестные жители называли витахой.
Наиболее заметным из них был попугай. Он был крупным, но не ярким — темно-зеленым с просинью. Он неподвижно сидел на старой разломанной ветле, иногда менял позицию, перелетая с одной ветки на другую. Он не кричал и не говорил. Далеко вниз свисал его острый хвост. И темный крючковатый клюв, если приглядеться, был виден. Люди гадали, откуда он мог взяться, и вскоре сообразили сообщить о нем в детский санаторий. Оказалось, что действительно он улетел от них, преодолев зачем-то расстояние больше пяти километров. За ним пришли, пытались звать и ловить, он взлетел со своей ветлы, и больше его не видели.
Витаха же приплыла по реке сверху и задержалась на время у плотины. Она не летала — видимо, у нее было повреждено крыло, — плавала ниже слива вместе с какой-то обыкновенной, но одинокой шилохвостью, тоже неизвестно откуда взявшейся. Но держались они всегда на расстоянии друг от друга. Шилохвость питалась чем-то своим на мелководье, а витаха должна была бы ловить рыбу, но из сидячего положения это у нее не получалось, и она, наверное, голодала.
Что до винтохвостки, то это обычная ласточка, проносившаяся над рекой в разных направлениях, — из тех, что роют гнезда в отвесных речных обрывах. Береговушками их еще зовут. Если бы здесь поблизости были такие обрывы, никто б и внимания ей не уделил.
Почему среди скрывшихся эфемеров нет ни одного растения — цветка или какой-нибудь невзрачной травы? — Это вопрос странный и, наверное, важный. Возможно, что они есть и даже очень много — целые толпы увядших и высохших, — но они скрываются скрытно, то есть так, что никто этого не замечает. Потому что мы не привыкли в растении видеть индивидуальность, разве что в каком-нибудь могучем дубе, кедре или секвойе. А исчезни, например, какая-нибудь хрупкая березка или даже куст орешника с опушки, находящейся всего в ста пятидесяти метрах от реки, за высоковольткой, мы не опознали бы пустоты на их месте, потому что рядом много других, очень похожих. Что уж говорить о травах — о целых спутанных мирах клевера, пижмы, полыни, конского щавеля, оплетенных многажды и во всех направлениях вьюнком и мышиным горошком и обитаемых миллионами насекомых…
Супружеская пара (он заметно старше нее, но и она совсем не молода) появлялась редко. Он нес ящичек с тремя свернутыми металлическими ножками. Это был этюдник. Где-нибудь на берегу ножки раздвигались, как телескопы, и этюдник устанавливался горизонтально, открывался: в нем были краски и кисти. Женщина садилась на раскладную скамеечку и принималась рисовать пейзаж. Мужчина тоже рисовал, но на весу, стоя. Притом он еще и бегал вокруг этюдника — в левой руке у него была картонка, в правой кисточка, и он то и дело наклонялся и макал кисточку в какую-нибудь из тех красок, которые женщина развела на палитре перед собой. Хорошо они рисовали или плохо — никто не знает, потому что никто к ним не приближался и не смотрел, стеснялись. Даже неизвестно, какими красками они рисовали — акварелью, маслом ли или акрилом, а то, может быть, темперой или гуашью… Однажды видели издали, что будто бы они рисуют одну картину вдвоем. Но поручиться нельзя, точно этого никто не скажет, может быть, они вообще не рисовали, а лишь имитировали похожие движения зачем-то. Фотограф-ала́харь, он же поэт — тот самый, что прославил Лисий брод и увидел индивидуальность в кружащемся желтом листике, — подходил к ним пару раз и о чем-то разговаривал. Но вряд ли он фотографировал их или их картины. К тому же он сам исчез в свой черед, и спросить у него невозможно. Хотя скрылся он несколько в ином смысле и в ином направлении — не в сторону Сухого шлюза, а, наоборот, прочь от реки и куда-то на север, — а потому и спрятался он, может быть, не окончательно, однако толку какого-либо от него ждать или добиваться — это дело, по-видимому, безнадежное.
Наконец, была еще девушка, которую укусила змея. Она приехала на мопеде из деревни с каким-то парнем. Верней, мопедов было несколько, потому что приехала целая компания. Пили пиво и коктейли из жестяных банок, некоторые купались. Стоял яркий день конца июля. Девушка в купальнике и босиком забрела зачем-то на отмель, намытую ниже шлюза. Отмель была длинная и сырая, уже давно заросшая травой вроде низкой осоки. И девушка вдруг закричала, почувствовав острый укус и увидев извилистое быстрое движение в траве рядом с ногой. Парень, который ее привез, бросился к ней, перетащил на руках на берег и стал старательно высасывать из ранки яд, то и дело сплевывая. А другие парни, обув кроссовки, пошли на отмель с палками и камнями — искать и наказывать эту змею. Вроде бы они ее нашли, стали бить и как будто даже перебили ей хребет, но прикончить не смогли, потому что змея — с уже расплющенной спиной — куда-то скрылась в траве, и больше ее не видели, как ни искали. С девушкой же ничего особенного не случилось: нога опухла, но не сильно, ее отвезли в деревню и там еще чем-то помогли.
— Нет, мы возьмем этого котенка!
— Нет, не возьмем, я сказала!
— Ну и вали, я сам возьму. Я сейчас скажу Глебу…
— Как это «вали»? Ты что, один живешь?… Ты Андрей, дурак. А кто будет с ним? Ты соображаешь? Он же громадный вырастет. Ты на работе, я на работе. Это ж элитная порода! Это ж не то что ты взял где-то там с помойки!… Да я сейчас позвоню Глебу, чтобы он тебе не давал, потому что котенок точно умрет. Я с ним сидеть не буду…
— Вот дура! Да чегой-то он умрет, здоровый котенок?
— Нет, я сказала. Мне этого не надо!
— Хорошо. Это твое последнее слово? Ну что ж, смотри. Ты еще об этом пожалеешь.
— Да пошел ты!
Ругаются. Молодой муж с молодой женой по телефону. Он отошел в сторону от компании. Корпоративный пикник в Серебряном Бору. Все пьяные. Конец августа. Погода жаркая. Девять часов вечера. Одни парни собрались, без жен. Едят шашлык.
Андрей, пошатываясь, идет к Глебу.
— Котенка возьму. Поругался с Наташей, все равно возьму.
— Это ты зря. Я же не говорил… Позвони ей. Не будет котенка. Не надо было ругаться.
— Почему? Ты же говорил…
— Будут. Но все расписаны, всех уже забирают.
— А чего ж ты сказал? Значит, я поздно?
— Она принесет четырех, может быть, пять. У меня пять человек давно записались.
— А если шесть?
— Если шесть, тогда шестого обязательно тебе. Обещаю. Но это маловероятно.
— Спасибо, старик, утешил. Ты идешь купаться?
— Нет, не хочу. Я сейчас домой поеду.
Парни собрались у мостика. Курят, раздеваются. Пьют пиво.
Наташа звонит:
— Андрей, я разговаривала с мамой. Она согласна. Ты слышишь меня?
— Чего?
— Я говорю: мама согласна сидеть с котенком…
— Да ты что! Она согласна, чтобы мы взяли?
— Она как услышала, что мейн-кун, сразу говорит: берите без всяких разговоров, я помогу. Только кошечку, говорит, берите.
— Кошечку — кота — посмотрим. Неизвестно еще…
Нырнули с мостика. Вообще-то уже темнело. Когда вылезли, не сразу сообразили, что не все в сборе.
— А где Андрей?
— Да вон он.
— Где?
— Вон он плывет.
— Андрей!
— Нет, это не он.
— Он вообще вынырнул или нет? Кто видел?
Нырнули снова, стали шарить в воде. Когда вытащили, он уж основательно захлебнулся. Все протрезвели. Кто мог, делал искусственное дыхание. Бесполезно. Вызвали скорую. Пока она не приехала, снова давили ему на грудь, но он был уже трупом. Скорая увезла в морг.
Глеб к тому времени уже уехал домой и не знал всего этого. Узнал на следующее утро. Потом, еще через день, были похороны и поминки. Наташа к нему подошла:
— Глеб, ты знаешь, ведь мы с ним помирились, и это было перед самой его смертью. Я сказала, что согласна взять котенка. Ты дашь? Ведь это было его последнее желание. У меня теперь чувство, что он ушел и как бы оставил мне этого котенка вместо себя.
Она не удержалась и начала плакать.
Вдруг несуразная мысль мелькнула у Глеба в голове: «Если б ты за минуту перед тем не позвонила и не сказала, что согласна, он бы, может быть, и не погиб… Потому что тогда не было б замены…». Но вслух Глеб, конечно, это не произнес.
Через два дня, когда кошка разродилась (принесла пять, но пятый был мертвым, — видимо, она его случайно придушила), Глеб позвонил друзьям, которые хотели забрать котят, и все уладил: кто-то, проникшись сочувствием к Наташе, отказался в ее пользу. Правда, достался ей котик, а не кошечка.
КЕША И АГЛАЯ
Попугаи залетели ночью из кухни в мою комнату, где я спал. — Кеша и Аглая. — Видимо, двери были открыты — из кухни в коридор и из коридора в комнату. Попугаи желто-зеленые. У Кеши больше желтых перьев, а у Аглаи — зеленых: у нее вся грудка зеленая, а спина и крылья зеленые в черную крапинку…
Кеша сел на столик между диваном и окном, прямо около моей головы. А над этим столиком развешены иконы, они занимают угол — от столика до потолка. И Кеша стал просить меня, чтобы я его научил молиться. Я взял его в руку и начал читать «Отче наш». Он повторял за мной, но не своим обычным сочным чириканьем, а как-то тихо лепетал, почти шелестел.
— Да святится имя Твое.
— Да святится имя Твое…
— Да приидет царствие Твое.
— Да приидет царствие Твое…
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
— Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли…
Аглая сидела где-то высоко, я не помню — возможно, на лампадке под потолком — и оттуда смотрела на нас молча и тупо. О чем она думает, нельзя было ни понять, ни предположить. Скорей всего, у нее не было вообще никаких мыслей. Глаза выпуклые — две черные бусинки.
Все это меня — нельзя сказать чтобы умилило, но как-то тихо поразило. —
Я открыл глаза. — Оказалось, что я лежу на диване лицом к спинке.
Я приподнялся и оглядел комнату. — Настольная лампа горела у окна, рядом с компьютером. Попугаев не было. — То ли они улетели назад в кухню (Аглая впереди), то ли вообще не прилетали…
СКРЫЛИСЬ ОНИ
Здесь предпринята попытка восстановить ряд ветхих и мелких существ, исчезнувших в районе так называемого Сухого шлюза. Их пятнадцать или четырнадцать скрывшихся там — то ли в обрушенном здании мельницы, то ли в машинном павильоне, неплохо сохранившемся, где до сих пор можно видеть зубчатые колеса, приводившие в движение ворота, и другие, служившие, по-видимому, для поднятия и опускания сливных створок. Теперь они могут быть там где угодно, эти пятнадцать или четырнадцать сквозящих на просвет, плохо уловимых ветошек, скорей скрывшихся, нежели сокрытых кем-то или захороненных. В конце концов, они могли просто смешаться с мусором, в избытке наваленным в пустых помещениях, но все же думается, что, использовав его как завесу, они проскользнули куда-то дальше и глубже, на более спокойные и темные уровни, совсем недоступные глазу. Кое-кто из них еще мог немного задержаться, приняв вид, например, лопасти дюралевого весла, сломанного и погнутого, выглядывающего из ошметьев засохшей тины. Но неизвестно, было ли когда-нибудь время, в котором эти немощные мо́роки были кем-то видимы. Вот, наверное, одна из целей, если не главная, их собственного сокрытия — внушить сомнение в событиях прошлого. Почему они выбрали это место — другой вопрос, хоть и тоже немаловажный.
Во-первых, среди них несомненно числится высокий лисенок неизвестного пола, который раньше ходил по берегу, прячась в зарослях бредняка, перекрученного после паводков пучками сухой травы. Рыбаки кидали ему случайно выловленную мелочь, но этого не хватало, он был истощен и какое-то время еще покачивался вдалеке на длинных ногах, а потом скрылся. От него или не от него осталось название «Лисий брод» — это выше шлюза, километрах в полутора: устье лесного ручья, текущего в глубоком овраге. Выходя в пойму реки, овраг выписывает причудливую излучину, почти петлю. Здесь были деревянные мостки, но их каждую весну сносило полой водой, и в конце концов их перестали восстанавливать. Лежит только несколько округлых больших валунов, поверх которых ручей, бурля, устремляется в спокойное озерцо — и дальше, уже неспешно, втекает в реку. Вот, прыгая с одного скользкого, обросшего тиной валуна на другой, здесь и переходят. Название «Лисий брод», возможно, исчезло бы вместе с выморочным лисенком, если б не стихи поэта, ставшие вскоре известными: «За плосководьем Лисий брод, а там луга, луга. Тропы внезапный поворот из темного угла. Клин ельника бежит назад, за теменной бугор. — А там застенчивый размах березовой рукой…» — и далее: «В дождливый год на Лисий брод накинуты мостки. Тут поперек мельчайших вод стоят мальки, мальки — единой ротой во весь фронт, как новобранцы на плацу, — и вдруг — нос к носу, хвост к хвосту — мгновенный поворот. На сотне спин единый блик сверкнул — и вмиг погас. Спроси, кто вымуштровал их, какой педант, тиран иль псих? Команды кто подал сигнал? Сигнала кто отдал приказ? Приказа кто исчислил сдвиг? — Все к берегу стремглав». Быть может, лисенок, забравшись на мокрый камень, пробовал здесь ловить этих мальков, и поэт (он же, кстати, и фотограф) случайно застал его за этим занятием, спугнул — но почему-то не пожелал его назвать, а оставил лишь название места. — «Мы переходим Лисий брод и падаем в луга. Мы тонем в травах: в нос и в рот метет цветов пурга. Расчешешь и пересечешь многообразье трав…» — И получается, что о лисенке больше сказать нечего.
Мотылек — или мотыльки, поскольку неизвестно, был ли он один или их было много: он показывался часто и в разных местах, он, можно сказать, примелькался, но ни разу никто не видел одновременно двух или нескольких. Часами он сидел на полоске темного ила, перемешанного с песком, — под берегом, возле самой воды, то поднимая схлопнутые крылья, как треугольный парус, то распластывая их. Иногда он поворачивался на месте на какой-то угол — зачем, неизвестно — и снова надолго замирал. Солнечные пятна, покачивающиеся вместе с узкими листьями брединника, приходили и уходили — он все сидел: казалось, они его не интересуют. Может быть, он напитывался влагой из песка. Какой-нибудь рыбак, сидевший неподалеку, забывал о нем на минуту, увлекшись подпрыгнувшим поплавком. Потом оглядывался — там уже никого не было.
Никто не знает, когда он исчез окончательно. Можно сказать, что, не видя его, о нем забыли на некоторое время, а потом, когда вспомнили, уже длительность этого времени можно было оценить лишь с большой ошибкой: может, неделя, а может, и две…
У поэта, описавшего Лисий брод, есть в другом стихотворении (менее известном) такие строчки: «Та же самая в реке блестит вода, та же бабочка над отмелью всегда. Светлый листик, желтый листик, помнишь, тот, реет, кру́жится уже девятый год». По некоторым признакам — по единственности и по неявному сопоставлению с листиком — можно предположить, что здесь запечатлен именно тот мотылек, который потом скрылся.
Все, происходящее в звездах и между ними, происходит и здесь — так следует полагать, имея в виду геометрию фрактала. Но в данном случае речь должна идти о событийной геометрии, а пока очень трудно сказать, что это такое. Если взять какие-то интуитивные соображения, то они оказываются зыбкими, как болото в тумане, где не за что ухватиться в тот момент, когда чувствуешь, что не на что опереться. А что касается звезд и межзвездного вещества, то — есть ли у них индивидуальность или, скажем скромнее, уникальность? — вопрос тоже не из простых. В то время как для любого из этих истертых, хило мерцающих лоскутков такой вопрос даже не возникает: они уникальны кричаще, вопиюще — и неважно, что эти крик и вопль не громче шелеста сухих листьев или журчанья медленной воды в камнях размытой плотины.
Мальчик на велосипеде, проехавший один раз вдоль высоковольтной линии, и екарный вахлюй, проплывший ему навстречу в надувной лодке, были как-то связаны, хоть и делали вид, что не знают друг друга. Возможно, они занимались одним исследованием в двух противоположных направлениях. Екарный вахлюй почти не греб — только подправлял, вглядываясь в заверти медленного течения впереди. Но все же иногда лодку разворачивало кормой вперед, воту́рку, — и тогда некоторое время он глядел в ту же сторону, что и мальчик. Тот, заметив это, всякий раз сердился и как будто порывался махнуть рукой угрожающе и воспретительно, но какое-то правило, которого мы не знаем, не позволяло ему так сделать, он отводил возмущенный взгляд от реки и направлял снова на дорогу — кривую и в колдобинах.
И скрылись они порознь: екарный вахлюй еще долго после исчезновения мальчика жил в палатке на верети́ще, на правом берегу, примерно в километре ниже плотины. Потом палатка какое-то время стояла там под елками, вроде бы заброшенная: провисла уже и покосилась. Но она была застегнута изнутри, и прошел, наверное, месяц, прежде чем кто-то из рыбаков решился в нее заглянуть. Там нашли труп мужчины в тренировочном костюме и кроссовках, и хотя он уже сильно разложился, сразу было понятно, что это не екарный вахлюй, а кто-то другой. Рядом внутри лежало и все нехитрое снаряжение екарного вахлюя, а отчего умер мужчина — осталось неизвестным: ран и крови на нем не было. Полиция, приплывшая на катере, увезла тело в город. Потом нашли надувную лодку без весел — она застряла в заросшей протоке среди камыша и рогоза, в трех километрах ниже верети́ща, — но и в лодке никаких следов екарного вахлюя не оказалось.
В какие-то годы река уклонилась немного вправо, а пониже шлюза намыло высокую отмель, так что проходить его стало совсем нельзя. Да им и раньше редко пользовались, а потом плотину размыло, она стала разрушаться и постепенно превратилась просто в небольшой перекат. На дне шлюза сначала стояла вода, — собственно, лужа, которая каждой весной полнилась, но с каждым летом делалась все мельче, — теперь там жидкая грязь и мусор, состоящий в основном из пластиковых бутылок.
Если задуматься, каким образом они скрылись, то представится, будто они сначала истончались и становились плоскими, как листья или бумажки, но происходило это довольно быстро — для кого-то из них стремительно. И, хотя скрылись они в разное время, но странным образом под постройки Сухого шлюза они юркнули все вместе, сложившись в кипу, а вернее в тонкую стопку, словно бы ускользающую от какого-то преследования. Странно еще и то, что эта стопка никоим образом не похожа на пачку, например, фотографий, что с определенной точки зрения казалось бы естественным. А на что она похожа, сказать нельзя, потому что под более сосредоточенным, сфокусированным взглядом она стремительно начинает расползаться и рассыпаться, как будто огонь ее ест и она тлеет на сильном ветру.
Дальше следуют несколько птиц. Если старательно припомнить, то определенно можно назвать по крайней мере четырех. — Это винтохвостка, шилохвостка, попугай и чайка, которую окрестные жители называли витахой.
Наиболее заметным из них был попугай. Он был крупным, но не ярким — темно-зеленым с просинью. Он неподвижно сидел на старой разломанной ветле, иногда менял позицию, перелетая с одной ветки на другую. Он не кричал и не говорил. Далеко вниз свисал его острый хвост. И темный крючковатый клюв, если приглядеться, был виден. Люди гадали, откуда он мог взяться, и вскоре сообразили сообщить о нем в детский санаторий. Оказалось, что действительно он улетел от них, преодолев зачем-то расстояние больше пяти километров. За ним пришли, пытались звать и ловить, он взлетел со своей ветлы, и больше его не видели.
Витаха же приплыла по реке сверху и задержалась на время у плотины. Она не летала — видимо, у нее было повреждено крыло, — плавала ниже слива вместе с какой-то обыкновенной, но одинокой шилохвостью, тоже неизвестно откуда взявшейся. Но держались они всегда на расстоянии друг от друга. Шилохвость питалась чем-то своим на мелководье, а витаха должна была бы ловить рыбу, но из сидячего положения это у нее не получалось, и она, наверное, голодала.
Что до винтохвостки, то это обычная ласточка, проносившаяся над рекой в разных направлениях, — из тех, что роют гнезда в отвесных речных обрывах. Береговушками их еще зовут. Если бы здесь поблизости были такие обрывы, никто б и внимания ей не уделил.
Почему среди скрывшихся эфемеров нет ни одного растения — цветка или какой-нибудь невзрачной травы? — Это вопрос странный и, наверное, важный. Возможно, что они есть и даже очень много — целые толпы увядших и высохших, — но они скрываются скрытно, то есть так, что никто этого не замечает. Потому что мы не привыкли в растении видеть индивидуальность, разве что в каком-нибудь могучем дубе, кедре или секвойе. А исчезни, например, какая-нибудь хрупкая березка или даже куст орешника с опушки, находящейся всего в ста пятидесяти метрах от реки, за высоковольткой, мы не опознали бы пустоты на их месте, потому что рядом много других, очень похожих. Что уж говорить о травах — о целых спутанных мирах клевера, пижмы, полыни, конского щавеля, оплетенных многажды и во всех направлениях вьюнком и мышиным горошком и обитаемых миллионами насекомых…
Супружеская пара (он заметно старше нее, но и она совсем не молода) появлялась редко. Он нес ящичек с тремя свернутыми металлическими ножками. Это был этюдник. Где-нибудь на берегу ножки раздвигались, как телескопы, и этюдник устанавливался горизонтально, открывался: в нем были краски и кисти. Женщина садилась на раскладную скамеечку и принималась рисовать пейзаж. Мужчина тоже рисовал, но на весу, стоя. Притом он еще и бегал вокруг этюдника — в левой руке у него была картонка, в правой кисточка, и он то и дело наклонялся и макал кисточку в какую-нибудь из тех красок, которые женщина развела на палитре перед собой. Хорошо они рисовали или плохо — никто не знает, потому что никто к ним не приближался и не смотрел, стеснялись. Даже неизвестно, какими красками они рисовали — акварелью, маслом ли или акрилом, а то, может быть, темперой или гуашью… Однажды видели издали, что будто бы они рисуют одну картину вдвоем. Но поручиться нельзя, точно этого никто не скажет, может быть, они вообще не рисовали, а лишь имитировали похожие движения зачем-то. Фотограф-ала́харь, он же поэт — тот самый, что прославил Лисий брод и увидел индивидуальность в кружащемся желтом листике, — подходил к ним пару раз и о чем-то разговаривал. Но вряд ли он фотографировал их или их картины. К тому же он сам исчез в свой черед, и спросить у него невозможно. Хотя скрылся он несколько в ином смысле и в ином направлении — не в сторону Сухого шлюза, а, наоборот, прочь от реки и куда-то на север, — а потому и спрятался он, может быть, не окончательно, однако толку какого-либо от него ждать или добиваться — это дело, по-видимому, безнадежное.
Наконец, была еще девушка, которую укусила змея. Она приехала на мопеде из деревни с каким-то парнем. Верней, мопедов было несколько, потому что приехала целая компания. Пили пиво и коктейли из жестяных банок, некоторые купались. Стоял яркий день конца июля. Девушка в купальнике и босиком забрела зачем-то на отмель, намытую ниже шлюза. Отмель была длинная и сырая, уже давно заросшая травой вроде низкой осоки. И девушка вдруг закричала, почувствовав острый укус и увидев извилистое быстрое движение в траве рядом с ногой. Парень, который ее привез, бросился к ней, перетащил на руках на берег и стал старательно высасывать из ранки яд, то и дело сплевывая. А другие парни, обув кроссовки, пошли на отмель с палками и камнями — искать и наказывать эту змею. Вроде бы они ее нашли, стали бить и как будто даже перебили ей хребет, но прикончить не смогли, потому что змея — с уже расплющенной спиной — куда-то скрылась в траве, и больше ее не видели, как ни искали. С девушкой же ничего особенного не случилось: нога опухла, но не сильно, ее отвезли в деревню и там еще чем-то помогли.
вас может заинтересовать

