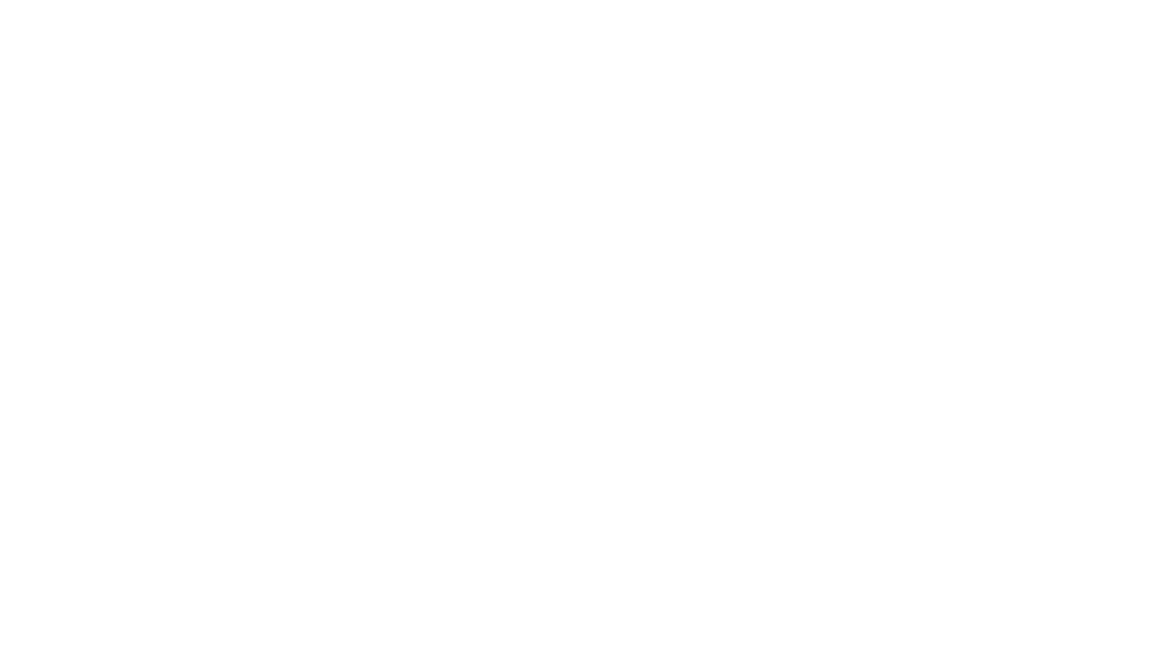
Франц Кафка
Разыскания одной собаки
Перевод Анны Глазовой под редакцией Ивана Болдырева
Как изменилась моя жизнь, и как все же, по сути, мало изменилась! Думая о прошедших временах, когда я еще был собака как собака, жил среди собак, принимал участие во всем, что их беспокоит, в ближайшем рассмотрении я тем не менее понимаю, что со мной всегда что-то было не так, всегда был маленький изъян, во время достойнейших народных празднований мной овладевала легкая досада, иногда даже в кругу самых близких знакомых — нет, не иногда, а даже очень часто, и тогда одного взгляда на милого мне собрата, одного взгляда под каким-то иным углом было достаточно, чтобы привести меня в смущение, испуг, повергнуть в беспомощность и даже отчаяние. Я старался хоть как-то усмирить себя, и друзья, которым я в этом признавался, помогали мне, тогда наступали времена поспокойнее — но и в эти времена тоже случались неожиданности, однако я не принимал их слишком близко к сердцу, они без большого труда укладывались в жизнь, хоть и были источником печали и усталости; в прочем же мне удавалось оставаться пусть немного холодным, замкнутым, опасливым, расчетливым, но тем не менее в целом добропорядочным псом. Как бы я достиг своего теперешнего возраста без этих периодов отдыха, как бы отвоевал спокойствие, с которым смотрю на кошмары моей юности и переношу кошмары зрелости; как бы сумел сделать должные выводы в отношении моих, что уж говорить, несчастных или, выражаясь более осторожно, не очень счастливых предрасположенностей и зачем бы стал жить в почти полном соответствии с этими выводами? Замкнуто, одиноко, занимаясь только своими безнадежными, но для меня необходимыми скромными разысканиями: так я живу, но и на расстоянии я не потерял из виду мой народ. Иногда до меня доходят новости, и я тоже время от времени даю о себе знать. Ко мне относятся с уважением, хоть и не понимают моего образа жизни, но никто на меня не обижается за то, как я живу, и даже молодые собаки, иногда пробегающие вдали, то новое поколение, чье детство я только смутно припоминаю, не отказывают мне в почтительном приветствии.
Нужно заметить, что, несмотря на все мои очевидные странности, не такой уж я урод в семье. Если как следует подумать — а на это у меня довольно и времени, и желания, и способностей, — дела с собачьим народом и вообще обстоят удивительно. Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости. И тут же противоречие: ни один вид существ, насколько я знаю, не живет так разрозненно, как собаки, ни у одного вида нет такого разнообразия классов, родов и занятий. Мы так стремимся держаться вместе — и случаются мгновения восторга, когда нам это несмотря ни на что удается, — а при этом живем в отрыве друг от друга, исполняя такие необычные задания, что зачастую не объяснишь и соседу, чем занимаешься, и придерживаясь предписаний не собачьего толка, а наоборот, скорее идущих вразрез с собачьей природой. Какие это все сложные вещи, вещи, которых лучше вообще не касаться, — и я хорошо понимаю такую точку зрения, понимаю ее лучше, чем свою собственную, — и тем не менее этими-то вещами я и увлечен безоглядно. Почему я не веду себя как все, почему не живу в согласии со своим народом и не принимаю без лишних слов то, что нас разъединяет, просто как данность, как небольшую погрешность в общем уравнении, погрешность, которой можно пренебречь! Почему не держусь крепко за то, что приносит счастье, а поддаюсь тяге — и должен признаться, она подчас безудержна, — вырывающей нас из родовой общности.
Я помню случай из своей юности, я тогда был охвачен тем необъяснимым радостным возбуждением, которое в детстве испытывает, наверное, каждый; я тогда был еще совсем щенок, мне все нравилось, до всего было дело, я верил, что вокруг меня свершаются великие дела, а сам я стою в центре свершений и мой голос оповещает о них весь мир, и дела не сдвинулись бы с места, если бы я не бежал на подмогу, не суетился, не крутился вокруг; одним словом, это все детские фантазии, с годами они рассеиваются. Тогда, однако, я был целиком в плену этих фантазий; и вдруг произошло нечто действительно необычайное, словно бы подтверждавшее правомерность самых безудержных мечтаний. Ничего особенно необычайного в этом, в сущности, не было, потом я видел и более странные вещи, но в тот момент увиденное произвело на меня огромное, неизведанное и неизбывное впечатление, во многом даже определяющее все последующее. Дело в том, что я повстречал небольшую группу собак, точнее говоря, не я ее повстречал, а она попалась мне на пути. Я долго бежал в темноте в предчувствии великих свершений — предчувствие, правда, несколько обманчивое, потому что тогда оно у меня было всегда, — я долго бежал в темноте то туда то сюда, слеп и глух ко всему, ведомый одним только неясным устремлением, и вдруг меня настигло чувство, что я у цели. Я поднял глаза, все вокруг заливал избыточно яркий свет, только немного мутный, а воздух наполнялся перемежавшими друг друга одуряющими запахами. Неясными звуками я поприветствовал утро, и тут, словно бы я вызвал их на свет заклинанием, в сопровождении неслыханного, ужасающего шума из темноты выступило семеро собак. Если бы я не видел со всей ясностью, что это именно собаки и что шум исходит от них, пусть я и не понимал, каким образом, — я бы немедленно пустился в бегство. Но тут я остался на месте. Я еще не знал почти ничего о дарованной собачьему роду творческой музыкальности, и моей наблюдательности, только мало-помалу развивавшейся, еще, естественно, было недостаточно, чтобы ее распознать, ведь музыка окружала меня с младенчества как сам собой разумеющийся и неотменимый жизненный элемент, особенно выделять который меня тогда ничто не заставляло, и только исподволь мне пытались указать на существование музыки так, чтобы это было доступно детскому пониманию; потому тем более поразительным, прямо-таки сногсшибательным оказалось для меня теперь появление этих семи великих музыкантов. Они не говорили, не пели, они почти что и вовсе молчали, причем с большим упорством, но из пустого пространства они, как по волшебству, извлекали музыку. Музыкой было все: то, как они поднимали и опускали лапы, как поворачивали головы, как они двигались и как замирали, какие позы принимали по отношению друг к другу, выстраиваясь в хоровод, когда один клал передние лапы на плечи другого, так что первый нес груз всех остальных, или когда они составляли вместе хитро переплетенные фигуры, передвигаясь почти ползком по земле, и ни один не нарушал строя, даже последний из них, который был еще немного неуверенным, иногда не сразу попадал в такт с другими, в какой-то мере отставал от мелодии, но все же эта неуверенность чувствовалась только в сравнении с великолепной точностью остальных, и даже будь его неуверенность заметней, будь он даже вовсе не уверен в себе, это ничему бы не помешало, потому что остальные, большие искусники, не дали бы общему строю поколебаться. Но при этом их почти не было видно, их всех почти не было видно. Они выступили на свет, про себя каждый уж было приветствовал их как собак, вот только очень смущал шум, который сопутствовал их появлению, и все же это были собаки, такие же собаки, как я и ты, на вид вполне обыкновенные, как всегда и попадаются на пути, хотелось подойти, обменяться с ними приветствиями, они были совсем близко, и хоть эти собаки были много старше меня и не моей длинношерстной породы, но все же не казались совершенно отличными от меня ни размером, ни внешностью вообще, а наоборот, казались знакомыми, я видел много похожих собак, но пока погружаешься в такие размышления, музыка постепенно берет верх, прямо-таки подхватывает и влечет тебя за собой прочь от этих маленьких смертных собак, и помимо воли, пусть ты и сопротивляешься изо всех сил, рыдаешь, будто от причиненной боли, тебе не остается ничего иного, кроме как целиком предаться музыке, доносящейся со всех сторон, из высоты, из глубины, она вытягивает слушателя на середину, обрушивается на него, расплющивает, а потом звучит над ним, уничтоженным, и чем ближе, тем слышнее в ней даль и замирающие вдали фанфары. Потом музыка снова отпускала слушателя: он был уже слишком измотан, уничтожен, слаб и неспособен слышать, и теперь-то он видел, как семеро собачонок ведут свой хоровод, делают трюки, и хотелось их окликнуть, несмотря на их неприступный вид, и спросить, что же они такое делают; — я был ребенок и считал, что имею право задавать любые вопросы всегда и всем, — но только я собрался открыть рот, только почувствовал привычное теплое собачье родство с этими семерыми, как музыка опять появилась, лишила рассудка, закружила меня, будто я и сам был одним из музыкантов, хотя на деле я был жертвой музыки, бросавшей меня из стороны в сторону, сколько я ни просил пощады, и в конце концов меня от ее неистовства спасла она же сама, когда отбросила меня в густые кусты, окаймлявшие ту лесную полянку, этих кустов я прежде не заметил, но теперь они приняли меня в свои объятия, опустили мою голову и, пусть снаружи еще и гремела музыка, я смог немного перевести дух. Меня поистине поразила — даже больше, чем само их искусство, которого я не мог постичь, оно было всецело за пределами моих способностей — отвага этих семи собак, целиком отдавшихся во власть производимой ими музыки, и их способность спокойно выносить ее действие, несокрушимость их хребтов. Правда, теперь, наблюдая за ними более пристально из своего укрытия, я понял, что они работали не столько в спокойствии, сколько в крайнем напряжении, и хотя казалось, что они переставляют лапы уверенно, на деле их лапы непрестанно тряслись, каждый шаг они совершали боязливо, с дрожью, один неотрывно смотрел на другого, будто в отчаянии, и как они ни напрягались, язык вываливался и снова безвольно свисал у них из пасти. Не может быть, чтобы их так беспокоил страх неудачи: кто отважился на такое и не отступил, тому уже не страшно. — Так откуда же страх? Кто заставлял их делать то, что они делали? Тут я не выдержал, более всего потому, что мне вдруг непонятно почему показалось, будто им нужна помощь, и я громко и требовательно выкрикнул свои вопросы, стараясь перебороть шум. Но они — непостижимо! непостижимо! — они не ответили, будто не пожелали меня замечать. Чтобы собаки не ответили на собачий зов — это же нарушение всяких приличий, ни при каких обстоятельствах не простительное ни самой маленькой, ни самой большой собаке. Так что же, значит, это были уже не собаки? Но нет, как же не собаки, ведь я даже мог разобрать, если прислушаться, тихий обмен репликами, которыми они подбадривали друг друга, напоминали о трудностях, предостерегали от ошибок, я даже видел, как последняя еще из них — к ней они как раз чаще всего и обращались — то и дело косилась в мою сторону, будто и хотела бы мне ответить, но приходится сдерживаться, потому что нельзя. Но почему же нельзя, почему то, чего по нашим законам следует придерживаться во всех обстоятельствах, в этом случае невозможно? Меня это так возмутило, что я почти забыл о музыке. Эти собаки нарушают закон. Будь они хоть величайшими волшебниками, закон распространяется и на них, даже я, ребенок, отчетливо это понимал. И отсюда еще один вывод: у них действительно были причины молчать, если исходить из того, что они молчали из чувства вины. Ведь как они себя вели! Если бы не музыка, я бы сразу заметил, что они отбросили всякий стыд, эти несчастные совершали нечто смехотворное и одновременно неприличное — ходили на задних лапах. Тьфу! Они обнажились и открыто щеголяли наготой всем на обозрение прямо-таки с гордостью, а если на мгновение безотчетно подчинялись благопристойности и опускались на передние лапы, то тут же будто пугались, словно природа — это ошибка, поспешно снова поднимали лапы, а их взгляд будто молил о прощении за то, что они ненадолго поддались своей греховности. Неужели мир встал с ног на голову? Где я? Что случилось? Сейчас я не имел права раздумывать о собственном положении, я высвободился из заключавших меня тесных зарослей, одним прыжком выскочил на середину и устремился к этим собакам, я, школяр, вынужден был стать учителем и объяснить им, чтó они творили, я должен был удержать их от новых прегрешений. «Но вы же взрослые собаки, взрослые собаки!» — без конца твердил я себе под нос. Однако стоило мне выйти на свет и приблизиться к ним на расстояние двух-трех прыжков, как я снова оказался во власти шума. Возможно, на этот раз у меня бы хватило пыла и я сумел бы противостоять шуму, теперь уже мне знакомому, если бы только я не различил ясного и строгого в своем постоянстве звука, он будто бы без всяких искажений доносился из самой дальней дали — возможно, это и была сама мелодия, проницавшая всю хоть и чудовищную, но, может быть, все же одолимую толщу шума; этот звук сбил меня с ног. Ах, какую завораживающую музыку играли эти собаки. Я все бросил, у меня пропало всякое желание их поучать, пускай раздвигают лапы, упорствуют в грехе сами и соблазняют других, склоняя к немому наблюдению, ведь я был еще такой маленький пес, кто мог требовать, чтобы я справился с такой тяжелой задачей? Я сжался в комочек, пытаясь стать еще меньше, и поскуливал, а если бы эти собаки теперь спросили моего мнения, я бы, наверное, с ними во всем согласился. Это, правда, продолжалось недолго: вскоре они, вместе со всем шумом и огнями, исчезли в темноте, из которой раньше появились.
Как я уже говорил, во всем этом происшествии не было ничего необыкновенного, за долгую жизнь сталкиваешься с такими событиями, которые, если выдернуть их из контекста и вдобавок посмотреть на них глазами ребенка, покажутся еще удивительнее. Кроме того, конечно, любую собаку можно — используя это меткое слово — «заговорить», и это происшествие тоже можно объяснить, и тогда получается, что всего лишь семеро музыкантов сошлись поутру, чтобы спокойно помузицировать, а тут вдруг к ним приблудился неуместный слушатель, щенок, которого они — увы, тщетно — попытались отогнать особенно пугающей или возвышенной музыкой. Он и так уже, посторонний, помешал им своим присутствием, так неужели же они должны были теперь отвечать на его вопросы и тем самым усугубить это вмешательство? И хотя закон предписывает отвечать всем, входит ли в число этих всех такой маленький приблудный песик? Может быть, они попросту не расслышали, он ведь пролаял свои вопросы очень неразборчиво. Или, может быть, они его все же услышали и, переборов себя, ответили, но он, щенок, не привыкший к музыке, не смог среди ее звуков различить ответа. А что касается хождения на задних лапах, то, может быть, пусть это и грешно, они так и ходили, но только в этом исключительном случае! Ведь они были одни, семеро друзей между собой, в собственном узком кругу, до известной степени в своих четырех стенах, до известной степени совершенно наедине друг с другом, ведь друзья — не общественность, а где нет общественности, там и маленькая любопытная уличная собачка — еще не общественность, а если так, то нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Конечно, не совсем, но почти ничего, а вот родителям надо поменьше позволять детям бегать где попало, зато учить их побольше помалкивать и уважать старших.
Нужно заметить, что, несмотря на все мои очевидные странности, не такой уж я урод в семье. Если как следует подумать — а на это у меня довольно и времени, и желания, и способностей, — дела с собачьим народом и вообще обстоят удивительно. Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости. И тут же противоречие: ни один вид существ, насколько я знаю, не живет так разрозненно, как собаки, ни у одного вида нет такого разнообразия классов, родов и занятий. Мы так стремимся держаться вместе — и случаются мгновения восторга, когда нам это несмотря ни на что удается, — а при этом живем в отрыве друг от друга, исполняя такие необычные задания, что зачастую не объяснишь и соседу, чем занимаешься, и придерживаясь предписаний не собачьего толка, а наоборот, скорее идущих вразрез с собачьей природой. Какие это все сложные вещи, вещи, которых лучше вообще не касаться, — и я хорошо понимаю такую точку зрения, понимаю ее лучше, чем свою собственную, — и тем не менее этими-то вещами я и увлечен безоглядно. Почему я не веду себя как все, почему не живу в согласии со своим народом и не принимаю без лишних слов то, что нас разъединяет, просто как данность, как небольшую погрешность в общем уравнении, погрешность, которой можно пренебречь! Почему не держусь крепко за то, что приносит счастье, а поддаюсь тяге — и должен признаться, она подчас безудержна, — вырывающей нас из родовой общности.
Я помню случай из своей юности, я тогда был охвачен тем необъяснимым радостным возбуждением, которое в детстве испытывает, наверное, каждый; я тогда был еще совсем щенок, мне все нравилось, до всего было дело, я верил, что вокруг меня свершаются великие дела, а сам я стою в центре свершений и мой голос оповещает о них весь мир, и дела не сдвинулись бы с места, если бы я не бежал на подмогу, не суетился, не крутился вокруг; одним словом, это все детские фантазии, с годами они рассеиваются. Тогда, однако, я был целиком в плену этих фантазий; и вдруг произошло нечто действительно необычайное, словно бы подтверждавшее правомерность самых безудержных мечтаний. Ничего особенно необычайного в этом, в сущности, не было, потом я видел и более странные вещи, но в тот момент увиденное произвело на меня огромное, неизведанное и неизбывное впечатление, во многом даже определяющее все последующее. Дело в том, что я повстречал небольшую группу собак, точнее говоря, не я ее повстречал, а она попалась мне на пути. Я долго бежал в темноте в предчувствии великих свершений — предчувствие, правда, несколько обманчивое, потому что тогда оно у меня было всегда, — я долго бежал в темноте то туда то сюда, слеп и глух ко всему, ведомый одним только неясным устремлением, и вдруг меня настигло чувство, что я у цели. Я поднял глаза, все вокруг заливал избыточно яркий свет, только немного мутный, а воздух наполнялся перемежавшими друг друга одуряющими запахами. Неясными звуками я поприветствовал утро, и тут, словно бы я вызвал их на свет заклинанием, в сопровождении неслыханного, ужасающего шума из темноты выступило семеро собак. Если бы я не видел со всей ясностью, что это именно собаки и что шум исходит от них, пусть я и не понимал, каким образом, — я бы немедленно пустился в бегство. Но тут я остался на месте. Я еще не знал почти ничего о дарованной собачьему роду творческой музыкальности, и моей наблюдательности, только мало-помалу развивавшейся, еще, естественно, было недостаточно, чтобы ее распознать, ведь музыка окружала меня с младенчества как сам собой разумеющийся и неотменимый жизненный элемент, особенно выделять который меня тогда ничто не заставляло, и только исподволь мне пытались указать на существование музыки так, чтобы это было доступно детскому пониманию; потому тем более поразительным, прямо-таки сногсшибательным оказалось для меня теперь появление этих семи великих музыкантов. Они не говорили, не пели, они почти что и вовсе молчали, причем с большим упорством, но из пустого пространства они, как по волшебству, извлекали музыку. Музыкой было все: то, как они поднимали и опускали лапы, как поворачивали головы, как они двигались и как замирали, какие позы принимали по отношению друг к другу, выстраиваясь в хоровод, когда один клал передние лапы на плечи другого, так что первый нес груз всех остальных, или когда они составляли вместе хитро переплетенные фигуры, передвигаясь почти ползком по земле, и ни один не нарушал строя, даже последний из них, который был еще немного неуверенным, иногда не сразу попадал в такт с другими, в какой-то мере отставал от мелодии, но все же эта неуверенность чувствовалась только в сравнении с великолепной точностью остальных, и даже будь его неуверенность заметней, будь он даже вовсе не уверен в себе, это ничему бы не помешало, потому что остальные, большие искусники, не дали бы общему строю поколебаться. Но при этом их почти не было видно, их всех почти не было видно. Они выступили на свет, про себя каждый уж было приветствовал их как собак, вот только очень смущал шум, который сопутствовал их появлению, и все же это были собаки, такие же собаки, как я и ты, на вид вполне обыкновенные, как всегда и попадаются на пути, хотелось подойти, обменяться с ними приветствиями, они были совсем близко, и хоть эти собаки были много старше меня и не моей длинношерстной породы, но все же не казались совершенно отличными от меня ни размером, ни внешностью вообще, а наоборот, казались знакомыми, я видел много похожих собак, но пока погружаешься в такие размышления, музыка постепенно берет верх, прямо-таки подхватывает и влечет тебя за собой прочь от этих маленьких смертных собак, и помимо воли, пусть ты и сопротивляешься изо всех сил, рыдаешь, будто от причиненной боли, тебе не остается ничего иного, кроме как целиком предаться музыке, доносящейся со всех сторон, из высоты, из глубины, она вытягивает слушателя на середину, обрушивается на него, расплющивает, а потом звучит над ним, уничтоженным, и чем ближе, тем слышнее в ней даль и замирающие вдали фанфары. Потом музыка снова отпускала слушателя: он был уже слишком измотан, уничтожен, слаб и неспособен слышать, и теперь-то он видел, как семеро собачонок ведут свой хоровод, делают трюки, и хотелось их окликнуть, несмотря на их неприступный вид, и спросить, что же они такое делают; — я был ребенок и считал, что имею право задавать любые вопросы всегда и всем, — но только я собрался открыть рот, только почувствовал привычное теплое собачье родство с этими семерыми, как музыка опять появилась, лишила рассудка, закружила меня, будто я и сам был одним из музыкантов, хотя на деле я был жертвой музыки, бросавшей меня из стороны в сторону, сколько я ни просил пощады, и в конце концов меня от ее неистовства спасла она же сама, когда отбросила меня в густые кусты, окаймлявшие ту лесную полянку, этих кустов я прежде не заметил, но теперь они приняли меня в свои объятия, опустили мою голову и, пусть снаружи еще и гремела музыка, я смог немного перевести дух. Меня поистине поразила — даже больше, чем само их искусство, которого я не мог постичь, оно было всецело за пределами моих способностей — отвага этих семи собак, целиком отдавшихся во власть производимой ими музыки, и их способность спокойно выносить ее действие, несокрушимость их хребтов. Правда, теперь, наблюдая за ними более пристально из своего укрытия, я понял, что они работали не столько в спокойствии, сколько в крайнем напряжении, и хотя казалось, что они переставляют лапы уверенно, на деле их лапы непрестанно тряслись, каждый шаг они совершали боязливо, с дрожью, один неотрывно смотрел на другого, будто в отчаянии, и как они ни напрягались, язык вываливался и снова безвольно свисал у них из пасти. Не может быть, чтобы их так беспокоил страх неудачи: кто отважился на такое и не отступил, тому уже не страшно. — Так откуда же страх? Кто заставлял их делать то, что они делали? Тут я не выдержал, более всего потому, что мне вдруг непонятно почему показалось, будто им нужна помощь, и я громко и требовательно выкрикнул свои вопросы, стараясь перебороть шум. Но они — непостижимо! непостижимо! — они не ответили, будто не пожелали меня замечать. Чтобы собаки не ответили на собачий зов — это же нарушение всяких приличий, ни при каких обстоятельствах не простительное ни самой маленькой, ни самой большой собаке. Так что же, значит, это были уже не собаки? Но нет, как же не собаки, ведь я даже мог разобрать, если прислушаться, тихий обмен репликами, которыми они подбадривали друг друга, напоминали о трудностях, предостерегали от ошибок, я даже видел, как последняя еще из них — к ней они как раз чаще всего и обращались — то и дело косилась в мою сторону, будто и хотела бы мне ответить, но приходится сдерживаться, потому что нельзя. Но почему же нельзя, почему то, чего по нашим законам следует придерживаться во всех обстоятельствах, в этом случае невозможно? Меня это так возмутило, что я почти забыл о музыке. Эти собаки нарушают закон. Будь они хоть величайшими волшебниками, закон распространяется и на них, даже я, ребенок, отчетливо это понимал. И отсюда еще один вывод: у них действительно были причины молчать, если исходить из того, что они молчали из чувства вины. Ведь как они себя вели! Если бы не музыка, я бы сразу заметил, что они отбросили всякий стыд, эти несчастные совершали нечто смехотворное и одновременно неприличное — ходили на задних лапах. Тьфу! Они обнажились и открыто щеголяли наготой всем на обозрение прямо-таки с гордостью, а если на мгновение безотчетно подчинялись благопристойности и опускались на передние лапы, то тут же будто пугались, словно природа — это ошибка, поспешно снова поднимали лапы, а их взгляд будто молил о прощении за то, что они ненадолго поддались своей греховности. Неужели мир встал с ног на голову? Где я? Что случилось? Сейчас я не имел права раздумывать о собственном положении, я высвободился из заключавших меня тесных зарослей, одним прыжком выскочил на середину и устремился к этим собакам, я, школяр, вынужден был стать учителем и объяснить им, чтó они творили, я должен был удержать их от новых прегрешений. «Но вы же взрослые собаки, взрослые собаки!» — без конца твердил я себе под нос. Однако стоило мне выйти на свет и приблизиться к ним на расстояние двух-трех прыжков, как я снова оказался во власти шума. Возможно, на этот раз у меня бы хватило пыла и я сумел бы противостоять шуму, теперь уже мне знакомому, если бы только я не различил ясного и строгого в своем постоянстве звука, он будто бы без всяких искажений доносился из самой дальней дали — возможно, это и была сама мелодия, проницавшая всю хоть и чудовищную, но, может быть, все же одолимую толщу шума; этот звук сбил меня с ног. Ах, какую завораживающую музыку играли эти собаки. Я все бросил, у меня пропало всякое желание их поучать, пускай раздвигают лапы, упорствуют в грехе сами и соблазняют других, склоняя к немому наблюдению, ведь я был еще такой маленький пес, кто мог требовать, чтобы я справился с такой тяжелой задачей? Я сжался в комочек, пытаясь стать еще меньше, и поскуливал, а если бы эти собаки теперь спросили моего мнения, я бы, наверное, с ними во всем согласился. Это, правда, продолжалось недолго: вскоре они, вместе со всем шумом и огнями, исчезли в темноте, из которой раньше появились.
Как я уже говорил, во всем этом происшествии не было ничего необыкновенного, за долгую жизнь сталкиваешься с такими событиями, которые, если выдернуть их из контекста и вдобавок посмотреть на них глазами ребенка, покажутся еще удивительнее. Кроме того, конечно, любую собаку можно — используя это меткое слово — «заговорить», и это происшествие тоже можно объяснить, и тогда получается, что всего лишь семеро музыкантов сошлись поутру, чтобы спокойно помузицировать, а тут вдруг к ним приблудился неуместный слушатель, щенок, которого они — увы, тщетно — попытались отогнать особенно пугающей или возвышенной музыкой. Он и так уже, посторонний, помешал им своим присутствием, так неужели же они должны были теперь отвечать на его вопросы и тем самым усугубить это вмешательство? И хотя закон предписывает отвечать всем, входит ли в число этих всех такой маленький приблудный песик? Может быть, они попросту не расслышали, он ведь пролаял свои вопросы очень неразборчиво. Или, может быть, они его все же услышали и, переборов себя, ответили, но он, щенок, не привыкший к музыке, не смог среди ее звуков различить ответа. А что касается хождения на задних лапах, то, может быть, пусть это и грешно, они так и ходили, но только в этом исключительном случае! Ведь они были одни, семеро друзей между собой, в собственном узком кругу, до известной степени в своих четырех стенах, до известной степени совершенно наедине друг с другом, ведь друзья — не общественность, а где нет общественности, там и маленькая любопытная уличная собачка — еще не общественность, а если так, то нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Конечно, не совсем, но почти ничего, а вот родителям надо поменьше позволять детям бегать где попало, зато учить их побольше помалкивать и уважать старших.
А если так, то все ясно и говорить больше не о чем. Однако то, что ясно взрослым, не обязательно ясно детям. Я бегал, рассказывал об увиденном, расспрашивал, выдвигал обвинения, искал ответов и пытался каждого привести на место, где встретил тех семерых, чтобы показать, где и как они музицировали, и если бы со мной кто-нибудь туда пошел, вместо того чтобы отмахнуться и посмеяться, я бы, наверное, пожертвовал невинностью и сам встал на задние лапы, чтобы показать, как все в точности происходило. Что ж, ребенку все ставится в укор, зато все в конечном счете и прощается. Я же сохранил детскость характера, а меж тем состарился. Такую, как тогда, когда не мог оставить в покое этого происшествия, — я, кстати говоря, теперь уже не придаю ему особенно большого значения — и всюду о нем говорил публично, разбирал во всех подробностях, примеривал к каждому встречному, не задумываясь о том, в какой компании нахожусь, без конца интересуясь только одной вещью, пусть она и была мне тягостна не меньше, чем всем остальным, но именно поэтому и этим я отличался от других, я хотел с ней покончить, исчерпывающе ее изучив, чтобы наконец освободить голову и увидеть вокруг обычную, спокойную, счастливую будничную жизнь. Ровно так же как тогда, пусть и не прибегая к настолько ребяческим средствам, — хотя разница небольшая — я работал и впоследствии, да и по сей день недалеко от тогдашнего вопрошания ушел.
Но началось все с того концерта. Я не жалуюсь, дело в моем врожденном характере, и не будь концерта, он был проявился по каком-нибудь другому поводу. Временами мне было все же жаль, что это произошло так рано и лишило меня целой большой части детства, так что блаженная жизнь щенка, которую некоторые умеют растягивать на годы, продолжалась для меня всего несколько коротких месяцев. Что делать. Есть вещи и поважнее детства. И, может быть, под конец жизни мне еще улыбнется заработанное тяжким трудом детское счастье, такое, какого настоящий ребенок не вынес бы, а я ему буду рад.
Я начал свои исследовательские занятия с простейших вещей. Материала предостаточно, даже, к сожалению, в переизбытке, и этот переизбыток в мрачные часы приводит меня в отчаяние. Я стал исследовать, чем кормится собачий род. Надо сказать, что это, если угодно, непростой вопрос, и он, естественно, волнует нас с давних времен, это главный предмет наших размышлений, наблюдениям, опытам и воззрениям в этой области нет конца, из них сложилась целая наука, чудовищные масштабы которой способен был бы охватить ум не одного ученого и не всего сообщества ученых, а разве что всего собачьего рода в целом, да и собачий род в целом под весом этой науки стонет и не всегда выдерживает, ее здание то и дело обрушивается в самых, казалось бы, издавна освоенных областях, и приходится ее с трудом достраивать и восполнять, и я уже не говорю даже об отдельных трудностях и едва ли достижимых, однако необходимых условиях для моих собственных разысканий. Не обессудьте, я помню об этих ограничениях не хуже, чем любая, самая посредственная собака, и я даже не думаю соваться в настоящую науку, я отношусь к ней с тем уважением, которого она заслуживает, но для того, чтобы способствовать науке, мне не хватает знаний, усердия и уверенности, не в последнюю очередь и аппетита, особенно в последние несколько лет. Я поглощаю еду, но считаю, что это поглощение ни в малой степени не стоит предварительного и упорядоченного изучения с точки зрения агрономии. В этом отношении я довольствуюсь квинтэссенцией нашей науки, нехитрым напутствием на всю жизнь, с которым всякая мать отлучает щенка от груди: «Орошай все, что можешь». И разве этого не достаточно почти вполне? Что существенно важное смогли добавить к этому правилу поколения наших исследователей, начиная с самых давних предков? Частности, одни частности, и то без достоверности. А это правило нерушимо, пока существует собачий род. Оно касается нашего основного питания. Разумеется, у нас есть вспомогательные ресурсы, но в крайнем случае, если времена выдаются не самые плохие, то и основного питания хватает на жизнь; основное питание мы находим лежащим на земле, а земля нуждается в нашем орошении, и только такой ценой она дает нам пищу, появление которой, однако, чего не следует забывать, можно приблизить определенными приговорами, пением, движениями. Я считаю, что на этом все, тут добавить принципиально нечего. Здесь я согласен с подавляющим большинством собак, а все еретические воззрения на этот счет я категорически отвергаю. Меня действительно не занимают частные, особые случаи, мне никого не хочется любой ценой убеждать в своей правоте, я доволен, если могу сойтись во мнении с сородичами, и здесь я с ними во мнении схожусь. В собственных поисках, однако, я двигаюсь совсем в другом направлении. Опыт наблюдения учит меня, что земля, если ее поливать и возделывать по всем правилам науки, дает пищу, причем в таком качестве, количестве, в таких местах, в такие часы и таким образом, как в точности или хотя бы до некоторой степени предписывают установленные наукой законы. Я это признаю, но мой вопрос вот в чем: откуда земля берет эту пищу? Это — вопрос, который обычно наталкивается на напускное непонимание, и в лучшем случае мне отвечают так: «Если тебе не хватает еды, мы дадим тебе своей». Достойный внимания ответ; ведь мне известно, что готовность делиться добытой пищей не относится к добродетелям нашего собачьего рода. Жизнь тяжела, земля скудна, наука щедра идеями, но весьма скупа по части практической выгоды. У кого есть пища, тому она и достается, и это не забота только о себе, а, напротив, закон собачьей жизни, единогласное всенародное постановление, заключенное именно ради преодоления себялюбия, поскольку имущие всегда в меньшинстве. И поэтому такой ответ — «Если тебе не хватает еды, то мы дадим тебе своей» — не более чем устоявшаяся фигура речи, шутка, насмешка. Я об этом не забыл. Но тем более важно было для меня, что, когда я скитался по миру со своими вопросами, те, кто со мной говорил, оставляли шутки в стороне; пусть едой со мной и не делились — откуда бы взяться лишней еде? — а если кому-то как раз удавалось раздобыть пищу, то беспамятство голода заставляло их забывать обо всем прочем, — но все-таки разделить со мной трапезу они предлагали всерьез, и время от времени мне действительно перепадала какая-никакая малость, если только мне удавалось быстро схватить свой кусок. Почему так вышло, что со мной обращались особо, щадили меня, уступали? Потому ли, что я был худой, хилой собакой, плохо питался и слишком мало заботился о пище? Но вокруг столько плохо питающихся собак, а у них все равно утаскивают из-под носа последние крохи, когда только могут, и притом зачастую не от жадности, а из принципа. Нет, для меня делали исключение, я не могу привести тому точных доказательств, но в целом у меня сложилось такое впечатление. Или дело было в моих вопросах, радовались ли им, видели ли в них особенную мудрость? Нет, им не радовались, их считали глупыми. И тем не менее если что-то и могло привлечь внимание, то именно мои вопросы. Казалось, что из-за меня могли пойти на нечто неслыханное: заткнуть мне рот едой, — этого не происходило, но об этом думали, — лишь бы не слушать моих вопросов. Но тогда было бы проще прогнать меня и запретить себе думать о моих вопросах. Нет, этого как раз не хотели; вопросов слушать не хотели, но именно из-за этих моих вопросов прогонять меня не хотели тоже. Как бы меня ни высмеивали, ни третировали как глупое маленькое существо, как бы ни оттирали в сторону, на деле это было время, когда меня больше всего уважали, с тех пор ничего подобного не повторялось, в те времена я был вхож повсюду, мне не чинили препон, а под видом грубого обращения скрывалась лестная почтительность. И опять же — все из-за моих тогдашних вопросов, нетерпеливости, исследовательской страсти. Может быть, меня хотели убаюкать, хотели не силой, почти ласково увести с ложного пути, с пути, ложность которого, тем не менее, не настолько несомненна, чтобы было позволительно применить силу? — Кроме того, и некоторое уважение и боязнь удерживали их от применения силы. Уже тогда я догадывался о чем-то подобном, сегодня же я понимаю ясно — яснее, чем те, кто тогда это делал, — что меня и правда хотели сманить прочь с моего пути. У них ничего не вышло, они достигли противоположного результата: моя наблюдательность только обострилась. Мне даже стало понятно, что тот, кто хотел переманить других, был я сам и что мне это в известной степени действительно удалось. Лишь с помощью всего собачьего рода я стал понимать собственные вопросы. Когда я, например, спрашивал, откуда земля берет пищу, интересовала ли меня тогда, как могло показаться, земля, интересовали ли заботы земли? Ничуть, как быстро стало ясно, от них я был совершенно далек, а интересны мне были сами собаки, ничто иное. Ведь разве существует что-нибудь, кроме собак? К кому еще обратиться в этом огромном, пустом мире? Все знание, сумма всех вопросов и ответов заключены в собаках. Если бы только можно было извлечь это знание, вывести на свет дня, задействовать его, чтобы собаки наконец признались себе, что знают бесконечно больше, чем сами привыкли думать! Даже самая общительная собака скрывается от других лучше, чем те места, где можно получить самые лакомые кушанья. Крутишься вокруг товарища, истекаешь слюной от вожделения, хлещешь себя хвостом, просишь, умоляешь, воешь, кусаешь и получаешь — получаешь то, чего можно было добиться и без усилий: дружественное сочувствие, ласковые прикосновения, почтительные обнюхивания, сердечные объятия, мой и твой вой смешивается воедино, ровно как ты и хотел, восторг, забытье и обретение искомого, но то, чего искал в первую очередь, — обретение знания — остается недостижимым. На эту просьбу, неважно, немую или высказанную вслух, собаки в лучшем случае отвечают — если соблазн ответить оказывается для них крайне велик — только обескураженным видом и косыми взглядами мутных, подернутых дымкой глаз. Это мало чем отличается от того случая, когда я ребенком окликнул собак-музыкантов, а они в ответ промолчали.
Тут мне могли бы возразить: «Ты жалуешься на своих ближних, на их скрытность, когда оказываются затронуты самые важные вещи, ты утверждаешь, что они знают больше, чем готовы признать, больше, чем готовы впустить в собственную жизнь, и это умалчивание, причина и тайна которого, конечно, тоже умалчиваются, отравляет жизнь, делает ее для тебя невыносимой, ты, дескать, чувствуешь, что должен либо что-то изменить в этой жизни, либо ее покинуть; может быть, и так, но ведь ты тоже собака, ты тоже обладаешь знанием собаки, ну так и выскажи его, только не в форме вопроса, а в форме ответа. Если ты его выскажешь, кто сумеет воспротивиться? Все собачьи голоса мира сольются в один огромный хор, словно того и ждали. Тогда ты и получишь сколько душе угодно истины, ясности, знания. Кровля разверзнется над нашей низкой жизнью, которую ты так ругаешь, и мы, собаки, все как одна взойдем к высшей свободе. И даже если ничего не выйдет, если все станет еще хуже, вся правда окажется невыносимее, чем полуправда, если окажется, что те, кто молчит, правы, потому что молчат ради самой жизни, если неприметная надежда, которая у нас теперь еще есть, обернется полной безнадежностью, попытаться высказать свое знание все равно стоит, ведь так, как сейчас можно жить, ты жить не хочешь. А раз так, то почему же ты укоряешь других в умалчивании, а сам при этом молчишь?» Ответ прост: потому что и сам я — собака. В сущности я так же замкнут, противлюсь собственным вопросам, я упрям — от страха. Так неужели я, по крайней мере с тех пор как повзрослел, расспрашиваю всю общность собак ради ответа? Разве мои мечты настолько нелепы? Когда я вижу самые основы нашего бытия, догадываюсь об их глубине, наблюдаю за строителями нашего общежития, за их угрюмой работой, неужели вопреки всему жду, что в ответ на мои вопросы все это будет прекращено, разрушено, брошено? Нет, этого я в самом деле уже не жду. Я их понимаю, я — кровь от их крови, от их бедной, вечно юной, вечно изнывающей крови. Однако нас связывает не только кровь, но и знание, и не только знание, но и ключ к нему. Без других, без их помощи я бы этим знанием не обладал. — Железную кость, таящую превосходнейший мозг, не разгрызть, если не объединить усилий всех собак и всех собачьих зубов. Разумеется, я говорю образно и преувеличиваю; если бы у нас в распоряжении оказались все зубы, раскусывать кость уже не пришлось бы, она бы раскрылась сама и до мозга сумела бы добраться самая захудалая собачонка. Оставаясь в рамках этого образа, скажу, однако же, что моя цель, мои вопросы и разыскания имеют чудовищный характер. Я хочу добиться от всех собак единения, хочу заставить кость раскрыться под напором всеобщей готовности ее разгрызть, а потом отпустить собачий род жить дальше как прежде, чтобы я сам, в полном одиночестве, мог наброситься на кость и высосать мозг. Чудовищность здесь в том, что я как будто хочу наесться не столько мозгом из кости, сколько мозгом самого собачьего рода. Но и это — не более чем образ. Мозг из кости, о котором я говорю, не имеет ничего общего с едой, напротив, он — яд.
Но началось все с того концерта. Я не жалуюсь, дело в моем врожденном характере, и не будь концерта, он был проявился по каком-нибудь другому поводу. Временами мне было все же жаль, что это произошло так рано и лишило меня целой большой части детства, так что блаженная жизнь щенка, которую некоторые умеют растягивать на годы, продолжалась для меня всего несколько коротких месяцев. Что делать. Есть вещи и поважнее детства. И, может быть, под конец жизни мне еще улыбнется заработанное тяжким трудом детское счастье, такое, какого настоящий ребенок не вынес бы, а я ему буду рад.
Я начал свои исследовательские занятия с простейших вещей. Материала предостаточно, даже, к сожалению, в переизбытке, и этот переизбыток в мрачные часы приводит меня в отчаяние. Я стал исследовать, чем кормится собачий род. Надо сказать, что это, если угодно, непростой вопрос, и он, естественно, волнует нас с давних времен, это главный предмет наших размышлений, наблюдениям, опытам и воззрениям в этой области нет конца, из них сложилась целая наука, чудовищные масштабы которой способен был бы охватить ум не одного ученого и не всего сообщества ученых, а разве что всего собачьего рода в целом, да и собачий род в целом под весом этой науки стонет и не всегда выдерживает, ее здание то и дело обрушивается в самых, казалось бы, издавна освоенных областях, и приходится ее с трудом достраивать и восполнять, и я уже не говорю даже об отдельных трудностях и едва ли достижимых, однако необходимых условиях для моих собственных разысканий. Не обессудьте, я помню об этих ограничениях не хуже, чем любая, самая посредственная собака, и я даже не думаю соваться в настоящую науку, я отношусь к ней с тем уважением, которого она заслуживает, но для того, чтобы способствовать науке, мне не хватает знаний, усердия и уверенности, не в последнюю очередь и аппетита, особенно в последние несколько лет. Я поглощаю еду, но считаю, что это поглощение ни в малой степени не стоит предварительного и упорядоченного изучения с точки зрения агрономии. В этом отношении я довольствуюсь квинтэссенцией нашей науки, нехитрым напутствием на всю жизнь, с которым всякая мать отлучает щенка от груди: «Орошай все, что можешь». И разве этого не достаточно почти вполне? Что существенно важное смогли добавить к этому правилу поколения наших исследователей, начиная с самых давних предков? Частности, одни частности, и то без достоверности. А это правило нерушимо, пока существует собачий род. Оно касается нашего основного питания. Разумеется, у нас есть вспомогательные ресурсы, но в крайнем случае, если времена выдаются не самые плохие, то и основного питания хватает на жизнь; основное питание мы находим лежащим на земле, а земля нуждается в нашем орошении, и только такой ценой она дает нам пищу, появление которой, однако, чего не следует забывать, можно приблизить определенными приговорами, пением, движениями. Я считаю, что на этом все, тут добавить принципиально нечего. Здесь я согласен с подавляющим большинством собак, а все еретические воззрения на этот счет я категорически отвергаю. Меня действительно не занимают частные, особые случаи, мне никого не хочется любой ценой убеждать в своей правоте, я доволен, если могу сойтись во мнении с сородичами, и здесь я с ними во мнении схожусь. В собственных поисках, однако, я двигаюсь совсем в другом направлении. Опыт наблюдения учит меня, что земля, если ее поливать и возделывать по всем правилам науки, дает пищу, причем в таком качестве, количестве, в таких местах, в такие часы и таким образом, как в точности или хотя бы до некоторой степени предписывают установленные наукой законы. Я это признаю, но мой вопрос вот в чем: откуда земля берет эту пищу? Это — вопрос, который обычно наталкивается на напускное непонимание, и в лучшем случае мне отвечают так: «Если тебе не хватает еды, мы дадим тебе своей». Достойный внимания ответ; ведь мне известно, что готовность делиться добытой пищей не относится к добродетелям нашего собачьего рода. Жизнь тяжела, земля скудна, наука щедра идеями, но весьма скупа по части практической выгоды. У кого есть пища, тому она и достается, и это не забота только о себе, а, напротив, закон собачьей жизни, единогласное всенародное постановление, заключенное именно ради преодоления себялюбия, поскольку имущие всегда в меньшинстве. И поэтому такой ответ — «Если тебе не хватает еды, то мы дадим тебе своей» — не более чем устоявшаяся фигура речи, шутка, насмешка. Я об этом не забыл. Но тем более важно было для меня, что, когда я скитался по миру со своими вопросами, те, кто со мной говорил, оставляли шутки в стороне; пусть едой со мной и не делились — откуда бы взяться лишней еде? — а если кому-то как раз удавалось раздобыть пищу, то беспамятство голода заставляло их забывать обо всем прочем, — но все-таки разделить со мной трапезу они предлагали всерьез, и время от времени мне действительно перепадала какая-никакая малость, если только мне удавалось быстро схватить свой кусок. Почему так вышло, что со мной обращались особо, щадили меня, уступали? Потому ли, что я был худой, хилой собакой, плохо питался и слишком мало заботился о пище? Но вокруг столько плохо питающихся собак, а у них все равно утаскивают из-под носа последние крохи, когда только могут, и притом зачастую не от жадности, а из принципа. Нет, для меня делали исключение, я не могу привести тому точных доказательств, но в целом у меня сложилось такое впечатление. Или дело было в моих вопросах, радовались ли им, видели ли в них особенную мудрость? Нет, им не радовались, их считали глупыми. И тем не менее если что-то и могло привлечь внимание, то именно мои вопросы. Казалось, что из-за меня могли пойти на нечто неслыханное: заткнуть мне рот едой, — этого не происходило, но об этом думали, — лишь бы не слушать моих вопросов. Но тогда было бы проще прогнать меня и запретить себе думать о моих вопросах. Нет, этого как раз не хотели; вопросов слушать не хотели, но именно из-за этих моих вопросов прогонять меня не хотели тоже. Как бы меня ни высмеивали, ни третировали как глупое маленькое существо, как бы ни оттирали в сторону, на деле это было время, когда меня больше всего уважали, с тех пор ничего подобного не повторялось, в те времена я был вхож повсюду, мне не чинили препон, а под видом грубого обращения скрывалась лестная почтительность. И опять же — все из-за моих тогдашних вопросов, нетерпеливости, исследовательской страсти. Может быть, меня хотели убаюкать, хотели не силой, почти ласково увести с ложного пути, с пути, ложность которого, тем не менее, не настолько несомненна, чтобы было позволительно применить силу? — Кроме того, и некоторое уважение и боязнь удерживали их от применения силы. Уже тогда я догадывался о чем-то подобном, сегодня же я понимаю ясно — яснее, чем те, кто тогда это делал, — что меня и правда хотели сманить прочь с моего пути. У них ничего не вышло, они достигли противоположного результата: моя наблюдательность только обострилась. Мне даже стало понятно, что тот, кто хотел переманить других, был я сам и что мне это в известной степени действительно удалось. Лишь с помощью всего собачьего рода я стал понимать собственные вопросы. Когда я, например, спрашивал, откуда земля берет пищу, интересовала ли меня тогда, как могло показаться, земля, интересовали ли заботы земли? Ничуть, как быстро стало ясно, от них я был совершенно далек, а интересны мне были сами собаки, ничто иное. Ведь разве существует что-нибудь, кроме собак? К кому еще обратиться в этом огромном, пустом мире? Все знание, сумма всех вопросов и ответов заключены в собаках. Если бы только можно было извлечь это знание, вывести на свет дня, задействовать его, чтобы собаки наконец признались себе, что знают бесконечно больше, чем сами привыкли думать! Даже самая общительная собака скрывается от других лучше, чем те места, где можно получить самые лакомые кушанья. Крутишься вокруг товарища, истекаешь слюной от вожделения, хлещешь себя хвостом, просишь, умоляешь, воешь, кусаешь и получаешь — получаешь то, чего можно было добиться и без усилий: дружественное сочувствие, ласковые прикосновения, почтительные обнюхивания, сердечные объятия, мой и твой вой смешивается воедино, ровно как ты и хотел, восторг, забытье и обретение искомого, но то, чего искал в первую очередь, — обретение знания — остается недостижимым. На эту просьбу, неважно, немую или высказанную вслух, собаки в лучшем случае отвечают — если соблазн ответить оказывается для них крайне велик — только обескураженным видом и косыми взглядами мутных, подернутых дымкой глаз. Это мало чем отличается от того случая, когда я ребенком окликнул собак-музыкантов, а они в ответ промолчали.
Тут мне могли бы возразить: «Ты жалуешься на своих ближних, на их скрытность, когда оказываются затронуты самые важные вещи, ты утверждаешь, что они знают больше, чем готовы признать, больше, чем готовы впустить в собственную жизнь, и это умалчивание, причина и тайна которого, конечно, тоже умалчиваются, отравляет жизнь, делает ее для тебя невыносимой, ты, дескать, чувствуешь, что должен либо что-то изменить в этой жизни, либо ее покинуть; может быть, и так, но ведь ты тоже собака, ты тоже обладаешь знанием собаки, ну так и выскажи его, только не в форме вопроса, а в форме ответа. Если ты его выскажешь, кто сумеет воспротивиться? Все собачьи голоса мира сольются в один огромный хор, словно того и ждали. Тогда ты и получишь сколько душе угодно истины, ясности, знания. Кровля разверзнется над нашей низкой жизнью, которую ты так ругаешь, и мы, собаки, все как одна взойдем к высшей свободе. И даже если ничего не выйдет, если все станет еще хуже, вся правда окажется невыносимее, чем полуправда, если окажется, что те, кто молчит, правы, потому что молчат ради самой жизни, если неприметная надежда, которая у нас теперь еще есть, обернется полной безнадежностью, попытаться высказать свое знание все равно стоит, ведь так, как сейчас можно жить, ты жить не хочешь. А раз так, то почему же ты укоряешь других в умалчивании, а сам при этом молчишь?» Ответ прост: потому что и сам я — собака. В сущности я так же замкнут, противлюсь собственным вопросам, я упрям — от страха. Так неужели я, по крайней мере с тех пор как повзрослел, расспрашиваю всю общность собак ради ответа? Разве мои мечты настолько нелепы? Когда я вижу самые основы нашего бытия, догадываюсь об их глубине, наблюдаю за строителями нашего общежития, за их угрюмой работой, неужели вопреки всему жду, что в ответ на мои вопросы все это будет прекращено, разрушено, брошено? Нет, этого я в самом деле уже не жду. Я их понимаю, я — кровь от их крови, от их бедной, вечно юной, вечно изнывающей крови. Однако нас связывает не только кровь, но и знание, и не только знание, но и ключ к нему. Без других, без их помощи я бы этим знанием не обладал. — Железную кость, таящую превосходнейший мозг, не разгрызть, если не объединить усилий всех собак и всех собачьих зубов. Разумеется, я говорю образно и преувеличиваю; если бы у нас в распоряжении оказались все зубы, раскусывать кость уже не пришлось бы, она бы раскрылась сама и до мозга сумела бы добраться самая захудалая собачонка. Оставаясь в рамках этого образа, скажу, однако же, что моя цель, мои вопросы и разыскания имеют чудовищный характер. Я хочу добиться от всех собак единения, хочу заставить кость раскрыться под напором всеобщей готовности ее разгрызть, а потом отпустить собачий род жить дальше как прежде, чтобы я сам, в полном одиночестве, мог наброситься на кость и высосать мозг. Чудовищность здесь в том, что я как будто хочу наесться не столько мозгом из кости, сколько мозгом самого собачьего рода. Но и это — не более чем образ. Мозг из кости, о котором я говорю, не имеет ничего общего с едой, напротив, он — яд.
Своими вопросами я затравливаю только себя же самого, я хочу раззадорить себя молчанием, кроме которого никакого ответа мне нет. Как долго ты сможешь выносить, что собачий род, как яснее и яснее ты осознаешь благодаря своим исследованиям, молчит и всегда будет молчать? Как долго ты сможешь это выносить? — именно так звучит на деле вопрос всей моей жизни, громче всех прочих отдельных вопросов; этот вопрос обращен только ко мне самому, а больше он никому не доставляет беспокойства. К сожалению, ответить на него проще, чем на частные вопросы: предположительно я смогу это переносить вплоть до естественного конца своей жизни, беспокойным вопросам противостоит все больше спокойствие старости. По всей вероятности, я умру молча, окруженный молчанием, почти благостно, и готов хладнокровно принять такую смерть. На удивление сильное сердце, легкие, прежде времени не знающие износа, даны нам, собакам, как будто назло, и мы продолжаем противиться всем вопросам, даже собственным, мы, сущий оплот молчания.
В последнее время я все чаще размышляю о своей жизни, ищу главную ошибку, которая виной всему и которую, возможно, совершил, но не могу ее найти. А ошибку я, видимо, совершил, потому что если бы я ее не совершил и при этом, после кропотливых трудов в течение целой долгой жизни, так и не достиг желаемого результата, это означало бы, что то, чего я добивался, невозможно, и отсюда вытекает полная безнадежность. Полюбуйся на дело своей жизни! Сперва разыскания, связанные с вопросом: «Откуда земля берет пищу для нас?» Еще совсем молодой и, конечно, жизнерадостной собакой, я отказался от всех удовольствий, я обходил стороной развлечения, избегая искушений, прятал голову между лап и принимался за работу. Моя работа не была ученой ни в том, что касается учености, ни в том, что касается метода и цели. Это, наверное, было ошибкой с моей стороны, но решающего значения она иметь не могла. Я немногому научился, ведь я рано ушел от матери, быстро привык к самостоятельности и жил сам по себе, а слишком ранняя самостоятельность вредит систематической учебе. Но я многое видел, слышал и говорил со многими собаками самых разных пород и занятий, и все это я, как мне кажется, неплохо понял и неплохо связал все свои наблюдения воедино, это в некоторой степени заменило мне ученость, и кроме того, хоть самостоятельность и мешает учебе, во всем, что касается исследований, у нее есть свои преимущества. В моем случае самостоятельность была тем более необходима, что я не мог следовать действительно научным методам, то есть не мог использовать работы предшественников и сверяться с современными исследователями. Я во всем полагался только на себя, начинать мне приходилось с самых азов, и я приступил к занятиям с сознанием, ободряющим в юности, но крайне тягостным в старости, что точка, которую я поставлю в тот случайный момент, когда закончится моя жизнь, должна будет стать не просто последней, но и завершающей. Неужели я и всегда был, и по сей день остался совсем одинок в своих исследованиях? И да и нет. Не может быть, чтобы и в прежние, и в теперешние времена не существовало собак, находящихся в таком же положении, как я. Не может быть, чтобы мои дела были настолько плохи. По своей природе я ни на йоту не отличаюсь от собак. Всякую собаку, как меня, тянет задавать вопросы, и меня, как всякую собаку, тянет молчать. Всех тянет задавать вопросы. Разве могли бы иначе мои вопросы вызывать хоть и малейшие, но все же потрясения, за которыми мне часто доводилось наблюдать с восторгом, правда, с восторгом преувеличенным, и будь я иным, не достиг ли бы я гораздо большего? А то, что меня сильно тянет молчать, к сожалению, даже не требует доказательств. Таким образом, я ни в чем принципиально не отличаюсь от прочих собак, поэтому никакие расхождения во мнениях и антипатии не мешают остальным признавать меня в сущности за своего, и я сам отношусь к любой собаке точно так же. Разница только в комбинации элементов, для отдельной личности эта разница очень велика, но для народа в целом незначительна. Неужто такая, как у меня, или похожая комбинация всегда существовавших свойств характера никогда не выпадала ни в прошлом, ни в настоящем, и если мою комбинацию следует назвать неудачной, то неужто не выпадало комбинаций еще менее удачных? Это шло бы вразрез со всем остальным опытом. Поистине удивительно разнообразие собачьих занятий. Встречаются профессии, в существование которых невозможно было бы поверить, не будь у нас о них вернейших свидетельств. Мой любимый пример — воздушные собаки. Когда я впервые услышал об одной такой собаке, то рассмеялся и никак не желал в это поверить. Я не ослышался? Говорят, будто существует собака самой малой породы, немногим крупней моей головы, даже в зрелом возрасте не крупнее, и эта-то собака, разумеется, физически слабая, имеющая самый вычурный, инфантильный внешний вид, носящая слишком нарядную прическу, неспособная совершить ни одного порядочного прыжка, эта-то собака, как рассказывают, передвигается чаще всего по воздуху, при этом не прилагая видимых усилий, а, напротив, в полном покое. Нет, заставлять меня поверить в такие вещи могло означать только одно: они хотят воспользоваться моей юношеской непосредственностью, так я думал. Но немного спустя я снова услышал, теперь уже от другого рассказчика, о встрече с другой воздушной собакой. Должно быть, они сговорились, чтобы подшутить надо мной, еще очень юной собакой? Однако потом я встретил собак-музыкантов и с тех пор уже не считал существование воздушных собак невозможным, мое восприятие освободилось от предвзятости, я не отбрасывал даже самых нелепых россказней, а искал им подтверждения, насколько возможно, и нелепости казались мне не только более вероятными в этой нелепой жизни, чем осмысленные вещи, но и более полезными для моих разысканий. Так и с воздушными собаками. Я разузнал о них многое, и хотя по нынешний день мне самому не не довелось встретить ни одной, я давно твердо убежден в реальности их существования и они занимают важное место в моей картине мира. Как и в остальных вещах, меня здесь, разумеется, наводит на размышления не только их особое искусство. Кому придет в голову отрицать, достойно удивления то, что эти собаки умудряются парить в воздухе, и тут я не расхожусь во мнении с сообществом собак. Но для меня удивительнее ощущение нелепости, молчаливой нелепости этих жизней. Общественность никак ее не объясняет, просто принимает тот факт, что они парят в воздухе, вот и все, жизнь идет своим чередом, изредка разговор заходит об искусстве и тех, кто искусством занимается, но и не более того. Но почему же, милейшее собачье сообщество, почему эти собаки парят в воздухе? Каков смысл этого занятия? Почему от них нельзя добиться ни слова в объяснение? Почему они парят над землей, почему оставляют свои лапы — собачью гордость! — в небрежении, почему живут в отрыве от плодородной земли, не сеют, но все же жнут и даже, говорят, питаются особенно хорошо за счет остального собачьего рода? Мне льстит сознавать, что своими расспросами я хоть тут немного привел в движение умы. Мало-помалу начинают возникать обоснования, некое нескладное подобие обоснований — начинают, но никогда дальше начинаний дело не идет. И все же это больше, чем ничего. Проглядывает что-то, что хоть и нельзя назвать истиной, ведь истина недоступна, но что-то, говорящее о глубоком потрясении лжи. Дело в том, что все нелепые явления нашей жизни, а в особенности наинелепейшие, поддаются обоснованию. Конечно, не полностью — в том-то весь дьявольский морок и таится, — но все же достаточно, чтобы защититься от нелицеприятных вопросов. Взять, например, тех же воздушных собак: они не высокомерны, как можно было бы подумать, скорее наоборот, они особенно нуждаются в поддержке собратьев, и если поставить себя на их место, это понятно. Они пытаются — хоть и не в открытую, чтобы не нарушать обета молчания, — тем или иным способом испросить прощения за свой образ жизни или хотя бы отвлекать от него внимание в надежде, что так о нем забудут, и этой цели они добиваются, по рассказам, прямо-таки невыносимой болтливостью. У них неиссякаемый запас тем, частью это — философские рассуждения, которым они могут предаваться бесконечно, поскольку полностью отказались от телесных усилий, частью — наблюдения, которые они делают с высоты своего положения. И несмотря на то, что при таком существовании они, разумеется, не слишком отличаются силой ума и их философия, так же как и их наблюдения, не имеет ценности, никакой пользы для науки в них нет, да и не нужны науке такие жалкие вспомогательные средства, но несмотря на все это, если задать вопрос, чего вообще хотят добиться воздушные собаки, в ответ сразу скажут, что они хотят продвинуть науку. «Пусть так, — приходится возражать, — но ведь их изыскания никчемны и избыточны». На это уже не отвечают, только пожимают плечами, меняют тему, сердятся или смеются, а если подождать и потом спросить еще раз, то снова отвечают, что воздушные собаки вносят вклад в науку, и тогда, если на этот раз уже тебя самого спросят о том же, то, если недостаточно внутренне собран, легко ответить ровно так же. И, вероятно, даже хорошо не слишком упорствовать, а просто принимать воздушных собак как данность и не то чтобы соглашаться с их существованием, это невозможно, но относиться к нему спокойно. Требовать большего значит заходить слишком далеко, и тем не менее требуют большего. Требуют признавать и терпеть все новых воздушных собак, появляющихся над горизонтом. Никто точно не знает, откуда они берутся. Неужто размножаются? Есть ли у них вообще силы для размножения, у этих-то комочков изысканного меха? Невероятно, но даже если так, то когда это происходит? Их всегда видят парящими в воздухе в самодостаточном одиночестве, и если они снисходят иногда до прогулки по земле, то только ненадолго, они делают несколько изящных шажков, опять же в полном одиночестве и в напускной глубокой задумчивости, выйти из которой они не могут, даже если очень постараются, во всяком случае, так они утверждают. Но если они не размножаются, можно ли допустить мысль, что находятся собаки, которые добровольно отказываются от наземной жизни и ради удобства и известной причастности к искусству выбирают унылую жизнь на подушках? Этого нельзя допустить всерьез даже в мыслях, ни того, что воздушные собаки размножаются, ни того, что кто-то добровольно вступает в их ряды. Действительность, однако, показывает, что их становится больше; следовательно, какими непреодолимыми ни казались бы нашему рассудку препятствия на пути у воздушных собак, однажды возникшая в мире порода, даже самая странная, не вымирает или вымирает не сразу, во всяком случае, нет такой породы, в которой не была бы заложено что-то, сопротивляющееся вымиранию.
А если так, если даже такая противоестественная, бессмысленная, неприспособленная к жизни, причудливейшая порода, как воздушные собаки может существовать, касается ли это и моей собственной породы? Притом я вовсе не причудлив внешне, мой вид обычен и неприхотлив, весьма распространен, по крайней мере в здешней местности, ничем особенным не выделяется, ничего отталкивающего в нем тоже нет, в юности и даже отчасти в зрелости, когда я не пренебрегал собой и много двигался, я был даже вполне хорош собой. Особенно хвалили мой вид анфас, стройные ноги, изящную посадку головы, но и шерсть тоже, светло-серую с оттенком желтого, вьющуюся только на концах; ничего странного в этом нет, а странен только мой склад ума, хоть и не настолько — я обязан об этом помнить, — чтобы по существу отклоняться от собачьего рода как такового. Так что если даже воздушные собаки не одиноки в своем роде, если в огромном собачьем мире они время от времени встречают себе подобных и даже способны извлечь из ничего новое поколение, то и я могу жить в уверенности, что для меня не все потеряно. Конечно, у родственных мне по духу собак наверняка особенная судьба, поэтому их существование едва ли сможет мне заметно помочь уже потому, что я вряд ли различу их среди других. Мы — те, кого гнетет молчание, мы стремимся его прервать, как если бы нам не хватало воздуха, а другим, по всей видимости, молчание идет на пользу, и хоть это не более чем видимость — так же как видимостью было деланное спокойствие собак-музыкантов, в действительности весьма сильно взволнованных, — она обладает большой силой, и любые попытки разрушить эту видимость оказываются смехотворными. Как же выходят из положения мои духовные сородичи? На что похожи их попытки жить несмотря ни на что? Должно быть, существуют разные способы. Я, пока был молод, занимался расспросами. Значит, мне, возможно, нужно было держаться тех, кто задавал много вопросов, и в них я нашел бы сородичей? Некоторое время я так и делал, превозмогая себя, — превозмогая, потому что меня ведь занимают те, от кого я требую ответа, а те, кто перебивает меня вопросами, на которые я обычно ответа не знаю, мне отвратительны. И потом, кто же не задает вопросов, пока молод, и как выбрать среди множества вопросов правильные? Что один вопрос, что другой — все звучат одинаково, а дело только в том, зачем спрашивают, но и это ведь остается неясно, зачастую даже и самому вопрошающему. Да и вообще, задавать вопросы свойственно всему собачьему роду, все постоянно друг друга зачем-то спрашивают, как если бы нарочно старались замести следы правильных вопросов. Нет, среди юных любителей задавать вопросы я не найду родственных душ; не найду их и среди старых молчунов, хоть и сам теперь принадлежу к их числу. Но к чему вопросы, с вопросами я ведь потерпел неудачу; вероятно, мои сородичи умней меня и нашли совсем другие, превосходные средства, помогающие выносить нашу жизнь, вот только добавлю от себя, что эти средства, пусть и годятся на крайний случай, потому что успокаивают, усыпляют, переиначивают склад ума, в целом, вероятно, так же беспомощны, как и мои, поскольку как я ни ищу, никакого успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, что если мне как-то и удастся различить моих сородичей, то не по успешности. Где же они, родственные мне души? Да, я жалуюсь, и жалоба моя именно такова. Где они? Везде и нигде. Может быть, это мой сосед? В трех прыжках от меня, и мы часто окликаем друг друга, иногда он приходит ко мне, сам я к нему не хожу. Он мой сородич? Не знаю, ничего подобного я за ним не замечаю, но возможно, что так. Возможно — и тем не менее нет ничего маловероятнее. Когда я его не вижу, я могу напрячь воображение и отыскать в нем что-то подозрительное, но стоит ему оказаться передо мной, и все мои измышления оказываются смехотворными. Он стар, поменьше меня, хоть и сам я размером не слишком велик, у него короткая бурая шерсть, голова устало свисает к земле, походка шаркающая, к тому же он слегка приволакивает левую заднюю лапу, она у него больная. Я уже давно ни с кем так не сближался, как с ним, и я рад, что хотя бы его общество я еще способен переносить, так что когда он уходит, я кричу ему вслед самые благожелательные слова, впрочем, не из любви, а от злости на себя, потому что провожая его, я чувствую только отвращение, глядя как он плетется и подволакивает лапу, низко опустив зад. Иногда мне кажется, будто я сам над собой смеюсь, мысленно называя его своим товарищем. Ни о каком товариществе не идет речи и в наших с ним разговорах; он неглуп и по нашим меркам неплохо образован, я мог бы у него многому научиться, но зачем мне ум, зачем образованность? Обычно мы говорим о местных делах, и я, наученный наблюдательности своим одиночеством, дивлюсь тому, сколько интеллектуальных сил требуется даже обычной собаке, даже не в очень стесненных обстоятельствах, чтобы коротать свой век и ограждать себя хотя бы от самых существенных опасностей. Существуют правила, благодаря науке, но понять их даже приблизительно и в самых общих чертах совсем не легко, а тем более, поняв, приложить к частным случаям. Тут вряд ли можно положиться на кого бы то ни было, новые задачи возникают почти ежечасно и на каждом клочке земли свои, особенные; утверждать, что на всю жизнь поселился в одном месте и дальше существуешь до определенной степени по заведенному порядку, не может никто, даже я с моими день ото дня прямо-таки убывающими потребностями. И все эти бесконечные хлопоты — зачем? Только для того, чтобы все глубже зарываться в молчание, откуда уже никто и никогда не достанет.
Принято гордиться многовековым всеобщим прогрессом собачьего рода, но подразумевается главным образом научный прогресс. Разумеется, наука идет вперед, это неостановимый ход вещей, и не просто идет вперед, а ускоряется, все быстрее и быстрее, но чем тут гордиться? Это как если бы кто-нибудь гордился тем, что с годами становится старше и поэтому все быстрее приближается к смерти. Это естественный и к тому же отвратительный процесс, гордиться тут нечем. Я вижу в нем только распад, не в том смысле, что прежние поколения были лучше по своей сути, они были только моложе, а это большое преимущество, их память еще не была перегружена, как сегодня, их было легче разговорить, и даже если разговор с ними никому не удался, он был возможнее, и это-то так и волнует нас, когда мы слышим древние истории, при всей их наивности. Иногда нам удается где-то расслышать в них слова, в которых будто проскальзывает намек на нечто такое, что почти заставляет нас вскочить с места, — но мы придавлены тяжестью веков. Нет, какие бы возражения у меня ни вызывало наше время, прежние поколения были не лучше теперешнего, а в известном смысле даже намного хуже и слабее. Ничейные чудеса по улице не бродили и тогда, но собаки были, не могу выразиться иначе, еще не такие собакообразные, как нынешние, а сплоченность собачьего рода не такая крепкая, истинное слово тогда еще могло проникнуть в основание и как угодно настроить, перестроить жизнь, даже совсем ее перевернуть, и это слово было достижимо или, по крайней мере, почти достижимо, вертелось на самом кончике языка. Каждый мог его узнать; а где-то оно теперь — теперь, вгрызайся хоть в самые потроха, ничего не найдешь. Возможно, наше поколение потеряно, но оно невиннее, чем тогдашнее. Нерешительность моего поколения я могу понять, это ведь уже не то что нерешительность, это забвение сна, привидевшегося тысячу ночей назад и тысячу раз забытого, кто же станет нас сегодня винить за тысячекратно забытое? Но и нерешительность наших праотцов я, надеюсь, понимаю, мы бы на их месте, наверное, вели себя так же, хочется даже сказать: на наше счастье, не мы сами взвалили вину на свои плечи, а только движемся к смерти, ускоряя шаг, в почти безвинном молчании посреди мира, поверженного другими в темноту. Когда наши праотцы сбились с пути, они вряд ли думали, что блуждания продолжатся бесконечно, они словно бы еще видели развилку, им казалось, что повернуть вспять несложно, и если они не решились повернуть вспять, то только потому, что им хотелось немного насладиться собачьей жизнью, их жизнь еще не успела стать подлинно собачьей, а им уже представлялось, какой упоительно прекрасной она станет позже, всего самую малость позже, и потому они продолжали блуждания. Они не знали того, о чем мы догадываемся, рассматривая ход истории: душа изменяется раньше, чем жизнь, и когда собачья жизнь только начала их радовать, у них уже была древнесобачья душа, и они отстояли дальше от истока, чем им казалось или чем хотели заставить их поверить переполненные собачьей радостью глаза. А сегодня — сегодня о юности и речи нет. Это они были юны, но, к несчастью, их единственным притязанием было повзрослеть, задача, не преуспеть в которой невозможно, как доказали все последующие поколения, а наше, последнее, лучше всех.
В последнее время я все чаще размышляю о своей жизни, ищу главную ошибку, которая виной всему и которую, возможно, совершил, но не могу ее найти. А ошибку я, видимо, совершил, потому что если бы я ее не совершил и при этом, после кропотливых трудов в течение целой долгой жизни, так и не достиг желаемого результата, это означало бы, что то, чего я добивался, невозможно, и отсюда вытекает полная безнадежность. Полюбуйся на дело своей жизни! Сперва разыскания, связанные с вопросом: «Откуда земля берет пищу для нас?» Еще совсем молодой и, конечно, жизнерадостной собакой, я отказался от всех удовольствий, я обходил стороной развлечения, избегая искушений, прятал голову между лап и принимался за работу. Моя работа не была ученой ни в том, что касается учености, ни в том, что касается метода и цели. Это, наверное, было ошибкой с моей стороны, но решающего значения она иметь не могла. Я немногому научился, ведь я рано ушел от матери, быстро привык к самостоятельности и жил сам по себе, а слишком ранняя самостоятельность вредит систематической учебе. Но я многое видел, слышал и говорил со многими собаками самых разных пород и занятий, и все это я, как мне кажется, неплохо понял и неплохо связал все свои наблюдения воедино, это в некоторой степени заменило мне ученость, и кроме того, хоть самостоятельность и мешает учебе, во всем, что касается исследований, у нее есть свои преимущества. В моем случае самостоятельность была тем более необходима, что я не мог следовать действительно научным методам, то есть не мог использовать работы предшественников и сверяться с современными исследователями. Я во всем полагался только на себя, начинать мне приходилось с самых азов, и я приступил к занятиям с сознанием, ободряющим в юности, но крайне тягостным в старости, что точка, которую я поставлю в тот случайный момент, когда закончится моя жизнь, должна будет стать не просто последней, но и завершающей. Неужели я и всегда был, и по сей день остался совсем одинок в своих исследованиях? И да и нет. Не может быть, чтобы и в прежние, и в теперешние времена не существовало собак, находящихся в таком же положении, как я. Не может быть, чтобы мои дела были настолько плохи. По своей природе я ни на йоту не отличаюсь от собак. Всякую собаку, как меня, тянет задавать вопросы, и меня, как всякую собаку, тянет молчать. Всех тянет задавать вопросы. Разве могли бы иначе мои вопросы вызывать хоть и малейшие, но все же потрясения, за которыми мне часто доводилось наблюдать с восторгом, правда, с восторгом преувеличенным, и будь я иным, не достиг ли бы я гораздо большего? А то, что меня сильно тянет молчать, к сожалению, даже не требует доказательств. Таким образом, я ни в чем принципиально не отличаюсь от прочих собак, поэтому никакие расхождения во мнениях и антипатии не мешают остальным признавать меня в сущности за своего, и я сам отношусь к любой собаке точно так же. Разница только в комбинации элементов, для отдельной личности эта разница очень велика, но для народа в целом незначительна. Неужто такая, как у меня, или похожая комбинация всегда существовавших свойств характера никогда не выпадала ни в прошлом, ни в настоящем, и если мою комбинацию следует назвать неудачной, то неужто не выпадало комбинаций еще менее удачных? Это шло бы вразрез со всем остальным опытом. Поистине удивительно разнообразие собачьих занятий. Встречаются профессии, в существование которых невозможно было бы поверить, не будь у нас о них вернейших свидетельств. Мой любимый пример — воздушные собаки. Когда я впервые услышал об одной такой собаке, то рассмеялся и никак не желал в это поверить. Я не ослышался? Говорят, будто существует собака самой малой породы, немногим крупней моей головы, даже в зрелом возрасте не крупнее, и эта-то собака, разумеется, физически слабая, имеющая самый вычурный, инфантильный внешний вид, носящая слишком нарядную прическу, неспособная совершить ни одного порядочного прыжка, эта-то собака, как рассказывают, передвигается чаще всего по воздуху, при этом не прилагая видимых усилий, а, напротив, в полном покое. Нет, заставлять меня поверить в такие вещи могло означать только одно: они хотят воспользоваться моей юношеской непосредственностью, так я думал. Но немного спустя я снова услышал, теперь уже от другого рассказчика, о встрече с другой воздушной собакой. Должно быть, они сговорились, чтобы подшутить надо мной, еще очень юной собакой? Однако потом я встретил собак-музыкантов и с тех пор уже не считал существование воздушных собак невозможным, мое восприятие освободилось от предвзятости, я не отбрасывал даже самых нелепых россказней, а искал им подтверждения, насколько возможно, и нелепости казались мне не только более вероятными в этой нелепой жизни, чем осмысленные вещи, но и более полезными для моих разысканий. Так и с воздушными собаками. Я разузнал о них многое, и хотя по нынешний день мне самому не не довелось встретить ни одной, я давно твердо убежден в реальности их существования и они занимают важное место в моей картине мира. Как и в остальных вещах, меня здесь, разумеется, наводит на размышления не только их особое искусство. Кому придет в голову отрицать, достойно удивления то, что эти собаки умудряются парить в воздухе, и тут я не расхожусь во мнении с сообществом собак. Но для меня удивительнее ощущение нелепости, молчаливой нелепости этих жизней. Общественность никак ее не объясняет, просто принимает тот факт, что они парят в воздухе, вот и все, жизнь идет своим чередом, изредка разговор заходит об искусстве и тех, кто искусством занимается, но и не более того. Но почему же, милейшее собачье сообщество, почему эти собаки парят в воздухе? Каков смысл этого занятия? Почему от них нельзя добиться ни слова в объяснение? Почему они парят над землей, почему оставляют свои лапы — собачью гордость! — в небрежении, почему живут в отрыве от плодородной земли, не сеют, но все же жнут и даже, говорят, питаются особенно хорошо за счет остального собачьего рода? Мне льстит сознавать, что своими расспросами я хоть тут немного привел в движение умы. Мало-помалу начинают возникать обоснования, некое нескладное подобие обоснований — начинают, но никогда дальше начинаний дело не идет. И все же это больше, чем ничего. Проглядывает что-то, что хоть и нельзя назвать истиной, ведь истина недоступна, но что-то, говорящее о глубоком потрясении лжи. Дело в том, что все нелепые явления нашей жизни, а в особенности наинелепейшие, поддаются обоснованию. Конечно, не полностью — в том-то весь дьявольский морок и таится, — но все же достаточно, чтобы защититься от нелицеприятных вопросов. Взять, например, тех же воздушных собак: они не высокомерны, как можно было бы подумать, скорее наоборот, они особенно нуждаются в поддержке собратьев, и если поставить себя на их место, это понятно. Они пытаются — хоть и не в открытую, чтобы не нарушать обета молчания, — тем или иным способом испросить прощения за свой образ жизни или хотя бы отвлекать от него внимание в надежде, что так о нем забудут, и этой цели они добиваются, по рассказам, прямо-таки невыносимой болтливостью. У них неиссякаемый запас тем, частью это — философские рассуждения, которым они могут предаваться бесконечно, поскольку полностью отказались от телесных усилий, частью — наблюдения, которые они делают с высоты своего положения. И несмотря на то, что при таком существовании они, разумеется, не слишком отличаются силой ума и их философия, так же как и их наблюдения, не имеет ценности, никакой пользы для науки в них нет, да и не нужны науке такие жалкие вспомогательные средства, но несмотря на все это, если задать вопрос, чего вообще хотят добиться воздушные собаки, в ответ сразу скажут, что они хотят продвинуть науку. «Пусть так, — приходится возражать, — но ведь их изыскания никчемны и избыточны». На это уже не отвечают, только пожимают плечами, меняют тему, сердятся или смеются, а если подождать и потом спросить еще раз, то снова отвечают, что воздушные собаки вносят вклад в науку, и тогда, если на этот раз уже тебя самого спросят о том же, то, если недостаточно внутренне собран, легко ответить ровно так же. И, вероятно, даже хорошо не слишком упорствовать, а просто принимать воздушных собак как данность и не то чтобы соглашаться с их существованием, это невозможно, но относиться к нему спокойно. Требовать большего значит заходить слишком далеко, и тем не менее требуют большего. Требуют признавать и терпеть все новых воздушных собак, появляющихся над горизонтом. Никто точно не знает, откуда они берутся. Неужто размножаются? Есть ли у них вообще силы для размножения, у этих-то комочков изысканного меха? Невероятно, но даже если так, то когда это происходит? Их всегда видят парящими в воздухе в самодостаточном одиночестве, и если они снисходят иногда до прогулки по земле, то только ненадолго, они делают несколько изящных шажков, опять же в полном одиночестве и в напускной глубокой задумчивости, выйти из которой они не могут, даже если очень постараются, во всяком случае, так они утверждают. Но если они не размножаются, можно ли допустить мысль, что находятся собаки, которые добровольно отказываются от наземной жизни и ради удобства и известной причастности к искусству выбирают унылую жизнь на подушках? Этого нельзя допустить всерьез даже в мыслях, ни того, что воздушные собаки размножаются, ни того, что кто-то добровольно вступает в их ряды. Действительность, однако, показывает, что их становится больше; следовательно, какими непреодолимыми ни казались бы нашему рассудку препятствия на пути у воздушных собак, однажды возникшая в мире порода, даже самая странная, не вымирает или вымирает не сразу, во всяком случае, нет такой породы, в которой не была бы заложено что-то, сопротивляющееся вымиранию.
А если так, если даже такая противоестественная, бессмысленная, неприспособленная к жизни, причудливейшая порода, как воздушные собаки может существовать, касается ли это и моей собственной породы? Притом я вовсе не причудлив внешне, мой вид обычен и неприхотлив, весьма распространен, по крайней мере в здешней местности, ничем особенным не выделяется, ничего отталкивающего в нем тоже нет, в юности и даже отчасти в зрелости, когда я не пренебрегал собой и много двигался, я был даже вполне хорош собой. Особенно хвалили мой вид анфас, стройные ноги, изящную посадку головы, но и шерсть тоже, светло-серую с оттенком желтого, вьющуюся только на концах; ничего странного в этом нет, а странен только мой склад ума, хоть и не настолько — я обязан об этом помнить, — чтобы по существу отклоняться от собачьего рода как такового. Так что если даже воздушные собаки не одиноки в своем роде, если в огромном собачьем мире они время от времени встречают себе подобных и даже способны извлечь из ничего новое поколение, то и я могу жить в уверенности, что для меня не все потеряно. Конечно, у родственных мне по духу собак наверняка особенная судьба, поэтому их существование едва ли сможет мне заметно помочь уже потому, что я вряд ли различу их среди других. Мы — те, кого гнетет молчание, мы стремимся его прервать, как если бы нам не хватало воздуха, а другим, по всей видимости, молчание идет на пользу, и хоть это не более чем видимость — так же как видимостью было деланное спокойствие собак-музыкантов, в действительности весьма сильно взволнованных, — она обладает большой силой, и любые попытки разрушить эту видимость оказываются смехотворными. Как же выходят из положения мои духовные сородичи? На что похожи их попытки жить несмотря ни на что? Должно быть, существуют разные способы. Я, пока был молод, занимался расспросами. Значит, мне, возможно, нужно было держаться тех, кто задавал много вопросов, и в них я нашел бы сородичей? Некоторое время я так и делал, превозмогая себя, — превозмогая, потому что меня ведь занимают те, от кого я требую ответа, а те, кто перебивает меня вопросами, на которые я обычно ответа не знаю, мне отвратительны. И потом, кто же не задает вопросов, пока молод, и как выбрать среди множества вопросов правильные? Что один вопрос, что другой — все звучат одинаково, а дело только в том, зачем спрашивают, но и это ведь остается неясно, зачастую даже и самому вопрошающему. Да и вообще, задавать вопросы свойственно всему собачьему роду, все постоянно друг друга зачем-то спрашивают, как если бы нарочно старались замести следы правильных вопросов. Нет, среди юных любителей задавать вопросы я не найду родственных душ; не найду их и среди старых молчунов, хоть и сам теперь принадлежу к их числу. Но к чему вопросы, с вопросами я ведь потерпел неудачу; вероятно, мои сородичи умней меня и нашли совсем другие, превосходные средства, помогающие выносить нашу жизнь, вот только добавлю от себя, что эти средства, пусть и годятся на крайний случай, потому что успокаивают, усыпляют, переиначивают склад ума, в целом, вероятно, так же беспомощны, как и мои, поскольку как я ни ищу, никакого успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, что если мне как-то и удастся различить моих сородичей, то не по успешности. Где же они, родственные мне души? Да, я жалуюсь, и жалоба моя именно такова. Где они? Везде и нигде. Может быть, это мой сосед? В трех прыжках от меня, и мы часто окликаем друг друга, иногда он приходит ко мне, сам я к нему не хожу. Он мой сородич? Не знаю, ничего подобного я за ним не замечаю, но возможно, что так. Возможно — и тем не менее нет ничего маловероятнее. Когда я его не вижу, я могу напрячь воображение и отыскать в нем что-то подозрительное, но стоит ему оказаться передо мной, и все мои измышления оказываются смехотворными. Он стар, поменьше меня, хоть и сам я размером не слишком велик, у него короткая бурая шерсть, голова устало свисает к земле, походка шаркающая, к тому же он слегка приволакивает левую заднюю лапу, она у него больная. Я уже давно ни с кем так не сближался, как с ним, и я рад, что хотя бы его общество я еще способен переносить, так что когда он уходит, я кричу ему вслед самые благожелательные слова, впрочем, не из любви, а от злости на себя, потому что провожая его, я чувствую только отвращение, глядя как он плетется и подволакивает лапу, низко опустив зад. Иногда мне кажется, будто я сам над собой смеюсь, мысленно называя его своим товарищем. Ни о каком товариществе не идет речи и в наших с ним разговорах; он неглуп и по нашим меркам неплохо образован, я мог бы у него многому научиться, но зачем мне ум, зачем образованность? Обычно мы говорим о местных делах, и я, наученный наблюдательности своим одиночеством, дивлюсь тому, сколько интеллектуальных сил требуется даже обычной собаке, даже не в очень стесненных обстоятельствах, чтобы коротать свой век и ограждать себя хотя бы от самых существенных опасностей. Существуют правила, благодаря науке, но понять их даже приблизительно и в самых общих чертах совсем не легко, а тем более, поняв, приложить к частным случаям. Тут вряд ли можно положиться на кого бы то ни было, новые задачи возникают почти ежечасно и на каждом клочке земли свои, особенные; утверждать, что на всю жизнь поселился в одном месте и дальше существуешь до определенной степени по заведенному порядку, не может никто, даже я с моими день ото дня прямо-таки убывающими потребностями. И все эти бесконечные хлопоты — зачем? Только для того, чтобы все глубже зарываться в молчание, откуда уже никто и никогда не достанет.
Принято гордиться многовековым всеобщим прогрессом собачьего рода, но подразумевается главным образом научный прогресс. Разумеется, наука идет вперед, это неостановимый ход вещей, и не просто идет вперед, а ускоряется, все быстрее и быстрее, но чем тут гордиться? Это как если бы кто-нибудь гордился тем, что с годами становится старше и поэтому все быстрее приближается к смерти. Это естественный и к тому же отвратительный процесс, гордиться тут нечем. Я вижу в нем только распад, не в том смысле, что прежние поколения были лучше по своей сути, они были только моложе, а это большое преимущество, их память еще не была перегружена, как сегодня, их было легче разговорить, и даже если разговор с ними никому не удался, он был возможнее, и это-то так и волнует нас, когда мы слышим древние истории, при всей их наивности. Иногда нам удается где-то расслышать в них слова, в которых будто проскальзывает намек на нечто такое, что почти заставляет нас вскочить с места, — но мы придавлены тяжестью веков. Нет, какие бы возражения у меня ни вызывало наше время, прежние поколения были не лучше теперешнего, а в известном смысле даже намного хуже и слабее. Ничейные чудеса по улице не бродили и тогда, но собаки были, не могу выразиться иначе, еще не такие собакообразные, как нынешние, а сплоченность собачьего рода не такая крепкая, истинное слово тогда еще могло проникнуть в основание и как угодно настроить, перестроить жизнь, даже совсем ее перевернуть, и это слово было достижимо или, по крайней мере, почти достижимо, вертелось на самом кончике языка. Каждый мог его узнать; а где-то оно теперь — теперь, вгрызайся хоть в самые потроха, ничего не найдешь. Возможно, наше поколение потеряно, но оно невиннее, чем тогдашнее. Нерешительность моего поколения я могу понять, это ведь уже не то что нерешительность, это забвение сна, привидевшегося тысячу ночей назад и тысячу раз забытого, кто же станет нас сегодня винить за тысячекратно забытое? Но и нерешительность наших праотцов я, надеюсь, понимаю, мы бы на их месте, наверное, вели себя так же, хочется даже сказать: на наше счастье, не мы сами взвалили вину на свои плечи, а только движемся к смерти, ускоряя шаг, в почти безвинном молчании посреди мира, поверженного другими в темноту. Когда наши праотцы сбились с пути, они вряд ли думали, что блуждания продолжатся бесконечно, они словно бы еще видели развилку, им казалось, что повернуть вспять несложно, и если они не решились повернуть вспять, то только потому, что им хотелось немного насладиться собачьей жизнью, их жизнь еще не успела стать подлинно собачьей, а им уже представлялось, какой упоительно прекрасной она станет позже, всего самую малость позже, и потому они продолжали блуждания. Они не знали того, о чем мы догадываемся, рассматривая ход истории: душа изменяется раньше, чем жизнь, и когда собачья жизнь только начала их радовать, у них уже была древнесобачья душа, и они отстояли дальше от истока, чем им казалось или чем хотели заставить их поверить переполненные собачьей радостью глаза. А сегодня — сегодня о юности и речи нет. Это они были юны, но, к несчастью, их единственным притязанием было повзрослеть, задача, не преуспеть в которой невозможно, как доказали все последующие поколения, а наше, последнее, лучше всех.
Такие вещи со своим соседом я, конечно, не обсуждаю, но часто задумываюсь о них, когда вижу его перед собой, старика, каких много, или когда зарываюсь носом в его шерсть, уже слегка пахнущую снятой с костей шкурой. Говорить с ним об этих вещах бессмысленно, как и со всеми остальными. Я знаю, какой бы получился разговор. Он вставит несколько маленьких замечаний, а в конечном счете со всем согласится, согласие — лучшее оружие, на том тема и похоронена, так зачем ее вообще было поднимать из могилы? И тем не менее между мной и соседом существует, возможно, единодушие более глубокое, чем слова. Я не перестаю это утверждать, хоть и не нахожу тому никаких подтверждений и, возможно, обманываюсь просто потому, что он уже давно — единственный, с кем я общаюсь, и я вынужденно держусь за него. «Не ты ли — мой товарищ, на свой лад? Не стыдишься ли тоже своих неудач? Погляди на меня, я такой же. Когда я один, я вою от одиночества, иди ко мне, вдвоем милее», — так я иногда думаю и пристально вперяюсь в него взглядом. Он не отводит глаз, но и прочитать в них ничего нельзя, он тупо смотрит на меня, будто никак не поймет, почему я молчу, почему оборвал разговор. Но, может быть, этот-то взгляд и есть его способ искать ответа, и я так же обманываю его надежду, как он — мою. В молодости, если бы меня тогда не волновали другие вопросы и если бы собственных затруднений мне не было вполне достаточно, я, может быть, вслух спросил бы его, что он думает, а он бы отделался вялым согласием, так что я получил бы в ответ меньше, чем сегодня, когда он молчит. Но разве не все молчат точно так же? Что мне мешает считать каждую собаку своим товарищем, почему я решил, что собаки-исследователи как я попадаются редко и что они и их ничтожные результаты сгинули и забыты, так что прорваться сквозь потемки прошлого и толчею настоящего к своим товарищам мне уже никак не удастся, почему бы вместо этого не думать, наоборот, что каждая собака — с самого начала мой товарищ и что по мере сил каждый безнадежно старается заниматься исследованиями, по-своему безрезультатно, по-своему молча или изъясняясь обиняками. Тогда мне не нужно отделяться, а можно спокойно примкнуть к другим вместо того, чтобы проталкиваться сквозь ряды взрослых собак, словно непослушный ребенок, не понимающий, что и они точно так же хотят вырваться из толпы, и не видящий, что его раздражение вызвано всего лишь благоразумием взрослых, которое подсказывает им, что никому не вырваться из общих рядов, а толкаться — глупо.
Такие мысли у меня появляются явно под влиянием моего соседа, он меня смущает, наводит на меня меланхолию, при том что сам он вполне весел, во всяком случае, я слышу, как он у себя горланит, распевает, да так, что мне это в тягость. Хорошо бы оборвать и эту последнюю связь, перестать предаваться смутным фантазиям, которые неизбежно порождает любое общение между собаками, каким толстокожим себя ни воображай, и посвятить остаток жизни исключительно разысканиям. В следующий раз, когда он придет, я спрячусь и притворюсь спящим, и так будет повторяться до тех пор, пока он не перестанет приходить совсем.
И в мои разыскания пробрался беспорядок, я теряю силы, устаю, только по привычке продолжаю трусить вперед, а ведь раньше мчался с азартом. Я вспоминаю прежние времена, когда я только начал исследовать вопрос о том, откуда земля берет нашу пищу. Тогда я жил среди народа, проталкивался в самую гущу толпы, стремился всех превратить в свидетелей моих разысканий, и присутствие свидетелей было для меня даже важнее самой работы; поскольку я надеялся на всеобщее признание, я, разумеется, был очень увлечен, зато теперь, когда я одинок, этот стимул остался в прошлом. В те времена у меня было столько сил, что я творил неслыханные вещи, противоречащие всем нашим принципам, так что все тогдашние свидетели наверняка вспоминают обо мне как о былом кошмаре. В науке, во всех прочих аспектах основанной на стремлении к безграничной специализации, я нашел одно странное упрощение. Наука принимает как данность то, что земля дает нам пищу, и, уже сделав это допущение, указывает способы получить разные виды пищи в наилучшем качестве и наибольшем разнообразии. Земля, разумеется, дает пищу, сомнений тут быть не может, но не все так просто, как это обычно объясняют, отвергая необходимость дальнейших разысканий. Взять хотя бы самые тривиальные случаи, какие повторяются изо дня в день. Если бы мы совсем ничего не делали, а я сейчас почти так и живу, если бы, только поверхностно обработав почву, сразу сворачивались калачиком и ждали, что будет, то если допустить, что пища действительно обнаружится, мы найдем ее лежащей на земле. Но ведь это не общее правило. Кто сохранил хоть немного непредвзятости в отношении научных доводов — а таких собак мало, ведь в науку вовлекаются все более широкие круги, — тот с легкостью заметит, даже если специальные наблюдения не будут его целью, что по большей части пища, попадающая на землю, опускается сверху, мы даже обычно успеваем, в зависимости от ловкости и алчности, поймать ее еще прежде, чем она коснется земли. Замечу, что тем самым я не опровергаю нашу науку, земля, конечно, и в самом деле производит и эту пищу. Возможно, что нет большой разницы между тем, исторгает ли земля пищу изнутри или вызывает ее приход сверху, и когда в науке утверждается, что в обоих случаях необходима обработка почвы, то изучать такие малые различия науке, может быть, и не пристало, ведь говорят же, что «если твой рот полон еды, на сей раз ты решил все вопросы». Мне, однако, кажется, что в неявном виде наука все же занимается этими вопросами хотя бы отчасти, поскольку различает два основных метода получения пищи, а именно: обработку земли как таковую и дополнительную, изощренную работу в форме приговоров, танцев и пения. Я вижу в этом если и не полное, то все-таки довольно однозначное двухчастное деление, и оно соответствует моему собственному разграничению. Обработка земли, по моему мнению, служит добыче обоих видов пищи и необходима всегда, а приговоры, танец и пение направлены не столько на обработку земли в узком смысле, сколько главным образом на привлечение пищи с высоты. Моя точка зрения подтверждается традицией. В этом отношении народ корректирует науку, сам того не ведая, а наука не смеет возражать. Ведь если все эти обряды входят в служение почве, как хотелось бы думать науке, если они должны, скажем, придавать земле сил для добычи пищи с высоты, то и совершаться они должны, по логике вещей, на земле, приговоры нужно нашептывать прямо в землю и к ней же припадать в танцах и прыжках. Насколько я знаю, ничего иного наука и не требует. Но вот в чем странность: народ во всех своих обрядах обращается ввысь. Это не противоречит науке, наука не запрещает агроному свободного обращения с обрядами, научные доктрины касаются только самой земли, и если агроном применяет эти доктрины, то науке этого довольно, но, по моему мнению, научная мысль должна требовать большего. И я, хоть никогда и не был посвящен в сколько-нибудь глубокие тайны науки, не могу себе представить, как ученые могут мириться с тем, что наш народ со всем присущим ему рвением обращается к воздуху, когда возносит ввысь заклинания, выпевает наш древний плач и исполняет танцевальные прыжки так, будто хочет навсегда оторваться от земли. Я начал с того, что подчеркнул эти противоречия: всякий раз, когда наука предсказывала приближение урожая, я направлял все свое внимание к земле, я скреб ее в танце, вытягивал шею книзу так, чтобы как можно ближе припасть к земле. Позже я даже вырыл себе ямку для того, чтобы погружать туда морду, петь и произносить речи так, чтобы никто вокруг меня или надо мной их не слышал, а слышала только земля.
Результаты разысканий были незначительны. Иногда я не получал еды и уже собирался радоваться своему открытию, но потом еда все же появлялась вновь, как если бы моему странному поведению сперва удивились, но потом разглядели в нем и положительную сторону и с радостью отказались от моих восклицаний и прыжков. Зачастую еда оказывалась даже обильнее, чем раньше, но потом она вдруг не появлялась совсем. С усердием, никогда ранее не встречавшимся среди юных собак, я разрабатывал свои опыты в мельчайших деталях, иногда как будто находил след искомого, но потом след терялся в неопределенности. Мне бесспорно мешал, кроме всего прочего, недостаток научной подготовки. Например, как я мог поручиться, что непоявление еды вызвано моим экспериментом? Может быть, причина была в ненаучной обработке почвы? А если так, то все мои умозаключения не обоснованы. В определенных условиях я мог бы поставить почти безукоризненно точный эксперимент: если бы мне удалось получить еду и без обработки земли при помощи обряда, направленного в высоту, а затем — добиться непоявления еды, совершив обряд, обращенный исключительно вниз, к земле. Я попытался проделать нечто подобное, но без достаточной убежденности и в неидеальных условиях для эксперимента, ведь, по моему непоколебимому мнению, в определенной степени обработка земли необходима всегда, и даже если правы еретики, утверждающие обратное, доказать это невозможно, поскольку орошение земли происходит по нужде, совсем избавиться от которой нельзя. Другой, пусть немного нелепый, эксперимент удался мне больше и даже произвел некоторый фурор. Основываясь на обычае ловить пищу в воздухе, я решил дожидаться падения, но не подхватывать ее на лету. Для этого я делал небольшой прыжок всякий раз, когда пища появлялась, но рассчитывал его так, чтобы он оказался слишком низким; тогда пища по большей части тупо и безразлично ударялась об землю, и я набрасывался на нее с яростью, не столько от голода, сколько от разочарования. Однако в отдельных случаях происходило нечто другое, нечто и в самом деле удивительное: пища не падала, а следовала за мной в воздухе, корм преследовал голодного! Это продолжалось недолго, пища проделывала за мной короткий путь, а в конце концов либо падала, либо совсем исчезала, или — самый частый случай — побеждала алчность, эксперимент прерывался, и я все съедал. Так или иначе, я был счастлив, в моем окружении стали перешептываться, беспокоиться, приглядываться ко мне, знакомые начали больше прислушиваться к моим вопросам, в их глазах я замечал какой-то искательный блеск, и даже если это было только отражение моего собственного взгляда, я не просил ничего другого, я был доволен. Потом я, правда, узнал, а со мной узнали и другие, что эксперимент этот уже давно описан в науке, удался другим гораздо лучше, чем мне, и хоть давно больше не проводился, поскольку сдерживать голод затруднительно, но и повторять его не обязательно из-за его якобы ничтожного значения для науки. Он, мол, доказывает только то, что известно и так: земля получает пищу не только напрямую сверху, но и наискосок, и даже по спирали. Тем и кончилось, но я не отчаялся, я был еще слишком молод, чтобы отчаиваться, наоборот, этот опыт подтолкнул меня к, возможно, самому большому достижению моей жизни. Я не верил в то, что мой эксперимент не имеет ценности, как утверждает наука, но уверенности недостаточно, нужны доказательства, и я решил найти доказательство, представить этот изначально несколько нелепый эксперимент в полном свете и перенести его в самый центр моих исследований. Я хотел доказать, что когда я отодвигался от пищи, то не земля притягивала ее наискось и вниз, а я сам манил ее за собой. Правда, я не мог намного продлить время эксперимента, потому что видеть перед собой пищу, но при этом долго заниматься научным наблюдением невыносимо. Но я решил сделать по-другому, я решил, сколько будет сил, полностью отказываться от пищи, избегая при этом даже смотреть на нее, чтобы не поддаваться соблазну. Если я устранюсь, если буду и день и ночь лежать, закрыв глаза, не думая ни о том, чтобы встать, ни о том, чтобы поймать пищу на лету, и если, как я не смел утверждать, но тихо надеялся, несмотря на мой отказ от всех прочих действий, кроме неизбежного и нерационального орошения земли и негромкого произнесения приговоров и песен (от танцев я решил отказаться, чтобы не утомлять себя), пища сама опустится и постучится, минуя землю, прямо мне в зубы, — если это произойдет, то не будет ли этого достаточно, чтобы пусть не опровергнуть науку, ведь в науке достаточно гибкости для особых случаев и исключений, но хотя бы заставить говорить наш народ, к счастью, не настолько терпимый к особым случаям и исключениям? Ведь это не будет исключением в том смысле, в котором о них сообщает история, когда из-за физического недомогания или душевной тоски кто-нибудь отказывается от приготовления, поиска и приема пищи, но объединенными силами собак мира и их заклинаний пища отклоняется от обычной траектории и попадает прямо в пасть больного. Однако я-то был здоров и полон сил, на аппетит ничуть не жаловался, наоборот, весь день только о пище и думал, а голоданию, кто бы что ни думал, подвергал себя добровольно при том, что вполне был способен призывать пищу сам и боролся с желанием это сделать, а в помощи собачьего общества не нуждался, напротив, строго воспрещал себе ей пользоваться.
Я выбрал место в отдаленных кустах, чтобы не слышать ни разговоров о еде, ни чавканья и хруста разгрызаемых косточек, плотно пообедал напоследок и улегся. Я решил по возможности совсем не открывать глаз: сколько времени не будет появляться еда, столько будет продолжаться для меня ночь, неважно, дни или недели. При этом большое затруднение состояло в том, что я намеревался почти вовсе не спать, потому что, хотя и не собирался призывать пищу с высоты, нужно было тем не менее оставаться начеку, чтобы не пропустить ее появление; а с другой стороны, если бы я спал, я мог бы голодать намного дольше, чем бодрствуя. По этим причинам я решил осторожно разделять время так, чтобы спать много в целом, но через короткие промежутки. Этого я добился тем, что всякий раз перед сном клал голову на тонкий сучок, который вскоре обламывался и будил меня. Так я лежал, спал или бодрствовал, мечтал или напевал про себя. Поначалу ничего особенного не происходило, видимо, там, откуда появляется пища, мое сопротивление обычному ходу вещей прошло незамеченным, и все было тихо. Мне немного мешало сосредоточиться беспокойство, что собаки заметят мое отсутствие, станут меня искать и попробуют остановить. Еще, хоть я и знал, что наука считает здешнюю почву неплодородной, но беспокоился, что просто-напросто орошая землю я нечаянно вызову появление так называемой случайной пищи и запах этой пищи меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило, и я продолжал голодать. Не считая беспокойства об этих двух вещах, я был пока спокоен, как никогда прежде. Хоть я и работал вообще-то над отменой законов науки, меня переполняли покой и почти баснословная решительность ученого. В мечтах наука даровала мне прощение, для моих исследований нашлось в ней место, у меня в ушах звучали утешительные слова, будто если мои исследования увенчаются успехом, и как раз в этом случае особенно, я не буду потерян для собачьей жизни, наука ко мне благосклонна, наука займется интерпретацией моих результатов, и уже в самом этом обещании заключалось утешение: раньше я чувствовал себя в глубине души отверженным, шел, словно дикарь, на приступ стен, ограждавших мой народ, а теперь он примет меня с почестями, вожделенное тепло от тел всех собравшихся собак заструится вокруг меня, они поднимут меня на спины, и я поплыву по ним, покачиваясь. Удивительно подействовал первый голод. Мои заслуги представились мне столь великими, что от умиления и жалости к себе я заплакал в тех тихих зарослях, не совсем понятно почему, ведь я ожидал заслуженных наград, так о чем же тогда я плакал? Наверное, ни о чем, а просто от умиротворения. Я всегда плакал только от умиротворения, хоть это случалось и нечасто. Впрочем, все быстро прошло. Прелестные картины постепенно рассеялись, когда голод стал всерьез давать о себе знать, и вскоре, распрощавшись и с фантазиями, и с умилением, я остался в полном одиночестве со жгучим голодом в утробе. «Это голод», — много раз повторял я себе, как если бы хотел заставить себя поверить, что я и голод — два разных существа и что я все еще могу отделаться от него, как от надоедливого поклонника, хотя в действительности мы уже слились в одно страдающее целое, и когда я объяснял себе, что «это голод», то на деле говорил голод и насмехался надо мной. Черные, черные дни! Я содрогаюсь, вспоминая их, правда, не столько из-за мучений, которых я тогда натерпелся, сколько потому, что с ними тогда не было покончено, и такие же мучения ожидают меня в будущем, если я хочу чего-нибудь добиться, ведь голод я и по сей день считаю последним и самым действенным средством для моих разысканий. Этот путь вымощен голодом, высшее знание достижимо только высшей выдержкой, если достижимо вообще, а высшая выдержка для нас — добровольное голодание. Поэтому когда я раздумываю о тогдашних временах — а я смертельно люблю бередить память о них, — я со страхом думаю и о временах предстоящих. Кажется, что должна пройти почти целая жизнь, чтобы восстановились силы после такого опыта; от тогдашнего голодания меня отделяют долгие годы зрелости, но силы ко мне пока не полностью вернулись. Если я снова начну голодать, то решимости у меня будет, возможно, больше, чем в прошлый раз, поскольку теперь у меня больше опыта и осознания необходимости эксперимента, но сил у меня меньше, их — еще с тех пор — поубавилось; боюсь, я выдохнусь в одном ожидании знакомых мучений. Теперешний плохой аппетит мне не поможет, он только немного снизит значимость эксперимента, к тому же он, по всей вероятности, заставит меня голодать дольше, чем это было необходимо в прошлый раз. Думаю, мне ясны и эти, и прочие обстоятельства, поскольку предварительных опытов я за это долгое время провел немало, часто я словно бы надкусывал голодание, но решиться на высшую задачу мне не хватало сил, а юношески непосредственное желание ринуться в бой, разумеется, давно исчезло. Оно исчезло еще тогда, во время того голодания. Меня терзали разные размышления. Наши праотцы представали передо мной в угрожающем свете. Я не решаюсь высказать свое мнение открыто, но считаю, что они виновны во всем, они одни в ответе за нашу собачью жизнь, так что я мог бы ответить на их угрозы угрозами, но я склоняюсь перед их знанием, его истоки нам теперешним неизвестны, поэтому, как бы меня ни тянуло их побороть, я никогда прямо их законы не нарушу, но через лазейки в их законах, на которые у меня острое чутье, я могу упорхнуть. В отношении голодания хочу сослаться на знаменитый диалог, в ходе которого один из наших мудрецов высказал намерение запретить собакам голодать, но другой отсоветовал, задав вопрос: «Неужели же кто-нибудь захочет голодать?», так что первый мудрец согласился с этим доводом и не наложил запрета. Но вопрос, не запрещено ли голодать в принципе, все равно остается. Большинство комментаторов дают отрицательный ответ, считают голодание разрешенным, склоняются к мнению второго мудреца и потому не беспокоятся о возможных дурных последствиях ошибочного толкования. В этом я всецело убедился, прежде чем начать голодать. Но теперь, когда я корчился от голода и в уже несколько помутившемся состоянии ума непрестанно искал спасения у собственных задних лап, отчаянно вылизывая их, пережевывая, высасывая шерсть по самый задний проход, общее толкование диалога мудрецов стало казаться мне целиком и полностью ошибочным, я проклинал комментаторов с их наукой, я проклинал и себя за то, что дал им ввести себя в заблуждение, ведь даже ребенку понятно, что диалог содержит больше, чем только запрет первого мудреца на голодание, — запрет мудреца всегда имеет силу, так что голодание действительно запрещено, — но сверх того и второй мудрец не только соглашается с первым, но даже считает голодание невозможным, то есть налагает поверх первого запрета второй, запрет собачьей природы как таковой, а первый признает его правоту и отменяет прямой запрет, завещая собакам отнестись к изложенному с рассудительностью и самим запретить себе голодать. Таким образом, речь шла о тройном запрете вместо привычного одного, и его-то я нарушил. Что ж, я мог хотя бы с опозданием повиноваться и перестать голодать, но сквозь страдание пробивался соблазн голодать дальше, и я сладострастно последовал за соблазном, будто за незнакомой собакой. Я не мог остановиться, возможно, и потому, что уже слишком ослаб, чтобы встать и идти искать спасения в обжитых местах. Я катался туда-сюда по лесному настилу, спать я больше не мог, мне повсюду слышался шум, мир, дремавший во время всей моей прежней жизни, вдруг словно пробудился из-за моего голода, мне привиделось, что я уже никогда больше не смогу ничего съесть, потому что тогда ведь мне пришлось бы заставить снова умолкнуть шумный мир, вырвавшийся на свободу, а это мне не по силам, но самый громкий шум раздавался в моем животе, я часто прикладывал к животу ухо, и мои глаза наверняка выражали ужас, я не мог поверить, чтó я слышу. Когда стало совсем плохо, все мое существо стало затягивать в воронку, хоть оно и делало жалкие попытки сопротивляться; я начал чувствовать запах кушаний, изысканных кушаний, которых я не ел с далеких и счастливых детских времен; я даже стал словно бы вдыхать аромат материнской груди; я забыл о решении сопротивляться запахам, точнее, нет, я его не забыл, я ходил из стороны в сторону, два шага туда, два шага сюда, и волочил за собой решение, которое как будто тоже относилось к решению голодать и состояло в том, чтобы вынюхивать еду лишь затем, чтобы от нее уберечься. То, что я ее не находил, меня не расстраивало, еда была рядом, просто всякий раз на несколько шагов дальше, чем я мог пройти, у меня подкашивались ноги. Вместе с тем я сознавал, что вокруг нет совсем ничего, что я совершаю свои мелкие передвижения исключительно от страха свалиться с ног и уже больше не встать с места, которое станет для меня последним. Исчезла последняя надежда, последний соблазн, здесь я погибну в ничтожестве, чего стоят мои детские опыты из счастливых детских времен, здесь и теперь решается по-настоящему, есть ли ценность в моих исследованиях, но где теперь эти исследования? Вместо них — только беспомощная собака, ловящая пустоту и то и дело торопливо, судорожно орошающая землю, но не способная выловить из всего вороха в памяти ни одного заклинания, ни одного стишка хотя бы из тех, с которыми младенцы забиваются под тело матери. Мне казалось, будто меня отделяет от собратьев не расстояние короткой перебежки, а бесконечность, будто я умираю здесь не от голода, а потому что всеми покинут. Ведь было очевидно, что никто обо мне не беспокоится, никто ни под землей, ни на ней или выше, от их безразличия я погибаю, их безразличие означает: он умирает, и так тому и быть. И разве я не соглашался? Разве не говорил ровно то же самое? Не этого ли забвения желал сам? Да, братья собаки, но не ради такого ничтожного конца, а чтобы докопаться до высшей истины, чтобы выбраться из этого мира лжи, в котором нет никого, от кого можно узнать правду, даже от себя самого, уроженца лжи. Может быть, истина скрывалась неподалеку, и тогда моя покинутость не была настолько полной, насколько я воображал, и другие меня не покинули, а покинул себя только я сам, потерпевший поражение и умирающий.
Но смерть приходит не так быстро, как может вообразить нервный пес. Я упал в обморок, а когда очнулся и поднял глаза, рядом со мной стояла незнакомая собака. Я не чувствовал голода, был полон сил, чувствовал легкость в суставах, пусть и не делал попыток встать. В том, что я видел, не было ничего необычного: передо мной стояла красивая, но ничем особенно не выдающаяся собака, это я видел ясно, и все-таки мне казалось, что я вижу в ней что-то большее. Подо мной была кровь, в первый момент я решил, будто это еда, но быстро понял, что этой кровью меня вырвало. Я отвлекся от пятна и повернулся к незнакомцу. Он был худощав, с длинными ногами, бурой шерстью в отдельных белых пятнах, глаза у него были красивые, взгляд пристальный, изучающий. «Что ты тут делаешь? — спросил он. — Тебе нужно уйти». — «Я не могу сейчас уйти», — ответил я, не вдаваясь в подробности, да и как бы я смог ему все подробно объяснить; к тому же, он, по всей видимости, торопился. «Пожалуйста, уходи», — сказал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Оставь меня, — сказал я, — иди и не беспокойся обо мне, другие обо мне тоже не беспокоятся». — «Я прошу ради тебя же самого», — сказал он. «Проси по какой хочешь причине, — сказал я. — Я не могу уйти, даже если бы захотел». — «В этом трудности нет, — улыбнулся он. — Ты можешь идти. Именно потому, что ты, кажется, слаб, я прошу тебя уйти без спешки, а если будешь медлить, потом придется бежать». — «Это уж моя забота», — сказал я. «Но и моя», — огорчился он моему упрямству и как будто решился на время оставить меня тут лежать, но, раз уж выпал такой случай, подошел поближе, чтобы приластиться ко мне. В любое другое время я бы не раздумывая подпустил к себе такого красавца, но в тот момент меня охватил необъяснимый ужас. «Прочь!» — воскликнул я, вкладывая все силы в голос, ведь по-другому я сейчас защищаться не мог. «Не буду навязываться, — сказал он, медленно отступая. — Ты странный. Я тебе что, не нравлюсь?» — «Ты мне понравишься, когда уйдешь отсюда и оставишь меня в покое», — сказал я, но не так уверенно, как хотел бы звучать. Мои чувства обострились от голода, мне виделось или слышалось в нем или вокруг него что-то, что пока присутствовало только в зачатке, но нарастало и приближалось, и я знал: во власти этой собаки прогнать тебя, даже если ты пока не можешь вообразить, что вообще способен встать. В ответ на мои грубые слова он только слегка покачал головой, а я смотрел на него с растущим влечением. «Кто ты такой?» — спросил я. «Я охотник», — ответил он. «А почему ты не хочешь оставить меня в покое?» — спросил я. «Ты мне мешаешь, — сказал он, — я не могу охотиться, пока ты тут лежишь». — «Попробуй, — сказал я, — может быть, у тебя все-таки получится». — «Нет, — сказал он, — очень жаль, но тебе придется уйти». — «Ну тогда не охоться сегодня!» — попросил я. «Нет, — сказал он, — я должен охотиться». — «Я должен уйти, ты должен охотиться, — сказал я, — все должен да должен. Ты понимаешь, почему мы все время что-то должны?» — «Нет, — сказал он, — но и понимать тут нечего, это очевидные, совершенно естественные вещи». — «Вовсе нет, — сказал я, — тебе ведь жаль, что ты должен меня прогнать, и все равно ты меня гонишь». — «Так и есть», — сказал он. «Так и есть, — повторил я с досадой, — это не ответ. От чего тебе проще отказаться, от охоты или от того, чтобы меня прогнать?» — «От охоты», — ответил он без колебаний. «Ну вот, — сказал я, — в том-то и противоречие». — «Где же тут противоречие? — сказал он. — Милый песик, неужто ты не понимаешь, что я должен? Неужто ты не понимаешь очевидного?» Я ничего не ответил, потому что заметил — и по моим жилам потекла новая жизнь, такая, какую рождает ужас, — я заметил по неизъяснимым приметам, которых, возможно, никто другой не смог бы различить, что у собаки глубоко изнутри стало подниматься пение. «Ты сейчас запоешь», — сказал я. «Да, — сказал он серьезно, — я буду петь, скоро, но не сейчас». — «Ты уже начинаешь», — сказал я. «Нет, — сказал он, — еще нет, но приготовься». — «Я же слышу, хоть ты это и отрицаешь», — сказал я, дрожа. Он промолчал. И в тот момент я понял, будто вижу нечто такое, чего не встречала в жизни ни одна собака до меня, по крайней мере, в анналах ни о чем подобном не упоминается ни словом, и от стыда и страха я немедленно спрятал лицо в кровавой луже перед собой. Мне казалось, будто я различаю, что собака уже поет, еще сама об этом не зная, более того: будто мелодия плывет по воздуху совершенно без участия певца, следуя только собственным законам и обращаясь поверх головы собаки ко мне, ко мне одному. — Сегодня я, конечно, отрицаю подобные догадки и отношу свои тогдашние чувства на счет перевозбуждения, но даже если я ошибался, в самой этой ошибке кроется довольно великолепия, чтобы превратить это переживание в единственную, пусть даже и воображаемую, действительность, которую мне удалось сохранить для этого мира от времен голодания, и она показывает, по крайней мере, как далеко мы можем зайти, когда оказываемся всецело вне себя. А я был действительно полностью вне себя. В обычных обстоятельствах я бы не смог двинуться с места как тяжелобольной, но противостоять мелодии, которую теперь уже, казалось, переняла собака, я был не в силах. Мелодия становилась все громче: ее разрастание, наверное, не имело границ, и она уже почти разрывала мне слух. Хуже всего, что он, казалось, существовал только из-за меня, этот голос, перед величием которого умолкал лес, — только из-за меня; кто я такой, чтобы осмелиться здесь остаться, распростершись перед ним в луже грязи и крови? Я поднялся, пошатываясь, взглянул на собственные ноги: на таких далеко не уйдешь, подумал я, а сам тем временем уже летел роскошными прыжками долой, подгоняемый мелодией. Друзьям я ничего из этого не рассказал. Сразу после возвращения я бы, по всей вероятности, рассказал им все, но тогда я был слишком слаб, а позже мой опыт показался мне не поддающимся пересказу. У меня вырывались случайные намеки, но они бесследно рассеивались и терялись в разговорах. Телесно я поправился уже через несколько часов, а душевно и по сей день имею дело с последствиями.
Свои разыскания я, однако же, распространил на собачью музыку. Наука и в этой области, разумеется, не стоит на месте, и музыковедение, если не ошибаюсь, едва ли не обширнее, чем наука о пище, и во всяком случае более основательно. Объясняется это тем, что в данной области можно работать более беспристрастно, и тем, что музыковедение занимается главным образом наблюдениями и их систематизацией, а диетология — заключениями прежде всего практического толка. С этим же связано и то, что уважение к музыковедению выше, чем к диетологии, но первая никогда не сможет проникнуть в народ так глубоко, как вторая. Я и сам был чужд музыковедения больше, чем любой другой науки, пока не услышал тот голос в лесу. Давнишняя встреча с музыкантами подсказала мне путь к музыковедению, но тогда я был еще слишком юн. Кроме того, даже приблизиться к этой науке совсем не просто, она считается особенно сложной и с достоинством отгораживается от большинства. И хотя самое сильное первое впечатление производила именно музыка тех собак, важнее музыки мне представлялась их затаенная собачья натура, их ужасающую музыку мне совсем не с чем было сравнить, но и с тем большей легкостью я мог оставить ее без внимания, а их натуру я с тех пор узнавал во всех собаках, попадавшихся на моем пути. Разыскания о получении пищи казались мне средством самым подходящим и напрямик ведущим к цели, чтобы проникнуть в природу собак. Возможно, я был неправ. Однако уже тогда у меня вызывала подозрения область на стыке двух наук — учение о пении, призывающем появление пищи. И снова я очень беспокоюсь, что в музыковедение я углубился недостаточно, что в этом отношении не могу надеяться даже на особенно презренный в научных кругах статус недоучки. Я всегда буду ясно это сознавать. Я не смог бы сдать даже самого легкого экзамена образованному ученому, и у меня, к сожалению, есть тому подтверждения. Причина заключается, кроме уже упомянутых жизненных обстоятельств, конечно, в моей неспособности заниматься наукой, в недостаточной силе мышления, плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно сосредоточиваться на достижении научной цели. Я открыто признаюсь себе в этом, и даже с определенным удовлетворением, ведь глубинной причиной моей научной несостоятельности мне видится инстинкт, причем поистине не худший из инстинктов. Имей я желание похвалиться, я сказал бы, что этот-то инстинкт и разрушил мои научные способности, потому что иначе, если бы я был вовсе не способен занести лапу даже над самой низкой ступенькой на лестнице науки, это был бы случай по меньшей мере странный, ведь в повседневной жизни я проявляю довольно здравого смысла, чтобы решать задачи не самые простые, да к тому же достаточно хорошо понимаю пусть не науку, но самих ученых, и об этом свидетельствуют результаты моих исследований. Именно инстинкт заставлял меня ценить свободу выше всего остального, возможно, ради самой же науки, только не сегодняшней, ради науки последней и окончательной. Свобода! Правда, свобода, возможная сегодня, — весьма чахлый росток. Но все же свобода, все же какое-никакое достижение. —
Такие мысли у меня появляются явно под влиянием моего соседа, он меня смущает, наводит на меня меланхолию, при том что сам он вполне весел, во всяком случае, я слышу, как он у себя горланит, распевает, да так, что мне это в тягость. Хорошо бы оборвать и эту последнюю связь, перестать предаваться смутным фантазиям, которые неизбежно порождает любое общение между собаками, каким толстокожим себя ни воображай, и посвятить остаток жизни исключительно разысканиям. В следующий раз, когда он придет, я спрячусь и притворюсь спящим, и так будет повторяться до тех пор, пока он не перестанет приходить совсем.
И в мои разыскания пробрался беспорядок, я теряю силы, устаю, только по привычке продолжаю трусить вперед, а ведь раньше мчался с азартом. Я вспоминаю прежние времена, когда я только начал исследовать вопрос о том, откуда земля берет нашу пищу. Тогда я жил среди народа, проталкивался в самую гущу толпы, стремился всех превратить в свидетелей моих разысканий, и присутствие свидетелей было для меня даже важнее самой работы; поскольку я надеялся на всеобщее признание, я, разумеется, был очень увлечен, зато теперь, когда я одинок, этот стимул остался в прошлом. В те времена у меня было столько сил, что я творил неслыханные вещи, противоречащие всем нашим принципам, так что все тогдашние свидетели наверняка вспоминают обо мне как о былом кошмаре. В науке, во всех прочих аспектах основанной на стремлении к безграничной специализации, я нашел одно странное упрощение. Наука принимает как данность то, что земля дает нам пищу, и, уже сделав это допущение, указывает способы получить разные виды пищи в наилучшем качестве и наибольшем разнообразии. Земля, разумеется, дает пищу, сомнений тут быть не может, но не все так просто, как это обычно объясняют, отвергая необходимость дальнейших разысканий. Взять хотя бы самые тривиальные случаи, какие повторяются изо дня в день. Если бы мы совсем ничего не делали, а я сейчас почти так и живу, если бы, только поверхностно обработав почву, сразу сворачивались калачиком и ждали, что будет, то если допустить, что пища действительно обнаружится, мы найдем ее лежащей на земле. Но ведь это не общее правило. Кто сохранил хоть немного непредвзятости в отношении научных доводов — а таких собак мало, ведь в науку вовлекаются все более широкие круги, — тот с легкостью заметит, даже если специальные наблюдения не будут его целью, что по большей части пища, попадающая на землю, опускается сверху, мы даже обычно успеваем, в зависимости от ловкости и алчности, поймать ее еще прежде, чем она коснется земли. Замечу, что тем самым я не опровергаю нашу науку, земля, конечно, и в самом деле производит и эту пищу. Возможно, что нет большой разницы между тем, исторгает ли земля пищу изнутри или вызывает ее приход сверху, и когда в науке утверждается, что в обоих случаях необходима обработка почвы, то изучать такие малые различия науке, может быть, и не пристало, ведь говорят же, что «если твой рот полон еды, на сей раз ты решил все вопросы». Мне, однако, кажется, что в неявном виде наука все же занимается этими вопросами хотя бы отчасти, поскольку различает два основных метода получения пищи, а именно: обработку земли как таковую и дополнительную, изощренную работу в форме приговоров, танцев и пения. Я вижу в этом если и не полное, то все-таки довольно однозначное двухчастное деление, и оно соответствует моему собственному разграничению. Обработка земли, по моему мнению, служит добыче обоих видов пищи и необходима всегда, а приговоры, танец и пение направлены не столько на обработку земли в узком смысле, сколько главным образом на привлечение пищи с высоты. Моя точка зрения подтверждается традицией. В этом отношении народ корректирует науку, сам того не ведая, а наука не смеет возражать. Ведь если все эти обряды входят в служение почве, как хотелось бы думать науке, если они должны, скажем, придавать земле сил для добычи пищи с высоты, то и совершаться они должны, по логике вещей, на земле, приговоры нужно нашептывать прямо в землю и к ней же припадать в танцах и прыжках. Насколько я знаю, ничего иного наука и не требует. Но вот в чем странность: народ во всех своих обрядах обращается ввысь. Это не противоречит науке, наука не запрещает агроному свободного обращения с обрядами, научные доктрины касаются только самой земли, и если агроном применяет эти доктрины, то науке этого довольно, но, по моему мнению, научная мысль должна требовать большего. И я, хоть никогда и не был посвящен в сколько-нибудь глубокие тайны науки, не могу себе представить, как ученые могут мириться с тем, что наш народ со всем присущим ему рвением обращается к воздуху, когда возносит ввысь заклинания, выпевает наш древний плач и исполняет танцевальные прыжки так, будто хочет навсегда оторваться от земли. Я начал с того, что подчеркнул эти противоречия: всякий раз, когда наука предсказывала приближение урожая, я направлял все свое внимание к земле, я скреб ее в танце, вытягивал шею книзу так, чтобы как можно ближе припасть к земле. Позже я даже вырыл себе ямку для того, чтобы погружать туда морду, петь и произносить речи так, чтобы никто вокруг меня или надо мной их не слышал, а слышала только земля.
Результаты разысканий были незначительны. Иногда я не получал еды и уже собирался радоваться своему открытию, но потом еда все же появлялась вновь, как если бы моему странному поведению сперва удивились, но потом разглядели в нем и положительную сторону и с радостью отказались от моих восклицаний и прыжков. Зачастую еда оказывалась даже обильнее, чем раньше, но потом она вдруг не появлялась совсем. С усердием, никогда ранее не встречавшимся среди юных собак, я разрабатывал свои опыты в мельчайших деталях, иногда как будто находил след искомого, но потом след терялся в неопределенности. Мне бесспорно мешал, кроме всего прочего, недостаток научной подготовки. Например, как я мог поручиться, что непоявление еды вызвано моим экспериментом? Может быть, причина была в ненаучной обработке почвы? А если так, то все мои умозаключения не обоснованы. В определенных условиях я мог бы поставить почти безукоризненно точный эксперимент: если бы мне удалось получить еду и без обработки земли при помощи обряда, направленного в высоту, а затем — добиться непоявления еды, совершив обряд, обращенный исключительно вниз, к земле. Я попытался проделать нечто подобное, но без достаточной убежденности и в неидеальных условиях для эксперимента, ведь, по моему непоколебимому мнению, в определенной степени обработка земли необходима всегда, и даже если правы еретики, утверждающие обратное, доказать это невозможно, поскольку орошение земли происходит по нужде, совсем избавиться от которой нельзя. Другой, пусть немного нелепый, эксперимент удался мне больше и даже произвел некоторый фурор. Основываясь на обычае ловить пищу в воздухе, я решил дожидаться падения, но не подхватывать ее на лету. Для этого я делал небольшой прыжок всякий раз, когда пища появлялась, но рассчитывал его так, чтобы он оказался слишком низким; тогда пища по большей части тупо и безразлично ударялась об землю, и я набрасывался на нее с яростью, не столько от голода, сколько от разочарования. Однако в отдельных случаях происходило нечто другое, нечто и в самом деле удивительное: пища не падала, а следовала за мной в воздухе, корм преследовал голодного! Это продолжалось недолго, пища проделывала за мной короткий путь, а в конце концов либо падала, либо совсем исчезала, или — самый частый случай — побеждала алчность, эксперимент прерывался, и я все съедал. Так или иначе, я был счастлив, в моем окружении стали перешептываться, беспокоиться, приглядываться ко мне, знакомые начали больше прислушиваться к моим вопросам, в их глазах я замечал какой-то искательный блеск, и даже если это было только отражение моего собственного взгляда, я не просил ничего другого, я был доволен. Потом я, правда, узнал, а со мной узнали и другие, что эксперимент этот уже давно описан в науке, удался другим гораздо лучше, чем мне, и хоть давно больше не проводился, поскольку сдерживать голод затруднительно, но и повторять его не обязательно из-за его якобы ничтожного значения для науки. Он, мол, доказывает только то, что известно и так: земля получает пищу не только напрямую сверху, но и наискосок, и даже по спирали. Тем и кончилось, но я не отчаялся, я был еще слишком молод, чтобы отчаиваться, наоборот, этот опыт подтолкнул меня к, возможно, самому большому достижению моей жизни. Я не верил в то, что мой эксперимент не имеет ценности, как утверждает наука, но уверенности недостаточно, нужны доказательства, и я решил найти доказательство, представить этот изначально несколько нелепый эксперимент в полном свете и перенести его в самый центр моих исследований. Я хотел доказать, что когда я отодвигался от пищи, то не земля притягивала ее наискось и вниз, а я сам манил ее за собой. Правда, я не мог намного продлить время эксперимента, потому что видеть перед собой пищу, но при этом долго заниматься научным наблюдением невыносимо. Но я решил сделать по-другому, я решил, сколько будет сил, полностью отказываться от пищи, избегая при этом даже смотреть на нее, чтобы не поддаваться соблазну. Если я устранюсь, если буду и день и ночь лежать, закрыв глаза, не думая ни о том, чтобы встать, ни о том, чтобы поймать пищу на лету, и если, как я не смел утверждать, но тихо надеялся, несмотря на мой отказ от всех прочих действий, кроме неизбежного и нерационального орошения земли и негромкого произнесения приговоров и песен (от танцев я решил отказаться, чтобы не утомлять себя), пища сама опустится и постучится, минуя землю, прямо мне в зубы, — если это произойдет, то не будет ли этого достаточно, чтобы пусть не опровергнуть науку, ведь в науке достаточно гибкости для особых случаев и исключений, но хотя бы заставить говорить наш народ, к счастью, не настолько терпимый к особым случаям и исключениям? Ведь это не будет исключением в том смысле, в котором о них сообщает история, когда из-за физического недомогания или душевной тоски кто-нибудь отказывается от приготовления, поиска и приема пищи, но объединенными силами собак мира и их заклинаний пища отклоняется от обычной траектории и попадает прямо в пасть больного. Однако я-то был здоров и полон сил, на аппетит ничуть не жаловался, наоборот, весь день только о пище и думал, а голоданию, кто бы что ни думал, подвергал себя добровольно при том, что вполне был способен призывать пищу сам и боролся с желанием это сделать, а в помощи собачьего общества не нуждался, напротив, строго воспрещал себе ей пользоваться.
Я выбрал место в отдаленных кустах, чтобы не слышать ни разговоров о еде, ни чавканья и хруста разгрызаемых косточек, плотно пообедал напоследок и улегся. Я решил по возможности совсем не открывать глаз: сколько времени не будет появляться еда, столько будет продолжаться для меня ночь, неважно, дни или недели. При этом большое затруднение состояло в том, что я намеревался почти вовсе не спать, потому что, хотя и не собирался призывать пищу с высоты, нужно было тем не менее оставаться начеку, чтобы не пропустить ее появление; а с другой стороны, если бы я спал, я мог бы голодать намного дольше, чем бодрствуя. По этим причинам я решил осторожно разделять время так, чтобы спать много в целом, но через короткие промежутки. Этого я добился тем, что всякий раз перед сном клал голову на тонкий сучок, который вскоре обламывался и будил меня. Так я лежал, спал или бодрствовал, мечтал или напевал про себя. Поначалу ничего особенного не происходило, видимо, там, откуда появляется пища, мое сопротивление обычному ходу вещей прошло незамеченным, и все было тихо. Мне немного мешало сосредоточиться беспокойство, что собаки заметят мое отсутствие, станут меня искать и попробуют остановить. Еще, хоть я и знал, что наука считает здешнюю почву неплодородной, но беспокоился, что просто-напросто орошая землю я нечаянно вызову появление так называемой случайной пищи и запах этой пищи меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило, и я продолжал голодать. Не считая беспокойства об этих двух вещах, я был пока спокоен, как никогда прежде. Хоть я и работал вообще-то над отменой законов науки, меня переполняли покой и почти баснословная решительность ученого. В мечтах наука даровала мне прощение, для моих исследований нашлось в ней место, у меня в ушах звучали утешительные слова, будто если мои исследования увенчаются успехом, и как раз в этом случае особенно, я не буду потерян для собачьей жизни, наука ко мне благосклонна, наука займется интерпретацией моих результатов, и уже в самом этом обещании заключалось утешение: раньше я чувствовал себя в глубине души отверженным, шел, словно дикарь, на приступ стен, ограждавших мой народ, а теперь он примет меня с почестями, вожделенное тепло от тел всех собравшихся собак заструится вокруг меня, они поднимут меня на спины, и я поплыву по ним, покачиваясь. Удивительно подействовал первый голод. Мои заслуги представились мне столь великими, что от умиления и жалости к себе я заплакал в тех тихих зарослях, не совсем понятно почему, ведь я ожидал заслуженных наград, так о чем же тогда я плакал? Наверное, ни о чем, а просто от умиротворения. Я всегда плакал только от умиротворения, хоть это случалось и нечасто. Впрочем, все быстро прошло. Прелестные картины постепенно рассеялись, когда голод стал всерьез давать о себе знать, и вскоре, распрощавшись и с фантазиями, и с умилением, я остался в полном одиночестве со жгучим голодом в утробе. «Это голод», — много раз повторял я себе, как если бы хотел заставить себя поверить, что я и голод — два разных существа и что я все еще могу отделаться от него, как от надоедливого поклонника, хотя в действительности мы уже слились в одно страдающее целое, и когда я объяснял себе, что «это голод», то на деле говорил голод и насмехался надо мной. Черные, черные дни! Я содрогаюсь, вспоминая их, правда, не столько из-за мучений, которых я тогда натерпелся, сколько потому, что с ними тогда не было покончено, и такие же мучения ожидают меня в будущем, если я хочу чего-нибудь добиться, ведь голод я и по сей день считаю последним и самым действенным средством для моих разысканий. Этот путь вымощен голодом, высшее знание достижимо только высшей выдержкой, если достижимо вообще, а высшая выдержка для нас — добровольное голодание. Поэтому когда я раздумываю о тогдашних временах — а я смертельно люблю бередить память о них, — я со страхом думаю и о временах предстоящих. Кажется, что должна пройти почти целая жизнь, чтобы восстановились силы после такого опыта; от тогдашнего голодания меня отделяют долгие годы зрелости, но силы ко мне пока не полностью вернулись. Если я снова начну голодать, то решимости у меня будет, возможно, больше, чем в прошлый раз, поскольку теперь у меня больше опыта и осознания необходимости эксперимента, но сил у меня меньше, их — еще с тех пор — поубавилось; боюсь, я выдохнусь в одном ожидании знакомых мучений. Теперешний плохой аппетит мне не поможет, он только немного снизит значимость эксперимента, к тому же он, по всей вероятности, заставит меня голодать дольше, чем это было необходимо в прошлый раз. Думаю, мне ясны и эти, и прочие обстоятельства, поскольку предварительных опытов я за это долгое время провел немало, часто я словно бы надкусывал голодание, но решиться на высшую задачу мне не хватало сил, а юношески непосредственное желание ринуться в бой, разумеется, давно исчезло. Оно исчезло еще тогда, во время того голодания. Меня терзали разные размышления. Наши праотцы представали передо мной в угрожающем свете. Я не решаюсь высказать свое мнение открыто, но считаю, что они виновны во всем, они одни в ответе за нашу собачью жизнь, так что я мог бы ответить на их угрозы угрозами, но я склоняюсь перед их знанием, его истоки нам теперешним неизвестны, поэтому, как бы меня ни тянуло их побороть, я никогда прямо их законы не нарушу, но через лазейки в их законах, на которые у меня острое чутье, я могу упорхнуть. В отношении голодания хочу сослаться на знаменитый диалог, в ходе которого один из наших мудрецов высказал намерение запретить собакам голодать, но другой отсоветовал, задав вопрос: «Неужели же кто-нибудь захочет голодать?», так что первый мудрец согласился с этим доводом и не наложил запрета. Но вопрос, не запрещено ли голодать в принципе, все равно остается. Большинство комментаторов дают отрицательный ответ, считают голодание разрешенным, склоняются к мнению второго мудреца и потому не беспокоятся о возможных дурных последствиях ошибочного толкования. В этом я всецело убедился, прежде чем начать голодать. Но теперь, когда я корчился от голода и в уже несколько помутившемся состоянии ума непрестанно искал спасения у собственных задних лап, отчаянно вылизывая их, пережевывая, высасывая шерсть по самый задний проход, общее толкование диалога мудрецов стало казаться мне целиком и полностью ошибочным, я проклинал комментаторов с их наукой, я проклинал и себя за то, что дал им ввести себя в заблуждение, ведь даже ребенку понятно, что диалог содержит больше, чем только запрет первого мудреца на голодание, — запрет мудреца всегда имеет силу, так что голодание действительно запрещено, — но сверх того и второй мудрец не только соглашается с первым, но даже считает голодание невозможным, то есть налагает поверх первого запрета второй, запрет собачьей природы как таковой, а первый признает его правоту и отменяет прямой запрет, завещая собакам отнестись к изложенному с рассудительностью и самим запретить себе голодать. Таким образом, речь шла о тройном запрете вместо привычного одного, и его-то я нарушил. Что ж, я мог хотя бы с опозданием повиноваться и перестать голодать, но сквозь страдание пробивался соблазн голодать дальше, и я сладострастно последовал за соблазном, будто за незнакомой собакой. Я не мог остановиться, возможно, и потому, что уже слишком ослаб, чтобы встать и идти искать спасения в обжитых местах. Я катался туда-сюда по лесному настилу, спать я больше не мог, мне повсюду слышался шум, мир, дремавший во время всей моей прежней жизни, вдруг словно пробудился из-за моего голода, мне привиделось, что я уже никогда больше не смогу ничего съесть, потому что тогда ведь мне пришлось бы заставить снова умолкнуть шумный мир, вырвавшийся на свободу, а это мне не по силам, но самый громкий шум раздавался в моем животе, я часто прикладывал к животу ухо, и мои глаза наверняка выражали ужас, я не мог поверить, чтó я слышу. Когда стало совсем плохо, все мое существо стало затягивать в воронку, хоть оно и делало жалкие попытки сопротивляться; я начал чувствовать запах кушаний, изысканных кушаний, которых я не ел с далеких и счастливых детских времен; я даже стал словно бы вдыхать аромат материнской груди; я забыл о решении сопротивляться запахам, точнее, нет, я его не забыл, я ходил из стороны в сторону, два шага туда, два шага сюда, и волочил за собой решение, которое как будто тоже относилось к решению голодать и состояло в том, чтобы вынюхивать еду лишь затем, чтобы от нее уберечься. То, что я ее не находил, меня не расстраивало, еда была рядом, просто всякий раз на несколько шагов дальше, чем я мог пройти, у меня подкашивались ноги. Вместе с тем я сознавал, что вокруг нет совсем ничего, что я совершаю свои мелкие передвижения исключительно от страха свалиться с ног и уже больше не встать с места, которое станет для меня последним. Исчезла последняя надежда, последний соблазн, здесь я погибну в ничтожестве, чего стоят мои детские опыты из счастливых детских времен, здесь и теперь решается по-настоящему, есть ли ценность в моих исследованиях, но где теперь эти исследования? Вместо них — только беспомощная собака, ловящая пустоту и то и дело торопливо, судорожно орошающая землю, но не способная выловить из всего вороха в памяти ни одного заклинания, ни одного стишка хотя бы из тех, с которыми младенцы забиваются под тело матери. Мне казалось, будто меня отделяет от собратьев не расстояние короткой перебежки, а бесконечность, будто я умираю здесь не от голода, а потому что всеми покинут. Ведь было очевидно, что никто обо мне не беспокоится, никто ни под землей, ни на ней или выше, от их безразличия я погибаю, их безразличие означает: он умирает, и так тому и быть. И разве я не соглашался? Разве не говорил ровно то же самое? Не этого ли забвения желал сам? Да, братья собаки, но не ради такого ничтожного конца, а чтобы докопаться до высшей истины, чтобы выбраться из этого мира лжи, в котором нет никого, от кого можно узнать правду, даже от себя самого, уроженца лжи. Может быть, истина скрывалась неподалеку, и тогда моя покинутость не была настолько полной, насколько я воображал, и другие меня не покинули, а покинул себя только я сам, потерпевший поражение и умирающий.
Но смерть приходит не так быстро, как может вообразить нервный пес. Я упал в обморок, а когда очнулся и поднял глаза, рядом со мной стояла незнакомая собака. Я не чувствовал голода, был полон сил, чувствовал легкость в суставах, пусть и не делал попыток встать. В том, что я видел, не было ничего необычного: передо мной стояла красивая, но ничем особенно не выдающаяся собака, это я видел ясно, и все-таки мне казалось, что я вижу в ней что-то большее. Подо мной была кровь, в первый момент я решил, будто это еда, но быстро понял, что этой кровью меня вырвало. Я отвлекся от пятна и повернулся к незнакомцу. Он был худощав, с длинными ногами, бурой шерстью в отдельных белых пятнах, глаза у него были красивые, взгляд пристальный, изучающий. «Что ты тут делаешь? — спросил он. — Тебе нужно уйти». — «Я не могу сейчас уйти», — ответил я, не вдаваясь в подробности, да и как бы я смог ему все подробно объяснить; к тому же, он, по всей видимости, торопился. «Пожалуйста, уходи», — сказал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Оставь меня, — сказал я, — иди и не беспокойся обо мне, другие обо мне тоже не беспокоятся». — «Я прошу ради тебя же самого», — сказал он. «Проси по какой хочешь причине, — сказал я. — Я не могу уйти, даже если бы захотел». — «В этом трудности нет, — улыбнулся он. — Ты можешь идти. Именно потому, что ты, кажется, слаб, я прошу тебя уйти без спешки, а если будешь медлить, потом придется бежать». — «Это уж моя забота», — сказал я. «Но и моя», — огорчился он моему упрямству и как будто решился на время оставить меня тут лежать, но, раз уж выпал такой случай, подошел поближе, чтобы приластиться ко мне. В любое другое время я бы не раздумывая подпустил к себе такого красавца, но в тот момент меня охватил необъяснимый ужас. «Прочь!» — воскликнул я, вкладывая все силы в голос, ведь по-другому я сейчас защищаться не мог. «Не буду навязываться, — сказал он, медленно отступая. — Ты странный. Я тебе что, не нравлюсь?» — «Ты мне понравишься, когда уйдешь отсюда и оставишь меня в покое», — сказал я, но не так уверенно, как хотел бы звучать. Мои чувства обострились от голода, мне виделось или слышалось в нем или вокруг него что-то, что пока присутствовало только в зачатке, но нарастало и приближалось, и я знал: во власти этой собаки прогнать тебя, даже если ты пока не можешь вообразить, что вообще способен встать. В ответ на мои грубые слова он только слегка покачал головой, а я смотрел на него с растущим влечением. «Кто ты такой?» — спросил я. «Я охотник», — ответил он. «А почему ты не хочешь оставить меня в покое?» — спросил я. «Ты мне мешаешь, — сказал он, — я не могу охотиться, пока ты тут лежишь». — «Попробуй, — сказал я, — может быть, у тебя все-таки получится». — «Нет, — сказал он, — очень жаль, но тебе придется уйти». — «Ну тогда не охоться сегодня!» — попросил я. «Нет, — сказал он, — я должен охотиться». — «Я должен уйти, ты должен охотиться, — сказал я, — все должен да должен. Ты понимаешь, почему мы все время что-то должны?» — «Нет, — сказал он, — но и понимать тут нечего, это очевидные, совершенно естественные вещи». — «Вовсе нет, — сказал я, — тебе ведь жаль, что ты должен меня прогнать, и все равно ты меня гонишь». — «Так и есть», — сказал он. «Так и есть, — повторил я с досадой, — это не ответ. От чего тебе проще отказаться, от охоты или от того, чтобы меня прогнать?» — «От охоты», — ответил он без колебаний. «Ну вот, — сказал я, — в том-то и противоречие». — «Где же тут противоречие? — сказал он. — Милый песик, неужто ты не понимаешь, что я должен? Неужто ты не понимаешь очевидного?» Я ничего не ответил, потому что заметил — и по моим жилам потекла новая жизнь, такая, какую рождает ужас, — я заметил по неизъяснимым приметам, которых, возможно, никто другой не смог бы различить, что у собаки глубоко изнутри стало подниматься пение. «Ты сейчас запоешь», — сказал я. «Да, — сказал он серьезно, — я буду петь, скоро, но не сейчас». — «Ты уже начинаешь», — сказал я. «Нет, — сказал он, — еще нет, но приготовься». — «Я же слышу, хоть ты это и отрицаешь», — сказал я, дрожа. Он промолчал. И в тот момент я понял, будто вижу нечто такое, чего не встречала в жизни ни одна собака до меня, по крайней мере, в анналах ни о чем подобном не упоминается ни словом, и от стыда и страха я немедленно спрятал лицо в кровавой луже перед собой. Мне казалось, будто я различаю, что собака уже поет, еще сама об этом не зная, более того: будто мелодия плывет по воздуху совершенно без участия певца, следуя только собственным законам и обращаясь поверх головы собаки ко мне, ко мне одному. — Сегодня я, конечно, отрицаю подобные догадки и отношу свои тогдашние чувства на счет перевозбуждения, но даже если я ошибался, в самой этой ошибке кроется довольно великолепия, чтобы превратить это переживание в единственную, пусть даже и воображаемую, действительность, которую мне удалось сохранить для этого мира от времен голодания, и она показывает, по крайней мере, как далеко мы можем зайти, когда оказываемся всецело вне себя. А я был действительно полностью вне себя. В обычных обстоятельствах я бы не смог двинуться с места как тяжелобольной, но противостоять мелодии, которую теперь уже, казалось, переняла собака, я был не в силах. Мелодия становилась все громче: ее разрастание, наверное, не имело границ, и она уже почти разрывала мне слух. Хуже всего, что он, казалось, существовал только из-за меня, этот голос, перед величием которого умолкал лес, — только из-за меня; кто я такой, чтобы осмелиться здесь остаться, распростершись перед ним в луже грязи и крови? Я поднялся, пошатываясь, взглянул на собственные ноги: на таких далеко не уйдешь, подумал я, а сам тем временем уже летел роскошными прыжками долой, подгоняемый мелодией. Друзьям я ничего из этого не рассказал. Сразу после возвращения я бы, по всей вероятности, рассказал им все, но тогда я был слишком слаб, а позже мой опыт показался мне не поддающимся пересказу. У меня вырывались случайные намеки, но они бесследно рассеивались и терялись в разговорах. Телесно я поправился уже через несколько часов, а душевно и по сей день имею дело с последствиями.
Свои разыскания я, однако же, распространил на собачью музыку. Наука и в этой области, разумеется, не стоит на месте, и музыковедение, если не ошибаюсь, едва ли не обширнее, чем наука о пище, и во всяком случае более основательно. Объясняется это тем, что в данной области можно работать более беспристрастно, и тем, что музыковедение занимается главным образом наблюдениями и их систематизацией, а диетология — заключениями прежде всего практического толка. С этим же связано и то, что уважение к музыковедению выше, чем к диетологии, но первая никогда не сможет проникнуть в народ так глубоко, как вторая. Я и сам был чужд музыковедения больше, чем любой другой науки, пока не услышал тот голос в лесу. Давнишняя встреча с музыкантами подсказала мне путь к музыковедению, но тогда я был еще слишком юн. Кроме того, даже приблизиться к этой науке совсем не просто, она считается особенно сложной и с достоинством отгораживается от большинства. И хотя самое сильное первое впечатление производила именно музыка тех собак, важнее музыки мне представлялась их затаенная собачья натура, их ужасающую музыку мне совсем не с чем было сравнить, но и с тем большей легкостью я мог оставить ее без внимания, а их натуру я с тех пор узнавал во всех собаках, попадавшихся на моем пути. Разыскания о получении пищи казались мне средством самым подходящим и напрямик ведущим к цели, чтобы проникнуть в природу собак. Возможно, я был неправ. Однако уже тогда у меня вызывала подозрения область на стыке двух наук — учение о пении, призывающем появление пищи. И снова я очень беспокоюсь, что в музыковедение я углубился недостаточно, что в этом отношении не могу надеяться даже на особенно презренный в научных кругах статус недоучки. Я всегда буду ясно это сознавать. Я не смог бы сдать даже самого легкого экзамена образованному ученому, и у меня, к сожалению, есть тому подтверждения. Причина заключается, кроме уже упомянутых жизненных обстоятельств, конечно, в моей неспособности заниматься наукой, в недостаточной силе мышления, плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно сосредоточиваться на достижении научной цели. Я открыто признаюсь себе в этом, и даже с определенным удовлетворением, ведь глубинной причиной моей научной несостоятельности мне видится инстинкт, причем поистине не худший из инстинктов. Имей я желание похвалиться, я сказал бы, что этот-то инстинкт и разрушил мои научные способности, потому что иначе, если бы я был вовсе не способен занести лапу даже над самой низкой ступенькой на лестнице науки, это был бы случай по меньшей мере странный, ведь в повседневной жизни я проявляю довольно здравого смысла, чтобы решать задачи не самые простые, да к тому же достаточно хорошо понимаю пусть не науку, но самих ученых, и об этом свидетельствуют результаты моих исследований. Именно инстинкт заставлял меня ценить свободу выше всего остального, возможно, ради самой же науки, только не сегодняшней, ради науки последней и окончательной. Свобода! Правда, свобода, возможная сегодня, — весьма чахлый росток. Но все же свобода, все же какое-никакое достижение. —
вас может заинтересовать
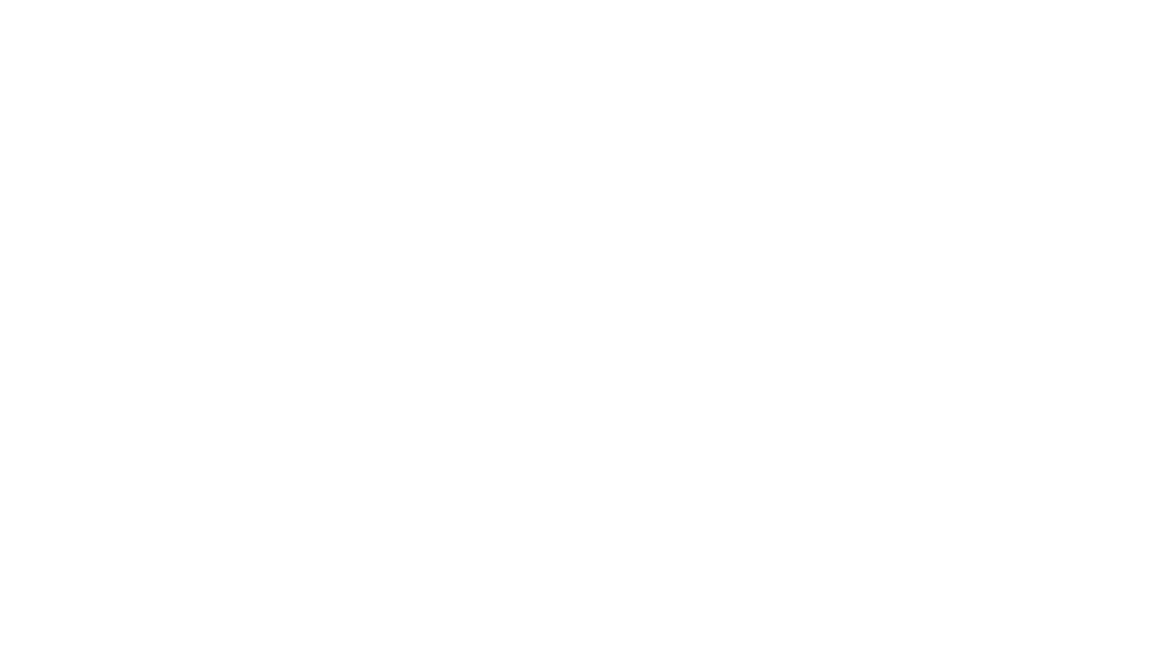
Франц Кафка
Разыскания одной собаки
Перевод Анны Глазовой под редакцией Ивана Болдырева
Как изменилась моя жизнь, и как все же, по сути, мало изменилась! Думая о прошедших временах, когда я еще был собака как собака, жил среди собак, принимал участие во всем, что их беспокоит, в ближайшем рассмотрении я тем не менее понимаю, что со мной всегда что-то было не так, всегда был маленький изъян, во время достойнейших народных празднований мной овладевала легкая досада, иногда даже в кругу самых близких знакомых — нет, не иногда, а даже очень часто, и тогда одного взгляда на милого мне собрата, одного взгляда под каким-то иным углом было достаточно, чтобы привести меня в смущение, испуг, повергнуть в беспомощность и даже отчаяние. Я старался хоть как-то усмирить себя, и друзья, которым я в этом признавался, помогали мне, тогда наступали времена поспокойнее — но и в эти времена тоже случались неожиданности, однако я не принимал их слишком близко к сердцу, они без большого труда укладывались в жизнь, хоть и были источником печали и усталости; в прочем же мне удавалось оставаться пусть немного холодным, замкнутым, опасливым, расчетливым, но тем не менее в целом добропорядочным псом. Как бы я достиг своего теперешнего возраста без этих периодов отдыха, как бы отвоевал спокойствие, с которым смотрю на кошмары моей юности и переношу кошмары зрелости; как бы сумел сделать должные выводы в отношении моих, что уж говорить, несчастных или, выражаясь более осторожно, не очень счастливых предрасположенностей и зачем бы стал жить в почти полном соответствии с этими выводами? Замкнуто, одиноко, занимаясь только своими безнадежными, но для меня необходимыми скромными разысканиями: так я живу, но и на расстоянии я не потерял из виду мой народ. Иногда до меня доходят новости, и я тоже время от времени даю о себе знать. Ко мне относятся с уважением, хоть и не понимают моего образа жизни, но никто на меня не обижается за то, как я живу, и даже молодые собаки, иногда пробегающие вдали, то новое поколение, чье детство я только смутно припоминаю, не отказывают мне в почтительном приветствии.
Нужно заметить, что, несмотря на все мои очевидные странности, не такой уж я урод в семье. Если как следует подумать — а на это у меня довольно и времени, и желания, и способностей, — дела с собачьим народом и вообще обстоят удивительно. Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости. И тут же противоречие: ни один вид существ, насколько я знаю, не живет так разрозненно, как собаки, ни у одного вида нет такого разнообразия классов, родов и занятий. Мы так стремимся держаться вместе — и случаются мгновения восторга, когда нам это несмотря ни на что удается, — а при этом живем в отрыве друг от друга, исполняя такие необычные задания, что зачастую не объяснишь и соседу, чем занимаешься, и придерживаясь предписаний не собачьего толка, а наоборот, скорее идущих вразрез с собачьей природой. Какие это все сложные вещи, вещи, которых лучше вообще не касаться, — и я хорошо понимаю такую точку зрения, понимаю ее лучше, чем свою собственную, — и тем не менее этими-то вещами я и увлечен безоглядно. Почему я не веду себя как все, почему не живу в согласии со своим народом и не принимаю без лишних слов то, что нас разъединяет, просто как данность, как небольшую погрешность в общем уравнении, погрешность, которой можно пренебречь! Почему не держусь крепко за то, что приносит счастье, а поддаюсь тяге — и должен признаться, она подчас безудержна, — вырывающей нас из родовой общности.
Я помню случай из своей юности, я тогда был охвачен тем необъяснимым радостным возбуждением, которое в детстве испытывает, наверное, каждый; я тогда был еще совсем щенок, мне все нравилось, до всего было дело, я верил, что вокруг меня свершаются великие дела, а сам я стою в центре свершений и мой голос оповещает о них весь мир, и дела не сдвинулись бы с места, если бы я не бежал на подмогу, не суетился, не крутился вокруг; одним словом, это все детские фантазии, с годами они рассеиваются. Тогда, однако, я был целиком в плену этих фантазий; и вдруг произошло нечто действительно необычайное, словно бы подтверждавшее правомерность самых безудержных мечтаний. Ничего особенно необычайного в этом, в сущности, не было, потом я видел и более странные вещи, но в тот момент увиденное произвело на меня огромное, неизведанное и неизбывное впечатление, во многом даже определяющее все последующее. Дело в том, что я повстречал небольшую группу собак, точнее говоря, не я ее повстречал, а она попалась мне на пути. Я долго бежал в темноте в предчувствии великих свершений — предчувствие, правда, несколько обманчивое, потому что тогда оно у меня было всегда, — я долго бежал в темноте то туда то сюда, слеп и глух ко всему, ведомый одним только неясным устремлением, и вдруг меня настигло чувство, что я у цели. Я поднял глаза, все вокруг заливал избыточно яркий свет, только немного мутный, а воздух наполнялся перемежавшими друг друга одуряющими запахами. Неясными звуками я поприветствовал утро, и тут, словно бы я вызвал их на свет заклинанием, в сопровождении неслыханного, ужасающего шума из темноты выступило семеро собак. Если бы я не видел со всей ясностью, что это именно собаки и что шум исходит от них, пусть я и не понимал, каким образом, — я бы немедленно пустился в бегство. Но тут я остался на месте. Я еще не знал почти ничего о дарованной собачьему роду творческой музыкальности, и моей наблюдательности, только мало-помалу развивавшейся, еще, естественно, было недостаточно, чтобы ее распознать, ведь музыка окружала меня с младенчества как сам собой разумеющийся и неотменимый жизненный элемент, особенно выделять который меня тогда ничто не заставляло, и только исподволь мне пытались указать на существование музыки так, чтобы это было доступно детскому пониманию; потому тем более поразительным, прямо-таки сногсшибательным оказалось для меня теперь появление этих семи великих музыкантов. Они не говорили, не пели, они почти что и вовсе молчали, причем с большим упорством, но из пустого пространства они, как по волшебству, извлекали музыку. Музыкой было все: то, как они поднимали и опускали лапы, как поворачивали головы, как они двигались и как замирали, какие позы принимали по отношению друг к другу, выстраиваясь в хоровод, когда один клал передние лапы на плечи другого, так что первый нес груз всех остальных, или когда они составляли вместе хитро переплетенные фигуры, передвигаясь почти ползком по земле, и ни один не нарушал строя, даже последний из них, который был еще немного неуверенным, иногда не сразу попадал в такт с другими, в какой-то мере отставал от мелодии, но все же эта неуверенность чувствовалась только в сравнении с великолепной точностью остальных, и даже будь его неуверенность заметней, будь он даже вовсе не уверен в себе, это ничему бы не помешало, потому что остальные, большие искусники, не дали бы общему строю поколебаться. Но при этом их почти не было видно, их всех почти не было видно. Они выступили на свет, про себя каждый уж было приветствовал их как собак, вот только очень смущал шум, который сопутствовал их появлению, и все же это были собаки, такие же собаки, как я и ты, на вид вполне обыкновенные, как всегда и попадаются на пути, хотелось подойти, обменяться с ними приветствиями, они были совсем близко, и хоть эти собаки были много старше меня и не моей длинношерстной породы, но все же не казались совершенно отличными от меня ни размером, ни внешностью вообще, а наоборот, казались знакомыми, я видел много похожих собак, но пока погружаешься в такие размышления, музыка постепенно берет верх, прямо-таки подхватывает и влечет тебя за собой прочь от этих маленьких смертных собак, и помимо воли, пусть ты и сопротивляешься изо всех сил, рыдаешь, будто от причиненной боли, тебе не остается ничего иного, кроме как целиком предаться музыке, доносящейся со всех сторон, из высоты, из глубины, она вытягивает слушателя на середину, обрушивается на него, расплющивает, а потом звучит над ним, уничтоженным, и чем ближе, тем слышнее в ней даль и замирающие вдали фанфары. Потом музыка снова отпускала слушателя: он был уже слишком измотан, уничтожен, слаб и неспособен слышать, и теперь-то он видел, как семеро собачонок ведут свой хоровод, делают трюки, и хотелось их окликнуть, несмотря на их неприступный вид, и спросить, что же они такое делают; — я был ребенок и считал, что имею право задавать любые вопросы всегда и всем, — но только я собрался открыть рот, только почувствовал привычное теплое собачье родство с этими семерыми, как музыка опять появилась, лишила рассудка, закружила меня, будто я и сам был одним из музыкантов, хотя на деле я был жертвой музыки, бросавшей меня из стороны в сторону, сколько я ни просил пощады, и в конце концов меня от ее неистовства спасла она же сама, когда отбросила меня в густые кусты, окаймлявшие ту лесную полянку, этих кустов я прежде не заметил, но теперь они приняли меня в свои объятия, опустили мою голову и, пусть снаружи еще и гремела музыка, я смог немного перевести дух. Меня поистине поразила — даже больше, чем само их искусство, которого я не мог постичь, оно было всецело за пределами моих способностей — отвага этих семи собак, целиком отдавшихся во власть производимой ими музыки, и их способность спокойно выносить ее действие, несокрушимость их хребтов. Правда, теперь, наблюдая за ними более пристально из своего укрытия, я понял, что они работали не столько в спокойствии, сколько в крайнем напряжении, и хотя казалось, что они переставляют лапы уверенно, на деле их лапы непрестанно тряслись, каждый шаг они совершали боязливо, с дрожью, один неотрывно смотрел на другого, будто в отчаянии, и как они ни напрягались, язык вываливался и снова безвольно свисал у них из пасти. Не может быть, чтобы их так беспокоил страх неудачи: кто отважился на такое и не отступил, тому уже не страшно. — Так откуда же страх? Кто заставлял их делать то, что они делали? Тут я не выдержал, более всего потому, что мне вдруг непонятно почему показалось, будто им нужна помощь, и я громко и требовательно выкрикнул свои вопросы, стараясь перебороть шум. Но они — непостижимо! непостижимо! — они не ответили, будто не пожелали меня замечать. Чтобы собаки не ответили на собачий зов — это же нарушение всяких приличий, ни при каких обстоятельствах не простительное ни самой маленькой, ни самой большой собаке. Так что же, значит, это были уже не собаки? Но нет, как же не собаки, ведь я даже мог разобрать, если прислушаться, тихий обмен репликами, которыми они подбадривали друг друга, напоминали о трудностях, предостерегали от ошибок, я даже видел, как последняя еще из них — к ней они как раз чаще всего и обращались — то и дело косилась в мою сторону, будто и хотела бы мне ответить, но приходится сдерживаться, потому что нельзя. Но почему же нельзя, почему то, чего по нашим законам следует придерживаться во всех обстоятельствах, в этом случае невозможно? Меня это так возмутило, что я почти забыл о музыке. Эти собаки нарушают закон. Будь они хоть величайшими волшебниками, закон распространяется и на них, даже я, ребенок, отчетливо это понимал. И отсюда еще один вывод: у них действительно были причины молчать, если исходить из того, что они молчали из чувства вины. Ведь как они себя вели! Если бы не музыка, я бы сразу заметил, что они отбросили всякий стыд, эти несчастные совершали нечто смехотворное и одновременно неприличное — ходили на задних лапах. Тьфу! Они обнажились и открыто щеголяли наготой всем на обозрение прямо-таки с гордостью, а если на мгновение безотчетно подчинялись благопристойности и опускались на передние лапы, то тут же будто пугались, словно природа — это ошибка, поспешно снова поднимали лапы, а их взгляд будто молил о прощении за то, что они ненадолго поддались своей греховности. Неужели мир встал с ног на голову? Где я? Что случилось? Сейчас я не имел права раздумывать о собственном положении, я высвободился из заключавших меня тесных зарослей, одним прыжком выскочил на середину и устремился к этим собакам, я, школяр, вынужден был стать учителем и объяснить им, чтó они творили, я должен был удержать их от новых прегрешений. «Но вы же взрослые собаки, взрослые собаки!» — без конца твердил я себе под нос. Однако стоило мне выйти на свет и приблизиться к ним на расстояние двух-трех прыжков, как я снова оказался во власти шума. Возможно, на этот раз у меня бы хватило пыла и я сумел бы противостоять шуму, теперь уже мне знакомому, если бы только я не различил ясного и строгого в своем постоянстве звука, он будто бы без всяких искажений доносился из самой дальней дали — возможно, это и была сама мелодия, проницавшая всю хоть и чудовищную, но, может быть, все же одолимую толщу шума; этот звук сбил меня с ног. Ах, какую завораживающую музыку играли эти собаки. Я все бросил, у меня пропало всякое желание их поучать, пускай раздвигают лапы, упорствуют в грехе сами и соблазняют других, склоняя к немому наблюдению, ведь я был еще такой маленький пес, кто мог требовать, чтобы я справился с такой тяжелой задачей? Я сжался в комочек, пытаясь стать еще меньше, и поскуливал, а если бы эти собаки теперь спросили моего мнения, я бы, наверное, с ними во всем согласился. Это, правда, продолжалось недолго: вскоре они, вместе со всем шумом и огнями, исчезли в темноте, из которой раньше появились.
Как я уже говорил, во всем этом происшествии не было ничего необыкновенного, за долгую жизнь сталкиваешься с такими событиями, которые, если выдернуть их из контекста и вдобавок посмотреть на них глазами ребенка, покажутся еще удивительнее. Кроме того, конечно, любую собаку можно — используя это меткое слово — «заговорить», и это происшествие тоже можно объяснить, и тогда получается, что всего лишь семеро музыкантов сошлись поутру, чтобы спокойно помузицировать, а тут вдруг к ним приблудился неуместный слушатель, щенок, которого они — увы, тщетно — попытались отогнать особенно пугающей или возвышенной музыкой. Он и так уже, посторонний, помешал им своим присутствием, так неужели же они должны были теперь отвечать на его вопросы и тем самым усугубить это вмешательство? И хотя закон предписывает отвечать всем, входит ли в число этих всех такой маленький приблудный песик? Может быть, они попросту не расслышали, он ведь пролаял свои вопросы очень неразборчиво. Или, может быть, они его все же услышали и, переборов себя, ответили, но он, щенок, не привыкший к музыке, не смог среди ее звуков различить ответа. А что касается хождения на задних лапах, то, может быть, пусть это и грешно, они так и ходили, но только в этом исключительном случае! Ведь они были одни, семеро друзей между собой, в собственном узком кругу, до известной степени в своих четырех стенах, до известной степени совершенно наедине друг с другом, ведь друзья — не общественность, а где нет общественности, там и маленькая любопытная уличная собачка — еще не общественность, а если так, то нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Конечно, не совсем, но почти ничего, а вот родителям надо поменьше позволять детям бегать где попало, зато учить их побольше помалкивать и уважать старших.
Нужно заметить, что, несмотря на все мои очевидные странности, не такой уж я урод в семье. Если как следует подумать — а на это у меня довольно и времени, и желания, и способностей, — дела с собачьим народом и вообще обстоят удивительно. Кроме нас, собак, вокруг множество других существ, жалких, ничтожных, бессловесных, способных издавать только отдельные крики; многие собаки изучают их, дают им имена, стараются помочь, воспитать их, облагородить и тому подобное. Мне они безразличны, когда не мешаются под ногами, они все одинаковые, я не задерживаю на них взгляда. Однако то, как мало они держатся сообща в отличие от нас, собак, как они недружелюбны друг к другу, как неприветливо и в какой-то мере даже враждебно они сходятся и расходятся, слишком бросается в глаза, чтобы я этого не отметил; их способен объединить один только низменный интерес, да и тот тоже поверхностный, и даже это часто ведет лишь к ненависти и дракам. Не то что мы, собаки! Мы, можно сказать, живем прямо-таки одним скопом, несмотря на бессчетные и бездонные различия, пролегшие между нами с течением времени. Одним скопом! Нас тянет друг к другу, и нет ничего, что способно противостоять этой тяге, все наши законы и порядки — как те немногие, которые я помню, так и те бесчисленные, которые я забыл, — сводятся к нашей тоске по величайшей из доступных нам радостей — по радости от теплой всеобщей близости. И тут же противоречие: ни один вид существ, насколько я знаю, не живет так разрозненно, как собаки, ни у одного вида нет такого разнообразия классов, родов и занятий. Мы так стремимся держаться вместе — и случаются мгновения восторга, когда нам это несмотря ни на что удается, — а при этом живем в отрыве друг от друга, исполняя такие необычные задания, что зачастую не объяснишь и соседу, чем занимаешься, и придерживаясь предписаний не собачьего толка, а наоборот, скорее идущих вразрез с собачьей природой. Какие это все сложные вещи, вещи, которых лучше вообще не касаться, — и я хорошо понимаю такую точку зрения, понимаю ее лучше, чем свою собственную, — и тем не менее этими-то вещами я и увлечен безоглядно. Почему я не веду себя как все, почему не живу в согласии со своим народом и не принимаю без лишних слов то, что нас разъединяет, просто как данность, как небольшую погрешность в общем уравнении, погрешность, которой можно пренебречь! Почему не держусь крепко за то, что приносит счастье, а поддаюсь тяге — и должен признаться, она подчас безудержна, — вырывающей нас из родовой общности.
Я помню случай из своей юности, я тогда был охвачен тем необъяснимым радостным возбуждением, которое в детстве испытывает, наверное, каждый; я тогда был еще совсем щенок, мне все нравилось, до всего было дело, я верил, что вокруг меня свершаются великие дела, а сам я стою в центре свершений и мой голос оповещает о них весь мир, и дела не сдвинулись бы с места, если бы я не бежал на подмогу, не суетился, не крутился вокруг; одним словом, это все детские фантазии, с годами они рассеиваются. Тогда, однако, я был целиком в плену этих фантазий; и вдруг произошло нечто действительно необычайное, словно бы подтверждавшее правомерность самых безудержных мечтаний. Ничего особенно необычайного в этом, в сущности, не было, потом я видел и более странные вещи, но в тот момент увиденное произвело на меня огромное, неизведанное и неизбывное впечатление, во многом даже определяющее все последующее. Дело в том, что я повстречал небольшую группу собак, точнее говоря, не я ее повстречал, а она попалась мне на пути. Я долго бежал в темноте в предчувствии великих свершений — предчувствие, правда, несколько обманчивое, потому что тогда оно у меня было всегда, — я долго бежал в темноте то туда то сюда, слеп и глух ко всему, ведомый одним только неясным устремлением, и вдруг меня настигло чувство, что я у цели. Я поднял глаза, все вокруг заливал избыточно яркий свет, только немного мутный, а воздух наполнялся перемежавшими друг друга одуряющими запахами. Неясными звуками я поприветствовал утро, и тут, словно бы я вызвал их на свет заклинанием, в сопровождении неслыханного, ужасающего шума из темноты выступило семеро собак. Если бы я не видел со всей ясностью, что это именно собаки и что шум исходит от них, пусть я и не понимал, каким образом, — я бы немедленно пустился в бегство. Но тут я остался на месте. Я еще не знал почти ничего о дарованной собачьему роду творческой музыкальности, и моей наблюдательности, только мало-помалу развивавшейся, еще, естественно, было недостаточно, чтобы ее распознать, ведь музыка окружала меня с младенчества как сам собой разумеющийся и неотменимый жизненный элемент, особенно выделять который меня тогда ничто не заставляло, и только исподволь мне пытались указать на существование музыки так, чтобы это было доступно детскому пониманию; потому тем более поразительным, прямо-таки сногсшибательным оказалось для меня теперь появление этих семи великих музыкантов. Они не говорили, не пели, они почти что и вовсе молчали, причем с большим упорством, но из пустого пространства они, как по волшебству, извлекали музыку. Музыкой было все: то, как они поднимали и опускали лапы, как поворачивали головы, как они двигались и как замирали, какие позы принимали по отношению друг к другу, выстраиваясь в хоровод, когда один клал передние лапы на плечи другого, так что первый нес груз всех остальных, или когда они составляли вместе хитро переплетенные фигуры, передвигаясь почти ползком по земле, и ни один не нарушал строя, даже последний из них, который был еще немного неуверенным, иногда не сразу попадал в такт с другими, в какой-то мере отставал от мелодии, но все же эта неуверенность чувствовалась только в сравнении с великолепной точностью остальных, и даже будь его неуверенность заметней, будь он даже вовсе не уверен в себе, это ничему бы не помешало, потому что остальные, большие искусники, не дали бы общему строю поколебаться. Но при этом их почти не было видно, их всех почти не было видно. Они выступили на свет, про себя каждый уж было приветствовал их как собак, вот только очень смущал шум, который сопутствовал их появлению, и все же это были собаки, такие же собаки, как я и ты, на вид вполне обыкновенные, как всегда и попадаются на пути, хотелось подойти, обменяться с ними приветствиями, они были совсем близко, и хоть эти собаки были много старше меня и не моей длинношерстной породы, но все же не казались совершенно отличными от меня ни размером, ни внешностью вообще, а наоборот, казались знакомыми, я видел много похожих собак, но пока погружаешься в такие размышления, музыка постепенно берет верх, прямо-таки подхватывает и влечет тебя за собой прочь от этих маленьких смертных собак, и помимо воли, пусть ты и сопротивляешься изо всех сил, рыдаешь, будто от причиненной боли, тебе не остается ничего иного, кроме как целиком предаться музыке, доносящейся со всех сторон, из высоты, из глубины, она вытягивает слушателя на середину, обрушивается на него, расплющивает, а потом звучит над ним, уничтоженным, и чем ближе, тем слышнее в ней даль и замирающие вдали фанфары. Потом музыка снова отпускала слушателя: он был уже слишком измотан, уничтожен, слаб и неспособен слышать, и теперь-то он видел, как семеро собачонок ведут свой хоровод, делают трюки, и хотелось их окликнуть, несмотря на их неприступный вид, и спросить, что же они такое делают; — я был ребенок и считал, что имею право задавать любые вопросы всегда и всем, — но только я собрался открыть рот, только почувствовал привычное теплое собачье родство с этими семерыми, как музыка опять появилась, лишила рассудка, закружила меня, будто я и сам был одним из музыкантов, хотя на деле я был жертвой музыки, бросавшей меня из стороны в сторону, сколько я ни просил пощады, и в конце концов меня от ее неистовства спасла она же сама, когда отбросила меня в густые кусты, окаймлявшие ту лесную полянку, этих кустов я прежде не заметил, но теперь они приняли меня в свои объятия, опустили мою голову и, пусть снаружи еще и гремела музыка, я смог немного перевести дух. Меня поистине поразила — даже больше, чем само их искусство, которого я не мог постичь, оно было всецело за пределами моих способностей — отвага этих семи собак, целиком отдавшихся во власть производимой ими музыки, и их способность спокойно выносить ее действие, несокрушимость их хребтов. Правда, теперь, наблюдая за ними более пристально из своего укрытия, я понял, что они работали не столько в спокойствии, сколько в крайнем напряжении, и хотя казалось, что они переставляют лапы уверенно, на деле их лапы непрестанно тряслись, каждый шаг они совершали боязливо, с дрожью, один неотрывно смотрел на другого, будто в отчаянии, и как они ни напрягались, язык вываливался и снова безвольно свисал у них из пасти. Не может быть, чтобы их так беспокоил страх неудачи: кто отважился на такое и не отступил, тому уже не страшно. — Так откуда же страх? Кто заставлял их делать то, что они делали? Тут я не выдержал, более всего потому, что мне вдруг непонятно почему показалось, будто им нужна помощь, и я громко и требовательно выкрикнул свои вопросы, стараясь перебороть шум. Но они — непостижимо! непостижимо! — они не ответили, будто не пожелали меня замечать. Чтобы собаки не ответили на собачий зов — это же нарушение всяких приличий, ни при каких обстоятельствах не простительное ни самой маленькой, ни самой большой собаке. Так что же, значит, это были уже не собаки? Но нет, как же не собаки, ведь я даже мог разобрать, если прислушаться, тихий обмен репликами, которыми они подбадривали друг друга, напоминали о трудностях, предостерегали от ошибок, я даже видел, как последняя еще из них — к ней они как раз чаще всего и обращались — то и дело косилась в мою сторону, будто и хотела бы мне ответить, но приходится сдерживаться, потому что нельзя. Но почему же нельзя, почему то, чего по нашим законам следует придерживаться во всех обстоятельствах, в этом случае невозможно? Меня это так возмутило, что я почти забыл о музыке. Эти собаки нарушают закон. Будь они хоть величайшими волшебниками, закон распространяется и на них, даже я, ребенок, отчетливо это понимал. И отсюда еще один вывод: у них действительно были причины молчать, если исходить из того, что они молчали из чувства вины. Ведь как они себя вели! Если бы не музыка, я бы сразу заметил, что они отбросили всякий стыд, эти несчастные совершали нечто смехотворное и одновременно неприличное — ходили на задних лапах. Тьфу! Они обнажились и открыто щеголяли наготой всем на обозрение прямо-таки с гордостью, а если на мгновение безотчетно подчинялись благопристойности и опускались на передние лапы, то тут же будто пугались, словно природа — это ошибка, поспешно снова поднимали лапы, а их взгляд будто молил о прощении за то, что они ненадолго поддались своей греховности. Неужели мир встал с ног на голову? Где я? Что случилось? Сейчас я не имел права раздумывать о собственном положении, я высвободился из заключавших меня тесных зарослей, одним прыжком выскочил на середину и устремился к этим собакам, я, школяр, вынужден был стать учителем и объяснить им, чтó они творили, я должен был удержать их от новых прегрешений. «Но вы же взрослые собаки, взрослые собаки!» — без конца твердил я себе под нос. Однако стоило мне выйти на свет и приблизиться к ним на расстояние двух-трех прыжков, как я снова оказался во власти шума. Возможно, на этот раз у меня бы хватило пыла и я сумел бы противостоять шуму, теперь уже мне знакомому, если бы только я не различил ясного и строгого в своем постоянстве звука, он будто бы без всяких искажений доносился из самой дальней дали — возможно, это и была сама мелодия, проницавшая всю хоть и чудовищную, но, может быть, все же одолимую толщу шума; этот звук сбил меня с ног. Ах, какую завораживающую музыку играли эти собаки. Я все бросил, у меня пропало всякое желание их поучать, пускай раздвигают лапы, упорствуют в грехе сами и соблазняют других, склоняя к немому наблюдению, ведь я был еще такой маленький пес, кто мог требовать, чтобы я справился с такой тяжелой задачей? Я сжался в комочек, пытаясь стать еще меньше, и поскуливал, а если бы эти собаки теперь спросили моего мнения, я бы, наверное, с ними во всем согласился. Это, правда, продолжалось недолго: вскоре они, вместе со всем шумом и огнями, исчезли в темноте, из которой раньше появились.
Как я уже говорил, во всем этом происшествии не было ничего необыкновенного, за долгую жизнь сталкиваешься с такими событиями, которые, если выдернуть их из контекста и вдобавок посмотреть на них глазами ребенка, покажутся еще удивительнее. Кроме того, конечно, любую собаку можно — используя это меткое слово — «заговорить», и это происшествие тоже можно объяснить, и тогда получается, что всего лишь семеро музыкантов сошлись поутру, чтобы спокойно помузицировать, а тут вдруг к ним приблудился неуместный слушатель, щенок, которого они — увы, тщетно — попытались отогнать особенно пугающей или возвышенной музыкой. Он и так уже, посторонний, помешал им своим присутствием, так неужели же они должны были теперь отвечать на его вопросы и тем самым усугубить это вмешательство? И хотя закон предписывает отвечать всем, входит ли в число этих всех такой маленький приблудный песик? Может быть, они попросту не расслышали, он ведь пролаял свои вопросы очень неразборчиво. Или, может быть, они его все же услышали и, переборов себя, ответили, но он, щенок, не привыкший к музыке, не смог среди ее звуков различить ответа. А что касается хождения на задних лапах, то, может быть, пусть это и грешно, они так и ходили, но только в этом исключительном случае! Ведь они были одни, семеро друзей между собой, в собственном узком кругу, до известной степени в своих четырех стенах, до известной степени совершенно наедине друг с другом, ведь друзья — не общественность, а где нет общественности, там и маленькая любопытная уличная собачка — еще не общественность, а если так, то нельзя ли считать, что ничего и не случилось? Конечно, не совсем, но почти ничего, а вот родителям надо поменьше позволять детям бегать где попало, зато учить их побольше помалкивать и уважать старших.
А если так, то все ясно и говорить больше не о чем. Однако то, что ясно взрослым, не обязательно ясно детям. Я бегал, рассказывал об увиденном, расспрашивал, выдвигал обвинения, искал ответов и пытался каждого привести на место, где встретил тех семерых, чтобы показать, где и как они музицировали, и если бы со мной кто-нибудь туда пошел, вместо того чтобы отмахнуться и посмеяться, я бы, наверное, пожертвовал невинностью и сам встал на задние лапы, чтобы показать, как все в точности происходило. Что ж, ребенку все ставится в укор, зато все в конечном счете и прощается. Я же сохранил детскость характера, а меж тем состарился. Такую, как тогда, когда не мог оставить в покое этого происшествия, — я, кстати говоря, теперь уже не придаю ему особенно большого значения — и всюду о нем говорил публично, разбирал во всех подробностях, примеривал к каждому встречному, не задумываясь о том, в какой компании нахожусь, без конца интересуясь только одной вещью, пусть она и была мне тягостна не меньше, чем всем остальным, но именно поэтому и этим я отличался от других, я хотел с ней покончить, исчерпывающе ее изучив, чтобы наконец освободить голову и увидеть вокруг обычную, спокойную, счастливую будничную жизнь. Ровно так же как тогда, пусть и не прибегая к настолько ребяческим средствам, — хотя разница небольшая — я работал и впоследствии, да и по сей день недалеко от тогдашнего вопрошания ушел.
Но началось все с того концерта. Я не жалуюсь, дело в моем врожденном характере, и не будь концерта, он был проявился по каком-нибудь другому поводу. Временами мне было все же жаль, что это произошло так рано и лишило меня целой большой части детства, так что блаженная жизнь щенка, которую некоторые умеют растягивать на годы, продолжалась для меня всего несколько коротких месяцев. Что делать. Есть вещи и поважнее детства. И, может быть, под конец жизни мне еще улыбнется заработанное тяжким трудом детское счастье, такое, какого настоящий ребенок не вынес бы, а я ему буду рад.
Я начал свои исследовательские занятия с простейших вещей. Материала предостаточно, даже, к сожалению, в переизбытке, и этот переизбыток в мрачные часы приводит меня в отчаяние. Я стал исследовать, чем кормится собачий род. Надо сказать, что это, если угодно, непростой вопрос, и он, естественно, волнует нас с давних времен, это главный предмет наших размышлений, наблюдениям, опытам и воззрениям в этой области нет конца, из них сложилась целая наука, чудовищные масштабы которой способен был бы охватить ум не одного ученого и не всего сообщества ученых, а разве что всего собачьего рода в целом, да и собачий род в целом под весом этой науки стонет и не всегда выдерживает, ее здание то и дело обрушивается в самых, казалось бы, издавна освоенных областях, и приходится ее с трудом достраивать и восполнять, и я уже не говорю даже об отдельных трудностях и едва ли достижимых, однако необходимых условиях для моих собственных разысканий. Не обессудьте, я помню об этих ограничениях не хуже, чем любая, самая посредственная собака, и я даже не думаю соваться в настоящую науку, я отношусь к ней с тем уважением, которого она заслуживает, но для того, чтобы способствовать науке, мне не хватает знаний, усердия и уверенности, не в последнюю очередь и аппетита, особенно в последние несколько лет. Я поглощаю еду, но считаю, что это поглощение ни в малой степени не стоит предварительного и упорядоченного изучения с точки зрения агрономии. В этом отношении я довольствуюсь квинтэссенцией нашей науки, нехитрым напутствием на всю жизнь, с которым всякая мать отлучает щенка от груди: «Орошай все, что можешь». И разве этого не достаточно почти вполне? Что существенно важное смогли добавить к этому правилу поколения наших исследователей, начиная с самых давних предков? Частности, одни частности, и то без достоверности. А это правило нерушимо, пока существует собачий род. Оно касается нашего основного питания. Разумеется, у нас есть вспомогательные ресурсы, но в крайнем случае, если времена выдаются не самые плохие, то и основного питания хватает на жизнь; основное питание мы находим лежащим на земле, а земля нуждается в нашем орошении, и только такой ценой она дает нам пищу, появление которой, однако, чего не следует забывать, можно приблизить определенными приговорами, пением, движениями. Я считаю, что на этом все, тут добавить принципиально нечего. Здесь я согласен с подавляющим большинством собак, а все еретические воззрения на этот счет я категорически отвергаю. Меня действительно не занимают частные, особые случаи, мне никого не хочется любой ценой убеждать в своей правоте, я доволен, если могу сойтись во мнении с сородичами, и здесь я с ними во мнении схожусь. В собственных поисках, однако, я двигаюсь совсем в другом направлении. Опыт наблюдения учит меня, что земля, если ее поливать и возделывать по всем правилам науки, дает пищу, причем в таком качестве, количестве, в таких местах, в такие часы и таким образом, как в точности или хотя бы до некоторой степени предписывают установленные наукой законы. Я это признаю, но мой вопрос вот в чем: откуда земля берет эту пищу? Это — вопрос, который обычно наталкивается на напускное непонимание, и в лучшем случае мне отвечают так: «Если тебе не хватает еды, мы дадим тебе своей». Достойный внимания ответ; ведь мне известно, что готовность делиться добытой пищей не относится к добродетелям нашего собачьего рода. Жизнь тяжела, земля скудна, наука щедра идеями, но весьма скупа по части практической выгоды. У кого есть пища, тому она и достается, и это не забота только о себе, а, напротив, закон собачьей жизни, единогласное всенародное постановление, заключенное именно ради преодоления себялюбия, поскольку имущие всегда в меньшинстве. И поэтому такой ответ — «Если тебе не хватает еды, то мы дадим тебе своей» — не более чем устоявшаяся фигура речи, шутка, насмешка. Я об этом не забыл. Но тем более важно было для меня, что, когда я скитался по миру со своими вопросами, те, кто со мной говорил, оставляли шутки в стороне; пусть едой со мной и не делились — откуда бы взяться лишней еде? — а если кому-то как раз удавалось раздобыть пищу, то беспамятство голода заставляло их забывать обо всем прочем, — но все-таки разделить со мной трапезу они предлагали всерьез, и время от времени мне действительно перепадала какая-никакая малость, если только мне удавалось быстро схватить свой кусок. Почему так вышло, что со мной обращались особо, щадили меня, уступали? Потому ли, что я был худой, хилой собакой, плохо питался и слишком мало заботился о пище? Но вокруг столько плохо питающихся собак, а у них все равно утаскивают из-под носа последние крохи, когда только могут, и притом зачастую не от жадности, а из принципа. Нет, для меня делали исключение, я не могу привести тому точных доказательств, но в целом у меня сложилось такое впечатление. Или дело было в моих вопросах, радовались ли им, видели ли в них особенную мудрость? Нет, им не радовались, их считали глупыми. И тем не менее если что-то и могло привлечь внимание, то именно мои вопросы. Казалось, что из-за меня могли пойти на нечто неслыханное: заткнуть мне рот едой, — этого не происходило, но об этом думали, — лишь бы не слушать моих вопросов. Но тогда было бы проще прогнать меня и запретить себе думать о моих вопросах. Нет, этого как раз не хотели; вопросов слушать не хотели, но именно из-за этих моих вопросов прогонять меня не хотели тоже. Как бы меня ни высмеивали, ни третировали как глупое маленькое существо, как бы ни оттирали в сторону, на деле это было время, когда меня больше всего уважали, с тех пор ничего подобного не повторялось, в те времена я был вхож повсюду, мне не чинили препон, а под видом грубого обращения скрывалась лестная почтительность. И опять же — все из-за моих тогдашних вопросов, нетерпеливости, исследовательской страсти. Может быть, меня хотели убаюкать, хотели не силой, почти ласково увести с ложного пути, с пути, ложность которого, тем не менее, не настолько несомненна, чтобы было позволительно применить силу? — Кроме того, и некоторое уважение и боязнь удерживали их от применения силы. Уже тогда я догадывался о чем-то подобном, сегодня же я понимаю ясно — яснее, чем те, кто тогда это делал, — что меня и правда хотели сманить прочь с моего пути. У них ничего не вышло, они достигли противоположного результата: моя наблюдательность только обострилась. Мне даже стало понятно, что тот, кто хотел переманить других, был я сам и что мне это в известной степени действительно удалось. Лишь с помощью всего собачьего рода я стал понимать собственные вопросы. Когда я, например, спрашивал, откуда земля берет пищу, интересовала ли меня тогда, как могло показаться, земля, интересовали ли заботы земли? Ничуть, как быстро стало ясно, от них я был совершенно далек, а интересны мне были сами собаки, ничто иное. Ведь разве существует что-нибудь, кроме собак? К кому еще обратиться в этом огромном, пустом мире? Все знание, сумма всех вопросов и ответов заключены в собаках. Если бы только можно было извлечь это знание, вывести на свет дня, задействовать его, чтобы собаки наконец признались себе, что знают бесконечно больше, чем сами привыкли думать! Даже самая общительная собака скрывается от других лучше, чем те места, где можно получить самые лакомые кушанья. Крутишься вокруг товарища, истекаешь слюной от вожделения, хлещешь себя хвостом, просишь, умоляешь, воешь, кусаешь и получаешь — получаешь то, чего можно было добиться и без усилий: дружественное сочувствие, ласковые прикосновения, почтительные обнюхивания, сердечные объятия, мой и твой вой смешивается воедино, ровно как ты и хотел, восторг, забытье и обретение искомого, но то, чего искал в первую очередь, — обретение знания — остается недостижимым. На эту просьбу, неважно, немую или высказанную вслух, собаки в лучшем случае отвечают — если соблазн ответить оказывается для них крайне велик — только обескураженным видом и косыми взглядами мутных, подернутых дымкой глаз. Это мало чем отличается от того случая, когда я ребенком окликнул собак-музыкантов, а они в ответ промолчали.
Тут мне могли бы возразить: «Ты жалуешься на своих ближних, на их скрытность, когда оказываются затронуты самые важные вещи, ты утверждаешь, что они знают больше, чем готовы признать, больше, чем готовы впустить в собственную жизнь, и это умалчивание, причина и тайна которого, конечно, тоже умалчиваются, отравляет жизнь, делает ее для тебя невыносимой, ты, дескать, чувствуешь, что должен либо что-то изменить в этой жизни, либо ее покинуть; может быть, и так, но ведь ты тоже собака, ты тоже обладаешь знанием собаки, ну так и выскажи его, только не в форме вопроса, а в форме ответа. Если ты его выскажешь, кто сумеет воспротивиться? Все собачьи голоса мира сольются в один огромный хор, словно того и ждали. Тогда ты и получишь сколько душе угодно истины, ясности, знания. Кровля разверзнется над нашей низкой жизнью, которую ты так ругаешь, и мы, собаки, все как одна взойдем к высшей свободе. И даже если ничего не выйдет, если все станет еще хуже, вся правда окажется невыносимее, чем полуправда, если окажется, что те, кто молчит, правы, потому что молчат ради самой жизни, если неприметная надежда, которая у нас теперь еще есть, обернется полной безнадежностью, попытаться высказать свое знание все равно стоит, ведь так, как сейчас можно жить, ты жить не хочешь. А раз так, то почему же ты укоряешь других в умалчивании, а сам при этом молчишь?» Ответ прост: потому что и сам я — собака. В сущности я так же замкнут, противлюсь собственным вопросам, я упрям — от страха. Так неужели я, по крайней мере с тех пор как повзрослел, расспрашиваю всю общность собак ради ответа? Разве мои мечты настолько нелепы? Когда я вижу самые основы нашего бытия, догадываюсь об их глубине, наблюдаю за строителями нашего общежития, за их угрюмой работой, неужели вопреки всему жду, что в ответ на мои вопросы все это будет прекращено, разрушено, брошено? Нет, этого я в самом деле уже не жду. Я их понимаю, я — кровь от их крови, от их бедной, вечно юной, вечно изнывающей крови. Однако нас связывает не только кровь, но и знание, и не только знание, но и ключ к нему. Без других, без их помощи я бы этим знанием не обладал. — Железную кость, таящую превосходнейший мозг, не разгрызть, если не объединить усилий всех собак и всех собачьих зубов. Разумеется, я говорю образно и преувеличиваю; если бы у нас в распоряжении оказались все зубы, раскусывать кость уже не пришлось бы, она бы раскрылась сама и до мозга сумела бы добраться самая захудалая собачонка. Оставаясь в рамках этого образа, скажу, однако же, что моя цель, мои вопросы и разыскания имеют чудовищный характер. Я хочу добиться от всех собак единения, хочу заставить кость раскрыться под напором всеобщей готовности ее разгрызть, а потом отпустить собачий род жить дальше как прежде, чтобы я сам, в полном одиночестве, мог наброситься на кость и высосать мозг. Чудовищность здесь в том, что я как будто хочу наесться не столько мозгом из кости, сколько мозгом самого собачьего рода. Но и это — не более чем образ. Мозг из кости, о котором я говорю, не имеет ничего общего с едой, напротив, он — яд.
Но началось все с того концерта. Я не жалуюсь, дело в моем врожденном характере, и не будь концерта, он был проявился по каком-нибудь другому поводу. Временами мне было все же жаль, что это произошло так рано и лишило меня целой большой части детства, так что блаженная жизнь щенка, которую некоторые умеют растягивать на годы, продолжалась для меня всего несколько коротких месяцев. Что делать. Есть вещи и поважнее детства. И, может быть, под конец жизни мне еще улыбнется заработанное тяжким трудом детское счастье, такое, какого настоящий ребенок не вынес бы, а я ему буду рад.
Я начал свои исследовательские занятия с простейших вещей. Материала предостаточно, даже, к сожалению, в переизбытке, и этот переизбыток в мрачные часы приводит меня в отчаяние. Я стал исследовать, чем кормится собачий род. Надо сказать, что это, если угодно, непростой вопрос, и он, естественно, волнует нас с давних времен, это главный предмет наших размышлений, наблюдениям, опытам и воззрениям в этой области нет конца, из них сложилась целая наука, чудовищные масштабы которой способен был бы охватить ум не одного ученого и не всего сообщества ученых, а разве что всего собачьего рода в целом, да и собачий род в целом под весом этой науки стонет и не всегда выдерживает, ее здание то и дело обрушивается в самых, казалось бы, издавна освоенных областях, и приходится ее с трудом достраивать и восполнять, и я уже не говорю даже об отдельных трудностях и едва ли достижимых, однако необходимых условиях для моих собственных разысканий. Не обессудьте, я помню об этих ограничениях не хуже, чем любая, самая посредственная собака, и я даже не думаю соваться в настоящую науку, я отношусь к ней с тем уважением, которого она заслуживает, но для того, чтобы способствовать науке, мне не хватает знаний, усердия и уверенности, не в последнюю очередь и аппетита, особенно в последние несколько лет. Я поглощаю еду, но считаю, что это поглощение ни в малой степени не стоит предварительного и упорядоченного изучения с точки зрения агрономии. В этом отношении я довольствуюсь квинтэссенцией нашей науки, нехитрым напутствием на всю жизнь, с которым всякая мать отлучает щенка от груди: «Орошай все, что можешь». И разве этого не достаточно почти вполне? Что существенно важное смогли добавить к этому правилу поколения наших исследователей, начиная с самых давних предков? Частности, одни частности, и то без достоверности. А это правило нерушимо, пока существует собачий род. Оно касается нашего основного питания. Разумеется, у нас есть вспомогательные ресурсы, но в крайнем случае, если времена выдаются не самые плохие, то и основного питания хватает на жизнь; основное питание мы находим лежащим на земле, а земля нуждается в нашем орошении, и только такой ценой она дает нам пищу, появление которой, однако, чего не следует забывать, можно приблизить определенными приговорами, пением, движениями. Я считаю, что на этом все, тут добавить принципиально нечего. Здесь я согласен с подавляющим большинством собак, а все еретические воззрения на этот счет я категорически отвергаю. Меня действительно не занимают частные, особые случаи, мне никого не хочется любой ценой убеждать в своей правоте, я доволен, если могу сойтись во мнении с сородичами, и здесь я с ними во мнении схожусь. В собственных поисках, однако, я двигаюсь совсем в другом направлении. Опыт наблюдения учит меня, что земля, если ее поливать и возделывать по всем правилам науки, дает пищу, причем в таком качестве, количестве, в таких местах, в такие часы и таким образом, как в точности или хотя бы до некоторой степени предписывают установленные наукой законы. Я это признаю, но мой вопрос вот в чем: откуда земля берет эту пищу? Это — вопрос, который обычно наталкивается на напускное непонимание, и в лучшем случае мне отвечают так: «Если тебе не хватает еды, мы дадим тебе своей». Достойный внимания ответ; ведь мне известно, что готовность делиться добытой пищей не относится к добродетелям нашего собачьего рода. Жизнь тяжела, земля скудна, наука щедра идеями, но весьма скупа по части практической выгоды. У кого есть пища, тому она и достается, и это не забота только о себе, а, напротив, закон собачьей жизни, единогласное всенародное постановление, заключенное именно ради преодоления себялюбия, поскольку имущие всегда в меньшинстве. И поэтому такой ответ — «Если тебе не хватает еды, то мы дадим тебе своей» — не более чем устоявшаяся фигура речи, шутка, насмешка. Я об этом не забыл. Но тем более важно было для меня, что, когда я скитался по миру со своими вопросами, те, кто со мной говорил, оставляли шутки в стороне; пусть едой со мной и не делились — откуда бы взяться лишней еде? — а если кому-то как раз удавалось раздобыть пищу, то беспамятство голода заставляло их забывать обо всем прочем, — но все-таки разделить со мной трапезу они предлагали всерьез, и время от времени мне действительно перепадала какая-никакая малость, если только мне удавалось быстро схватить свой кусок. Почему так вышло, что со мной обращались особо, щадили меня, уступали? Потому ли, что я был худой, хилой собакой, плохо питался и слишком мало заботился о пище? Но вокруг столько плохо питающихся собак, а у них все равно утаскивают из-под носа последние крохи, когда только могут, и притом зачастую не от жадности, а из принципа. Нет, для меня делали исключение, я не могу привести тому точных доказательств, но в целом у меня сложилось такое впечатление. Или дело было в моих вопросах, радовались ли им, видели ли в них особенную мудрость? Нет, им не радовались, их считали глупыми. И тем не менее если что-то и могло привлечь внимание, то именно мои вопросы. Казалось, что из-за меня могли пойти на нечто неслыханное: заткнуть мне рот едой, — этого не происходило, но об этом думали, — лишь бы не слушать моих вопросов. Но тогда было бы проще прогнать меня и запретить себе думать о моих вопросах. Нет, этого как раз не хотели; вопросов слушать не хотели, но именно из-за этих моих вопросов прогонять меня не хотели тоже. Как бы меня ни высмеивали, ни третировали как глупое маленькое существо, как бы ни оттирали в сторону, на деле это было время, когда меня больше всего уважали, с тех пор ничего подобного не повторялось, в те времена я был вхож повсюду, мне не чинили препон, а под видом грубого обращения скрывалась лестная почтительность. И опять же — все из-за моих тогдашних вопросов, нетерпеливости, исследовательской страсти. Может быть, меня хотели убаюкать, хотели не силой, почти ласково увести с ложного пути, с пути, ложность которого, тем не менее, не настолько несомненна, чтобы было позволительно применить силу? — Кроме того, и некоторое уважение и боязнь удерживали их от применения силы. Уже тогда я догадывался о чем-то подобном, сегодня же я понимаю ясно — яснее, чем те, кто тогда это делал, — что меня и правда хотели сманить прочь с моего пути. У них ничего не вышло, они достигли противоположного результата: моя наблюдательность только обострилась. Мне даже стало понятно, что тот, кто хотел переманить других, был я сам и что мне это в известной степени действительно удалось. Лишь с помощью всего собачьего рода я стал понимать собственные вопросы. Когда я, например, спрашивал, откуда земля берет пищу, интересовала ли меня тогда, как могло показаться, земля, интересовали ли заботы земли? Ничуть, как быстро стало ясно, от них я был совершенно далек, а интересны мне были сами собаки, ничто иное. Ведь разве существует что-нибудь, кроме собак? К кому еще обратиться в этом огромном, пустом мире? Все знание, сумма всех вопросов и ответов заключены в собаках. Если бы только можно было извлечь это знание, вывести на свет дня, задействовать его, чтобы собаки наконец признались себе, что знают бесконечно больше, чем сами привыкли думать! Даже самая общительная собака скрывается от других лучше, чем те места, где можно получить самые лакомые кушанья. Крутишься вокруг товарища, истекаешь слюной от вожделения, хлещешь себя хвостом, просишь, умоляешь, воешь, кусаешь и получаешь — получаешь то, чего можно было добиться и без усилий: дружественное сочувствие, ласковые прикосновения, почтительные обнюхивания, сердечные объятия, мой и твой вой смешивается воедино, ровно как ты и хотел, восторг, забытье и обретение искомого, но то, чего искал в первую очередь, — обретение знания — остается недостижимым. На эту просьбу, неважно, немую или высказанную вслух, собаки в лучшем случае отвечают — если соблазн ответить оказывается для них крайне велик — только обескураженным видом и косыми взглядами мутных, подернутых дымкой глаз. Это мало чем отличается от того случая, когда я ребенком окликнул собак-музыкантов, а они в ответ промолчали.
Тут мне могли бы возразить: «Ты жалуешься на своих ближних, на их скрытность, когда оказываются затронуты самые важные вещи, ты утверждаешь, что они знают больше, чем готовы признать, больше, чем готовы впустить в собственную жизнь, и это умалчивание, причина и тайна которого, конечно, тоже умалчиваются, отравляет жизнь, делает ее для тебя невыносимой, ты, дескать, чувствуешь, что должен либо что-то изменить в этой жизни, либо ее покинуть; может быть, и так, но ведь ты тоже собака, ты тоже обладаешь знанием собаки, ну так и выскажи его, только не в форме вопроса, а в форме ответа. Если ты его выскажешь, кто сумеет воспротивиться? Все собачьи голоса мира сольются в один огромный хор, словно того и ждали. Тогда ты и получишь сколько душе угодно истины, ясности, знания. Кровля разверзнется над нашей низкой жизнью, которую ты так ругаешь, и мы, собаки, все как одна взойдем к высшей свободе. И даже если ничего не выйдет, если все станет еще хуже, вся правда окажется невыносимее, чем полуправда, если окажется, что те, кто молчит, правы, потому что молчат ради самой жизни, если неприметная надежда, которая у нас теперь еще есть, обернется полной безнадежностью, попытаться высказать свое знание все равно стоит, ведь так, как сейчас можно жить, ты жить не хочешь. А раз так, то почему же ты укоряешь других в умалчивании, а сам при этом молчишь?» Ответ прост: потому что и сам я — собака. В сущности я так же замкнут, противлюсь собственным вопросам, я упрям — от страха. Так неужели я, по крайней мере с тех пор как повзрослел, расспрашиваю всю общность собак ради ответа? Разве мои мечты настолько нелепы? Когда я вижу самые основы нашего бытия, догадываюсь об их глубине, наблюдаю за строителями нашего общежития, за их угрюмой работой, неужели вопреки всему жду, что в ответ на мои вопросы все это будет прекращено, разрушено, брошено? Нет, этого я в самом деле уже не жду. Я их понимаю, я — кровь от их крови, от их бедной, вечно юной, вечно изнывающей крови. Однако нас связывает не только кровь, но и знание, и не только знание, но и ключ к нему. Без других, без их помощи я бы этим знанием не обладал. — Железную кость, таящую превосходнейший мозг, не разгрызть, если не объединить усилий всех собак и всех собачьих зубов. Разумеется, я говорю образно и преувеличиваю; если бы у нас в распоряжении оказались все зубы, раскусывать кость уже не пришлось бы, она бы раскрылась сама и до мозга сумела бы добраться самая захудалая собачонка. Оставаясь в рамках этого образа, скажу, однако же, что моя цель, мои вопросы и разыскания имеют чудовищный характер. Я хочу добиться от всех собак единения, хочу заставить кость раскрыться под напором всеобщей готовности ее разгрызть, а потом отпустить собачий род жить дальше как прежде, чтобы я сам, в полном одиночестве, мог наброситься на кость и высосать мозг. Чудовищность здесь в том, что я как будто хочу наесться не столько мозгом из кости, сколько мозгом самого собачьего рода. Но и это — не более чем образ. Мозг из кости, о котором я говорю, не имеет ничего общего с едой, напротив, он — яд.
Своими вопросами я затравливаю только себя же самого, я хочу раззадорить себя молчанием, кроме которого никакого ответа мне нет. Как долго ты сможешь выносить, что собачий род, как яснее и яснее ты осознаешь благодаря своим исследованиям, молчит и всегда будет молчать? Как долго ты сможешь это выносить? — именно так звучит на деле вопрос всей моей жизни, громче всех прочих отдельных вопросов; этот вопрос обращен только ко мне самому, а больше он никому не доставляет беспокойства. К сожалению, ответить на него проще, чем на частные вопросы: предположительно я смогу это переносить вплоть до естественного конца своей жизни, беспокойным вопросам противостоит все больше спокойствие старости. По всей вероятности, я умру молча, окруженный молчанием, почти благостно, и готов хладнокровно принять такую смерть. На удивление сильное сердце, легкие, прежде времени не знающие износа, даны нам, собакам, как будто назло, и мы продолжаем противиться всем вопросам, даже собственным, мы, сущий оплот молчания.
В последнее время я все чаще размышляю о своей жизни, ищу главную ошибку, которая виной всему и которую, возможно, совершил, но не могу ее найти. А ошибку я, видимо, совершил, потому что если бы я ее не совершил и при этом, после кропотливых трудов в течение целой долгой жизни, так и не достиг желаемого результата, это означало бы, что то, чего я добивался, невозможно, и отсюда вытекает полная безнадежность. Полюбуйся на дело своей жизни! Сперва разыскания, связанные с вопросом: «Откуда земля берет пищу для нас?» Еще совсем молодой и, конечно, жизнерадостной собакой, я отказался от всех удовольствий, я обходил стороной развлечения, избегая искушений, прятал голову между лап и принимался за работу. Моя работа не была ученой ни в том, что касается учености, ни в том, что касается метода и цели. Это, наверное, было ошибкой с моей стороны, но решающего значения она иметь не могла. Я немногому научился, ведь я рано ушел от матери, быстро привык к самостоятельности и жил сам по себе, а слишком ранняя самостоятельность вредит систематической учебе. Но я многое видел, слышал и говорил со многими собаками самых разных пород и занятий, и все это я, как мне кажется, неплохо понял и неплохо связал все свои наблюдения воедино, это в некоторой степени заменило мне ученость, и кроме того, хоть самостоятельность и мешает учебе, во всем, что касается исследований, у нее есть свои преимущества. В моем случае самостоятельность была тем более необходима, что я не мог следовать действительно научным методам, то есть не мог использовать работы предшественников и сверяться с современными исследователями. Я во всем полагался только на себя, начинать мне приходилось с самых азов, и я приступил к занятиям с сознанием, ободряющим в юности, но крайне тягостным в старости, что точка, которую я поставлю в тот случайный момент, когда закончится моя жизнь, должна будет стать не просто последней, но и завершающей. Неужели я и всегда был, и по сей день остался совсем одинок в своих исследованиях? И да и нет. Не может быть, чтобы и в прежние, и в теперешние времена не существовало собак, находящихся в таком же положении, как я. Не может быть, чтобы мои дела были настолько плохи. По своей природе я ни на йоту не отличаюсь от собак. Всякую собаку, как меня, тянет задавать вопросы, и меня, как всякую собаку, тянет молчать. Всех тянет задавать вопросы. Разве могли бы иначе мои вопросы вызывать хоть и малейшие, но все же потрясения, за которыми мне часто доводилось наблюдать с восторгом, правда, с восторгом преувеличенным, и будь я иным, не достиг ли бы я гораздо большего? А то, что меня сильно тянет молчать, к сожалению, даже не требует доказательств. Таким образом, я ни в чем принципиально не отличаюсь от прочих собак, поэтому никакие расхождения во мнениях и антипатии не мешают остальным признавать меня в сущности за своего, и я сам отношусь к любой собаке точно так же. Разница только в комбинации элементов, для отдельной личности эта разница очень велика, но для народа в целом незначительна. Неужто такая, как у меня, или похожая комбинация всегда существовавших свойств характера никогда не выпадала ни в прошлом, ни в настоящем, и если мою комбинацию следует назвать неудачной, то неужто не выпадало комбинаций еще менее удачных? Это шло бы вразрез со всем остальным опытом. Поистине удивительно разнообразие собачьих занятий. Встречаются профессии, в существование которых невозможно было бы поверить, не будь у нас о них вернейших свидетельств. Мой любимый пример — воздушные собаки. Когда я впервые услышал об одной такой собаке, то рассмеялся и никак не желал в это поверить. Я не ослышался? Говорят, будто существует собака самой малой породы, немногим крупней моей головы, даже в зрелом возрасте не крупнее, и эта-то собака, разумеется, физически слабая, имеющая самый вычурный, инфантильный внешний вид, носящая слишком нарядную прическу, неспособная совершить ни одного порядочного прыжка, эта-то собака, как рассказывают, передвигается чаще всего по воздуху, при этом не прилагая видимых усилий, а, напротив, в полном покое. Нет, заставлять меня поверить в такие вещи могло означать только одно: они хотят воспользоваться моей юношеской непосредственностью, так я думал. Но немного спустя я снова услышал, теперь уже от другого рассказчика, о встрече с другой воздушной собакой. Должно быть, они сговорились, чтобы подшутить надо мной, еще очень юной собакой? Однако потом я встретил собак-музыкантов и с тех пор уже не считал существование воздушных собак невозможным, мое восприятие освободилось от предвзятости, я не отбрасывал даже самых нелепых россказней, а искал им подтверждения, насколько возможно, и нелепости казались мне не только более вероятными в этой нелепой жизни, чем осмысленные вещи, но и более полезными для моих разысканий. Так и с воздушными собаками. Я разузнал о них многое, и хотя по нынешний день мне самому не не довелось встретить ни одной, я давно твердо убежден в реальности их существования и они занимают важное место в моей картине мира. Как и в остальных вещах, меня здесь, разумеется, наводит на размышления не только их особое искусство. Кому придет в голову отрицать, достойно удивления то, что эти собаки умудряются парить в воздухе, и тут я не расхожусь во мнении с сообществом собак. Но для меня удивительнее ощущение нелепости, молчаливой нелепости этих жизней. Общественность никак ее не объясняет, просто принимает тот факт, что они парят в воздухе, вот и все, жизнь идет своим чередом, изредка разговор заходит об искусстве и тех, кто искусством занимается, но и не более того. Но почему же, милейшее собачье сообщество, почему эти собаки парят в воздухе? Каков смысл этого занятия? Почему от них нельзя добиться ни слова в объяснение? Почему они парят над землей, почему оставляют свои лапы — собачью гордость! — в небрежении, почему живут в отрыве от плодородной земли, не сеют, но все же жнут и даже, говорят, питаются особенно хорошо за счет остального собачьего рода? Мне льстит сознавать, что своими расспросами я хоть тут немного привел в движение умы. Мало-помалу начинают возникать обоснования, некое нескладное подобие обоснований — начинают, но никогда дальше начинаний дело не идет. И все же это больше, чем ничего. Проглядывает что-то, что хоть и нельзя назвать истиной, ведь истина недоступна, но что-то, говорящее о глубоком потрясении лжи. Дело в том, что все нелепые явления нашей жизни, а в особенности наинелепейшие, поддаются обоснованию. Конечно, не полностью — в том-то весь дьявольский морок и таится, — но все же достаточно, чтобы защититься от нелицеприятных вопросов. Взять, например, тех же воздушных собак: они не высокомерны, как можно было бы подумать, скорее наоборот, они особенно нуждаются в поддержке собратьев, и если поставить себя на их место, это понятно. Они пытаются — хоть и не в открытую, чтобы не нарушать обета молчания, — тем или иным способом испросить прощения за свой образ жизни или хотя бы отвлекать от него внимание в надежде, что так о нем забудут, и этой цели они добиваются, по рассказам, прямо-таки невыносимой болтливостью. У них неиссякаемый запас тем, частью это — философские рассуждения, которым они могут предаваться бесконечно, поскольку полностью отказались от телесных усилий, частью — наблюдения, которые они делают с высоты своего положения. И несмотря на то, что при таком существовании они, разумеется, не слишком отличаются силой ума и их философия, так же как и их наблюдения, не имеет ценности, никакой пользы для науки в них нет, да и не нужны науке такие жалкие вспомогательные средства, но несмотря на все это, если задать вопрос, чего вообще хотят добиться воздушные собаки, в ответ сразу скажут, что они хотят продвинуть науку. «Пусть так, — приходится возражать, — но ведь их изыскания никчемны и избыточны». На это уже не отвечают, только пожимают плечами, меняют тему, сердятся или смеются, а если подождать и потом спросить еще раз, то снова отвечают, что воздушные собаки вносят вклад в науку, и тогда, если на этот раз уже тебя самого спросят о том же, то, если недостаточно внутренне собран, легко ответить ровно так же. И, вероятно, даже хорошо не слишком упорствовать, а просто принимать воздушных собак как данность и не то чтобы соглашаться с их существованием, это невозможно, но относиться к нему спокойно. Требовать большего значит заходить слишком далеко, и тем не менее требуют большего. Требуют признавать и терпеть все новых воздушных собак, появляющихся над горизонтом. Никто точно не знает, откуда они берутся. Неужто размножаются? Есть ли у них вообще силы для размножения, у этих-то комочков изысканного меха? Невероятно, но даже если так, то когда это происходит? Их всегда видят парящими в воздухе в самодостаточном одиночестве, и если они снисходят иногда до прогулки по земле, то только ненадолго, они делают несколько изящных шажков, опять же в полном одиночестве и в напускной глубокой задумчивости, выйти из которой они не могут, даже если очень постараются, во всяком случае, так они утверждают. Но если они не размножаются, можно ли допустить мысль, что находятся собаки, которые добровольно отказываются от наземной жизни и ради удобства и известной причастности к искусству выбирают унылую жизнь на подушках? Этого нельзя допустить всерьез даже в мыслях, ни того, что воздушные собаки размножаются, ни того, что кто-то добровольно вступает в их ряды. Действительность, однако, показывает, что их становится больше; следовательно, какими непреодолимыми ни казались бы нашему рассудку препятствия на пути у воздушных собак, однажды возникшая в мире порода, даже самая странная, не вымирает или вымирает не сразу, во всяком случае, нет такой породы, в которой не была бы заложено что-то, сопротивляющееся вымиранию.
А если так, если даже такая противоестественная, бессмысленная, неприспособленная к жизни, причудливейшая порода, как воздушные собаки может существовать, касается ли это и моей собственной породы? Притом я вовсе не причудлив внешне, мой вид обычен и неприхотлив, весьма распространен, по крайней мере в здешней местности, ничем особенным не выделяется, ничего отталкивающего в нем тоже нет, в юности и даже отчасти в зрелости, когда я не пренебрегал собой и много двигался, я был даже вполне хорош собой. Особенно хвалили мой вид анфас, стройные ноги, изящную посадку головы, но и шерсть тоже, светло-серую с оттенком желтого, вьющуюся только на концах; ничего странного в этом нет, а странен только мой склад ума, хоть и не настолько — я обязан об этом помнить, — чтобы по существу отклоняться от собачьего рода как такового. Так что если даже воздушные собаки не одиноки в своем роде, если в огромном собачьем мире они время от времени встречают себе подобных и даже способны извлечь из ничего новое поколение, то и я могу жить в уверенности, что для меня не все потеряно. Конечно, у родственных мне по духу собак наверняка особенная судьба, поэтому их существование едва ли сможет мне заметно помочь уже потому, что я вряд ли различу их среди других. Мы — те, кого гнетет молчание, мы стремимся его прервать, как если бы нам не хватало воздуха, а другим, по всей видимости, молчание идет на пользу, и хоть это не более чем видимость — так же как видимостью было деланное спокойствие собак-музыкантов, в действительности весьма сильно взволнованных, — она обладает большой силой, и любые попытки разрушить эту видимость оказываются смехотворными. Как же выходят из положения мои духовные сородичи? На что похожи их попытки жить несмотря ни на что? Должно быть, существуют разные способы. Я, пока был молод, занимался расспросами. Значит, мне, возможно, нужно было держаться тех, кто задавал много вопросов, и в них я нашел бы сородичей? Некоторое время я так и делал, превозмогая себя, — превозмогая, потому что меня ведь занимают те, от кого я требую ответа, а те, кто перебивает меня вопросами, на которые я обычно ответа не знаю, мне отвратительны. И потом, кто же не задает вопросов, пока молод, и как выбрать среди множества вопросов правильные? Что один вопрос, что другой — все звучат одинаково, а дело только в том, зачем спрашивают, но и это ведь остается неясно, зачастую даже и самому вопрошающему. Да и вообще, задавать вопросы свойственно всему собачьему роду, все постоянно друг друга зачем-то спрашивают, как если бы нарочно старались замести следы правильных вопросов. Нет, среди юных любителей задавать вопросы я не найду родственных душ; не найду их и среди старых молчунов, хоть и сам теперь принадлежу к их числу. Но к чему вопросы, с вопросами я ведь потерпел неудачу; вероятно, мои сородичи умней меня и нашли совсем другие, превосходные средства, помогающие выносить нашу жизнь, вот только добавлю от себя, что эти средства, пусть и годятся на крайний случай, потому что успокаивают, усыпляют, переиначивают склад ума, в целом, вероятно, так же беспомощны, как и мои, поскольку как я ни ищу, никакого успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, что если мне как-то и удастся различить моих сородичей, то не по успешности. Где же они, родственные мне души? Да, я жалуюсь, и жалоба моя именно такова. Где они? Везде и нигде. Может быть, это мой сосед? В трех прыжках от меня, и мы часто окликаем друг друга, иногда он приходит ко мне, сам я к нему не хожу. Он мой сородич? Не знаю, ничего подобного я за ним не замечаю, но возможно, что так. Возможно — и тем не менее нет ничего маловероятнее. Когда я его не вижу, я могу напрячь воображение и отыскать в нем что-то подозрительное, но стоит ему оказаться передо мной, и все мои измышления оказываются смехотворными. Он стар, поменьше меня, хоть и сам я размером не слишком велик, у него короткая бурая шерсть, голова устало свисает к земле, походка шаркающая, к тому же он слегка приволакивает левую заднюю лапу, она у него больная. Я уже давно ни с кем так не сближался, как с ним, и я рад, что хотя бы его общество я еще способен переносить, так что когда он уходит, я кричу ему вслед самые благожелательные слова, впрочем, не из любви, а от злости на себя, потому что провожая его, я чувствую только отвращение, глядя как он плетется и подволакивает лапу, низко опустив зад. Иногда мне кажется, будто я сам над собой смеюсь, мысленно называя его своим товарищем. Ни о каком товариществе не идет речи и в наших с ним разговорах; он неглуп и по нашим меркам неплохо образован, я мог бы у него многому научиться, но зачем мне ум, зачем образованность? Обычно мы говорим о местных делах, и я, наученный наблюдательности своим одиночеством, дивлюсь тому, сколько интеллектуальных сил требуется даже обычной собаке, даже не в очень стесненных обстоятельствах, чтобы коротать свой век и ограждать себя хотя бы от самых существенных опасностей. Существуют правила, благодаря науке, но понять их даже приблизительно и в самых общих чертах совсем не легко, а тем более, поняв, приложить к частным случаям. Тут вряд ли можно положиться на кого бы то ни было, новые задачи возникают почти ежечасно и на каждом клочке земли свои, особенные; утверждать, что на всю жизнь поселился в одном месте и дальше существуешь до определенной степени по заведенному порядку, не может никто, даже я с моими день ото дня прямо-таки убывающими потребностями. И все эти бесконечные хлопоты — зачем? Только для того, чтобы все глубже зарываться в молчание, откуда уже никто и никогда не достанет.
Принято гордиться многовековым всеобщим прогрессом собачьего рода, но подразумевается главным образом научный прогресс. Разумеется, наука идет вперед, это неостановимый ход вещей, и не просто идет вперед, а ускоряется, все быстрее и быстрее, но чем тут гордиться? Это как если бы кто-нибудь гордился тем, что с годами становится старше и поэтому все быстрее приближается к смерти. Это естественный и к тому же отвратительный процесс, гордиться тут нечем. Я вижу в нем только распад, не в том смысле, что прежние поколения были лучше по своей сути, они были только моложе, а это большое преимущество, их память еще не была перегружена, как сегодня, их было легче разговорить, и даже если разговор с ними никому не удался, он был возможнее, и это-то так и волнует нас, когда мы слышим древние истории, при всей их наивности. Иногда нам удается где-то расслышать в них слова, в которых будто проскальзывает намек на нечто такое, что почти заставляет нас вскочить с места, — но мы придавлены тяжестью веков. Нет, какие бы возражения у меня ни вызывало наше время, прежние поколения были не лучше теперешнего, а в известном смысле даже намного хуже и слабее. Ничейные чудеса по улице не бродили и тогда, но собаки были, не могу выразиться иначе, еще не такие собакообразные, как нынешние, а сплоченность собачьего рода не такая крепкая, истинное слово тогда еще могло проникнуть в основание и как угодно настроить, перестроить жизнь, даже совсем ее перевернуть, и это слово было достижимо или, по крайней мере, почти достижимо, вертелось на самом кончике языка. Каждый мог его узнать; а где-то оно теперь — теперь, вгрызайся хоть в самые потроха, ничего не найдешь. Возможно, наше поколение потеряно, но оно невиннее, чем тогдашнее. Нерешительность моего поколения я могу понять, это ведь уже не то что нерешительность, это забвение сна, привидевшегося тысячу ночей назад и тысячу раз забытого, кто же станет нас сегодня винить за тысячекратно забытое? Но и нерешительность наших праотцов я, надеюсь, понимаю, мы бы на их месте, наверное, вели себя так же, хочется даже сказать: на наше счастье, не мы сами взвалили вину на свои плечи, а только движемся к смерти, ускоряя шаг, в почти безвинном молчании посреди мира, поверженного другими в темноту. Когда наши праотцы сбились с пути, они вряд ли думали, что блуждания продолжатся бесконечно, они словно бы еще видели развилку, им казалось, что повернуть вспять несложно, и если они не решились повернуть вспять, то только потому, что им хотелось немного насладиться собачьей жизнью, их жизнь еще не успела стать подлинно собачьей, а им уже представлялось, какой упоительно прекрасной она станет позже, всего самую малость позже, и потому они продолжали блуждания. Они не знали того, о чем мы догадываемся, рассматривая ход истории: душа изменяется раньше, чем жизнь, и когда собачья жизнь только начала их радовать, у них уже была древнесобачья душа, и они отстояли дальше от истока, чем им казалось или чем хотели заставить их поверить переполненные собачьей радостью глаза. А сегодня — сегодня о юности и речи нет. Это они были юны, но, к несчастью, их единственным притязанием было повзрослеть, задача, не преуспеть в которой невозможно, как доказали все последующие поколения, а наше, последнее, лучше всех.
В последнее время я все чаще размышляю о своей жизни, ищу главную ошибку, которая виной всему и которую, возможно, совершил, но не могу ее найти. А ошибку я, видимо, совершил, потому что если бы я ее не совершил и при этом, после кропотливых трудов в течение целой долгой жизни, так и не достиг желаемого результата, это означало бы, что то, чего я добивался, невозможно, и отсюда вытекает полная безнадежность. Полюбуйся на дело своей жизни! Сперва разыскания, связанные с вопросом: «Откуда земля берет пищу для нас?» Еще совсем молодой и, конечно, жизнерадостной собакой, я отказался от всех удовольствий, я обходил стороной развлечения, избегая искушений, прятал голову между лап и принимался за работу. Моя работа не была ученой ни в том, что касается учености, ни в том, что касается метода и цели. Это, наверное, было ошибкой с моей стороны, но решающего значения она иметь не могла. Я немногому научился, ведь я рано ушел от матери, быстро привык к самостоятельности и жил сам по себе, а слишком ранняя самостоятельность вредит систематической учебе. Но я многое видел, слышал и говорил со многими собаками самых разных пород и занятий, и все это я, как мне кажется, неплохо понял и неплохо связал все свои наблюдения воедино, это в некоторой степени заменило мне ученость, и кроме того, хоть самостоятельность и мешает учебе, во всем, что касается исследований, у нее есть свои преимущества. В моем случае самостоятельность была тем более необходима, что я не мог следовать действительно научным методам, то есть не мог использовать работы предшественников и сверяться с современными исследователями. Я во всем полагался только на себя, начинать мне приходилось с самых азов, и я приступил к занятиям с сознанием, ободряющим в юности, но крайне тягостным в старости, что точка, которую я поставлю в тот случайный момент, когда закончится моя жизнь, должна будет стать не просто последней, но и завершающей. Неужели я и всегда был, и по сей день остался совсем одинок в своих исследованиях? И да и нет. Не может быть, чтобы и в прежние, и в теперешние времена не существовало собак, находящихся в таком же положении, как я. Не может быть, чтобы мои дела были настолько плохи. По своей природе я ни на йоту не отличаюсь от собак. Всякую собаку, как меня, тянет задавать вопросы, и меня, как всякую собаку, тянет молчать. Всех тянет задавать вопросы. Разве могли бы иначе мои вопросы вызывать хоть и малейшие, но все же потрясения, за которыми мне часто доводилось наблюдать с восторгом, правда, с восторгом преувеличенным, и будь я иным, не достиг ли бы я гораздо большего? А то, что меня сильно тянет молчать, к сожалению, даже не требует доказательств. Таким образом, я ни в чем принципиально не отличаюсь от прочих собак, поэтому никакие расхождения во мнениях и антипатии не мешают остальным признавать меня в сущности за своего, и я сам отношусь к любой собаке точно так же. Разница только в комбинации элементов, для отдельной личности эта разница очень велика, но для народа в целом незначительна. Неужто такая, как у меня, или похожая комбинация всегда существовавших свойств характера никогда не выпадала ни в прошлом, ни в настоящем, и если мою комбинацию следует назвать неудачной, то неужто не выпадало комбинаций еще менее удачных? Это шло бы вразрез со всем остальным опытом. Поистине удивительно разнообразие собачьих занятий. Встречаются профессии, в существование которых невозможно было бы поверить, не будь у нас о них вернейших свидетельств. Мой любимый пример — воздушные собаки. Когда я впервые услышал об одной такой собаке, то рассмеялся и никак не желал в это поверить. Я не ослышался? Говорят, будто существует собака самой малой породы, немногим крупней моей головы, даже в зрелом возрасте не крупнее, и эта-то собака, разумеется, физически слабая, имеющая самый вычурный, инфантильный внешний вид, носящая слишком нарядную прическу, неспособная совершить ни одного порядочного прыжка, эта-то собака, как рассказывают, передвигается чаще всего по воздуху, при этом не прилагая видимых усилий, а, напротив, в полном покое. Нет, заставлять меня поверить в такие вещи могло означать только одно: они хотят воспользоваться моей юношеской непосредственностью, так я думал. Но немного спустя я снова услышал, теперь уже от другого рассказчика, о встрече с другой воздушной собакой. Должно быть, они сговорились, чтобы подшутить надо мной, еще очень юной собакой? Однако потом я встретил собак-музыкантов и с тех пор уже не считал существование воздушных собак невозможным, мое восприятие освободилось от предвзятости, я не отбрасывал даже самых нелепых россказней, а искал им подтверждения, насколько возможно, и нелепости казались мне не только более вероятными в этой нелепой жизни, чем осмысленные вещи, но и более полезными для моих разысканий. Так и с воздушными собаками. Я разузнал о них многое, и хотя по нынешний день мне самому не не довелось встретить ни одной, я давно твердо убежден в реальности их существования и они занимают важное место в моей картине мира. Как и в остальных вещах, меня здесь, разумеется, наводит на размышления не только их особое искусство. Кому придет в голову отрицать, достойно удивления то, что эти собаки умудряются парить в воздухе, и тут я не расхожусь во мнении с сообществом собак. Но для меня удивительнее ощущение нелепости, молчаливой нелепости этих жизней. Общественность никак ее не объясняет, просто принимает тот факт, что они парят в воздухе, вот и все, жизнь идет своим чередом, изредка разговор заходит об искусстве и тех, кто искусством занимается, но и не более того. Но почему же, милейшее собачье сообщество, почему эти собаки парят в воздухе? Каков смысл этого занятия? Почему от них нельзя добиться ни слова в объяснение? Почему они парят над землей, почему оставляют свои лапы — собачью гордость! — в небрежении, почему живут в отрыве от плодородной земли, не сеют, но все же жнут и даже, говорят, питаются особенно хорошо за счет остального собачьего рода? Мне льстит сознавать, что своими расспросами я хоть тут немного привел в движение умы. Мало-помалу начинают возникать обоснования, некое нескладное подобие обоснований — начинают, но никогда дальше начинаний дело не идет. И все же это больше, чем ничего. Проглядывает что-то, что хоть и нельзя назвать истиной, ведь истина недоступна, но что-то, говорящее о глубоком потрясении лжи. Дело в том, что все нелепые явления нашей жизни, а в особенности наинелепейшие, поддаются обоснованию. Конечно, не полностью — в том-то весь дьявольский морок и таится, — но все же достаточно, чтобы защититься от нелицеприятных вопросов. Взять, например, тех же воздушных собак: они не высокомерны, как можно было бы подумать, скорее наоборот, они особенно нуждаются в поддержке собратьев, и если поставить себя на их место, это понятно. Они пытаются — хоть и не в открытую, чтобы не нарушать обета молчания, — тем или иным способом испросить прощения за свой образ жизни или хотя бы отвлекать от него внимание в надежде, что так о нем забудут, и этой цели они добиваются, по рассказам, прямо-таки невыносимой болтливостью. У них неиссякаемый запас тем, частью это — философские рассуждения, которым они могут предаваться бесконечно, поскольку полностью отказались от телесных усилий, частью — наблюдения, которые они делают с высоты своего положения. И несмотря на то, что при таком существовании они, разумеется, не слишком отличаются силой ума и их философия, так же как и их наблюдения, не имеет ценности, никакой пользы для науки в них нет, да и не нужны науке такие жалкие вспомогательные средства, но несмотря на все это, если задать вопрос, чего вообще хотят добиться воздушные собаки, в ответ сразу скажут, что они хотят продвинуть науку. «Пусть так, — приходится возражать, — но ведь их изыскания никчемны и избыточны». На это уже не отвечают, только пожимают плечами, меняют тему, сердятся или смеются, а если подождать и потом спросить еще раз, то снова отвечают, что воздушные собаки вносят вклад в науку, и тогда, если на этот раз уже тебя самого спросят о том же, то, если недостаточно внутренне собран, легко ответить ровно так же. И, вероятно, даже хорошо не слишком упорствовать, а просто принимать воздушных собак как данность и не то чтобы соглашаться с их существованием, это невозможно, но относиться к нему спокойно. Требовать большего значит заходить слишком далеко, и тем не менее требуют большего. Требуют признавать и терпеть все новых воздушных собак, появляющихся над горизонтом. Никто точно не знает, откуда они берутся. Неужто размножаются? Есть ли у них вообще силы для размножения, у этих-то комочков изысканного меха? Невероятно, но даже если так, то когда это происходит? Их всегда видят парящими в воздухе в самодостаточном одиночестве, и если они снисходят иногда до прогулки по земле, то только ненадолго, они делают несколько изящных шажков, опять же в полном одиночестве и в напускной глубокой задумчивости, выйти из которой они не могут, даже если очень постараются, во всяком случае, так они утверждают. Но если они не размножаются, можно ли допустить мысль, что находятся собаки, которые добровольно отказываются от наземной жизни и ради удобства и известной причастности к искусству выбирают унылую жизнь на подушках? Этого нельзя допустить всерьез даже в мыслях, ни того, что воздушные собаки размножаются, ни того, что кто-то добровольно вступает в их ряды. Действительность, однако, показывает, что их становится больше; следовательно, какими непреодолимыми ни казались бы нашему рассудку препятствия на пути у воздушных собак, однажды возникшая в мире порода, даже самая странная, не вымирает или вымирает не сразу, во всяком случае, нет такой породы, в которой не была бы заложено что-то, сопротивляющееся вымиранию.
А если так, если даже такая противоестественная, бессмысленная, неприспособленная к жизни, причудливейшая порода, как воздушные собаки может существовать, касается ли это и моей собственной породы? Притом я вовсе не причудлив внешне, мой вид обычен и неприхотлив, весьма распространен, по крайней мере в здешней местности, ничем особенным не выделяется, ничего отталкивающего в нем тоже нет, в юности и даже отчасти в зрелости, когда я не пренебрегал собой и много двигался, я был даже вполне хорош собой. Особенно хвалили мой вид анфас, стройные ноги, изящную посадку головы, но и шерсть тоже, светло-серую с оттенком желтого, вьющуюся только на концах; ничего странного в этом нет, а странен только мой склад ума, хоть и не настолько — я обязан об этом помнить, — чтобы по существу отклоняться от собачьего рода как такового. Так что если даже воздушные собаки не одиноки в своем роде, если в огромном собачьем мире они время от времени встречают себе подобных и даже способны извлечь из ничего новое поколение, то и я могу жить в уверенности, что для меня не все потеряно. Конечно, у родственных мне по духу собак наверняка особенная судьба, поэтому их существование едва ли сможет мне заметно помочь уже потому, что я вряд ли различу их среди других. Мы — те, кого гнетет молчание, мы стремимся его прервать, как если бы нам не хватало воздуха, а другим, по всей видимости, молчание идет на пользу, и хоть это не более чем видимость — так же как видимостью было деланное спокойствие собак-музыкантов, в действительности весьма сильно взволнованных, — она обладает большой силой, и любые попытки разрушить эту видимость оказываются смехотворными. Как же выходят из положения мои духовные сородичи? На что похожи их попытки жить несмотря ни на что? Должно быть, существуют разные способы. Я, пока был молод, занимался расспросами. Значит, мне, возможно, нужно было держаться тех, кто задавал много вопросов, и в них я нашел бы сородичей? Некоторое время я так и делал, превозмогая себя, — превозмогая, потому что меня ведь занимают те, от кого я требую ответа, а те, кто перебивает меня вопросами, на которые я обычно ответа не знаю, мне отвратительны. И потом, кто же не задает вопросов, пока молод, и как выбрать среди множества вопросов правильные? Что один вопрос, что другой — все звучат одинаково, а дело только в том, зачем спрашивают, но и это ведь остается неясно, зачастую даже и самому вопрошающему. Да и вообще, задавать вопросы свойственно всему собачьему роду, все постоянно друг друга зачем-то спрашивают, как если бы нарочно старались замести следы правильных вопросов. Нет, среди юных любителей задавать вопросы я не найду родственных душ; не найду их и среди старых молчунов, хоть и сам теперь принадлежу к их числу. Но к чему вопросы, с вопросами я ведь потерпел неудачу; вероятно, мои сородичи умней меня и нашли совсем другие, превосходные средства, помогающие выносить нашу жизнь, вот только добавлю от себя, что эти средства, пусть и годятся на крайний случай, потому что успокаивают, усыпляют, переиначивают склад ума, в целом, вероятно, так же беспомощны, как и мои, поскольку как я ни ищу, никакого успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, что если мне как-то и удастся различить моих сородичей, то не по успешности. Где же они, родственные мне души? Да, я жалуюсь, и жалоба моя именно такова. Где они? Везде и нигде. Может быть, это мой сосед? В трех прыжках от меня, и мы часто окликаем друг друга, иногда он приходит ко мне, сам я к нему не хожу. Он мой сородич? Не знаю, ничего подобного я за ним не замечаю, но возможно, что так. Возможно — и тем не менее нет ничего маловероятнее. Когда я его не вижу, я могу напрячь воображение и отыскать в нем что-то подозрительное, но стоит ему оказаться передо мной, и все мои измышления оказываются смехотворными. Он стар, поменьше меня, хоть и сам я размером не слишком велик, у него короткая бурая шерсть, голова устало свисает к земле, походка шаркающая, к тому же он слегка приволакивает левую заднюю лапу, она у него больная. Я уже давно ни с кем так не сближался, как с ним, и я рад, что хотя бы его общество я еще способен переносить, так что когда он уходит, я кричу ему вслед самые благожелательные слова, впрочем, не из любви, а от злости на себя, потому что провожая его, я чувствую только отвращение, глядя как он плетется и подволакивает лапу, низко опустив зад. Иногда мне кажется, будто я сам над собой смеюсь, мысленно называя его своим товарищем. Ни о каком товариществе не идет речи и в наших с ним разговорах; он неглуп и по нашим меркам неплохо образован, я мог бы у него многому научиться, но зачем мне ум, зачем образованность? Обычно мы говорим о местных делах, и я, наученный наблюдательности своим одиночеством, дивлюсь тому, сколько интеллектуальных сил требуется даже обычной собаке, даже не в очень стесненных обстоятельствах, чтобы коротать свой век и ограждать себя хотя бы от самых существенных опасностей. Существуют правила, благодаря науке, но понять их даже приблизительно и в самых общих чертах совсем не легко, а тем более, поняв, приложить к частным случаям. Тут вряд ли можно положиться на кого бы то ни было, новые задачи возникают почти ежечасно и на каждом клочке земли свои, особенные; утверждать, что на всю жизнь поселился в одном месте и дальше существуешь до определенной степени по заведенному порядку, не может никто, даже я с моими день ото дня прямо-таки убывающими потребностями. И все эти бесконечные хлопоты — зачем? Только для того, чтобы все глубже зарываться в молчание, откуда уже никто и никогда не достанет.
Принято гордиться многовековым всеобщим прогрессом собачьего рода, но подразумевается главным образом научный прогресс. Разумеется, наука идет вперед, это неостановимый ход вещей, и не просто идет вперед, а ускоряется, все быстрее и быстрее, но чем тут гордиться? Это как если бы кто-нибудь гордился тем, что с годами становится старше и поэтому все быстрее приближается к смерти. Это естественный и к тому же отвратительный процесс, гордиться тут нечем. Я вижу в нем только распад, не в том смысле, что прежние поколения были лучше по своей сути, они были только моложе, а это большое преимущество, их память еще не была перегружена, как сегодня, их было легче разговорить, и даже если разговор с ними никому не удался, он был возможнее, и это-то так и волнует нас, когда мы слышим древние истории, при всей их наивности. Иногда нам удается где-то расслышать в них слова, в которых будто проскальзывает намек на нечто такое, что почти заставляет нас вскочить с места, — но мы придавлены тяжестью веков. Нет, какие бы возражения у меня ни вызывало наше время, прежние поколения были не лучше теперешнего, а в известном смысле даже намного хуже и слабее. Ничейные чудеса по улице не бродили и тогда, но собаки были, не могу выразиться иначе, еще не такие собакообразные, как нынешние, а сплоченность собачьего рода не такая крепкая, истинное слово тогда еще могло проникнуть в основание и как угодно настроить, перестроить жизнь, даже совсем ее перевернуть, и это слово было достижимо или, по крайней мере, почти достижимо, вертелось на самом кончике языка. Каждый мог его узнать; а где-то оно теперь — теперь, вгрызайся хоть в самые потроха, ничего не найдешь. Возможно, наше поколение потеряно, но оно невиннее, чем тогдашнее. Нерешительность моего поколения я могу понять, это ведь уже не то что нерешительность, это забвение сна, привидевшегося тысячу ночей назад и тысячу раз забытого, кто же станет нас сегодня винить за тысячекратно забытое? Но и нерешительность наших праотцов я, надеюсь, понимаю, мы бы на их месте, наверное, вели себя так же, хочется даже сказать: на наше счастье, не мы сами взвалили вину на свои плечи, а только движемся к смерти, ускоряя шаг, в почти безвинном молчании посреди мира, поверженного другими в темноту. Когда наши праотцы сбились с пути, они вряд ли думали, что блуждания продолжатся бесконечно, они словно бы еще видели развилку, им казалось, что повернуть вспять несложно, и если они не решились повернуть вспять, то только потому, что им хотелось немного насладиться собачьей жизнью, их жизнь еще не успела стать подлинно собачьей, а им уже представлялось, какой упоительно прекрасной она станет позже, всего самую малость позже, и потому они продолжали блуждания. Они не знали того, о чем мы догадываемся, рассматривая ход истории: душа изменяется раньше, чем жизнь, и когда собачья жизнь только начала их радовать, у них уже была древнесобачья душа, и они отстояли дальше от истока, чем им казалось или чем хотели заставить их поверить переполненные собачьей радостью глаза. А сегодня — сегодня о юности и речи нет. Это они были юны, но, к несчастью, их единственным притязанием было повзрослеть, задача, не преуспеть в которой невозможно, как доказали все последующие поколения, а наше, последнее, лучше всех.
Такие вещи со своим соседом я, конечно, не обсуждаю, но часто задумываюсь о них, когда вижу его перед собой, старика, каких много, или когда зарываюсь носом в его шерсть, уже слегка пахнущую снятой с костей шкурой. Говорить с ним об этих вещах бессмысленно, как и со всеми остальными. Я знаю, какой бы получился разговор. Он вставит несколько маленьких замечаний, а в конечном счете со всем согласится, согласие — лучшее оружие, на том тема и похоронена, так зачем ее вообще было поднимать из могилы? И тем не менее между мной и соседом существует, возможно, единодушие более глубокое, чем слова. Я не перестаю это утверждать, хоть и не нахожу тому никаких подтверждений и, возможно, обманываюсь просто потому, что он уже давно — единственный, с кем я общаюсь, и я вынужденно держусь за него. «Не ты ли — мой товарищ, на свой лад? Не стыдишься ли тоже своих неудач? Погляди на меня, я такой же. Когда я один, я вою от одиночества, иди ко мне, вдвоем милее», — так я иногда думаю и пристально вперяюсь в него взглядом. Он не отводит глаз, но и прочитать в них ничего нельзя, он тупо смотрит на меня, будто никак не поймет, почему я молчу, почему оборвал разговор. Но, может быть, этот-то взгляд и есть его способ искать ответа, и я так же обманываю его надежду, как он — мою. В молодости, если бы меня тогда не волновали другие вопросы и если бы собственных затруднений мне не было вполне достаточно, я, может быть, вслух спросил бы его, что он думает, а он бы отделался вялым согласием, так что я получил бы в ответ меньше, чем сегодня, когда он молчит. Но разве не все молчат точно так же? Что мне мешает считать каждую собаку своим товарищем, почему я решил, что собаки-исследователи как я попадаются редко и что они и их ничтожные результаты сгинули и забыты, так что прорваться сквозь потемки прошлого и толчею настоящего к своим товарищам мне уже никак не удастся, почему бы вместо этого не думать, наоборот, что каждая собака — с самого начала мой товарищ и что по мере сил каждый безнадежно старается заниматься исследованиями, по-своему безрезультатно, по-своему молча или изъясняясь обиняками. Тогда мне не нужно отделяться, а можно спокойно примкнуть к другим вместо того, чтобы проталкиваться сквозь ряды взрослых собак, словно непослушный ребенок, не понимающий, что и они точно так же хотят вырваться из толпы, и не видящий, что его раздражение вызвано всего лишь благоразумием взрослых, которое подсказывает им, что никому не вырваться из общих рядов, а толкаться — глупо.
Такие мысли у меня появляются явно под влиянием моего соседа, он меня смущает, наводит на меня меланхолию, при том что сам он вполне весел, во всяком случае, я слышу, как он у себя горланит, распевает, да так, что мне это в тягость. Хорошо бы оборвать и эту последнюю связь, перестать предаваться смутным фантазиям, которые неизбежно порождает любое общение между собаками, каким толстокожим себя ни воображай, и посвятить остаток жизни исключительно разысканиям. В следующий раз, когда он придет, я спрячусь и притворюсь спящим, и так будет повторяться до тех пор, пока он не перестанет приходить совсем.
И в мои разыскания пробрался беспорядок, я теряю силы, устаю, только по привычке продолжаю трусить вперед, а ведь раньше мчался с азартом. Я вспоминаю прежние времена, когда я только начал исследовать вопрос о том, откуда земля берет нашу пищу. Тогда я жил среди народа, проталкивался в самую гущу толпы, стремился всех превратить в свидетелей моих разысканий, и присутствие свидетелей было для меня даже важнее самой работы; поскольку я надеялся на всеобщее признание, я, разумеется, был очень увлечен, зато теперь, когда я одинок, этот стимул остался в прошлом. В те времена у меня было столько сил, что я творил неслыханные вещи, противоречащие всем нашим принципам, так что все тогдашние свидетели наверняка вспоминают обо мне как о былом кошмаре. В науке, во всех прочих аспектах основанной на стремлении к безграничной специализации, я нашел одно странное упрощение. Наука принимает как данность то, что земля дает нам пищу, и, уже сделав это допущение, указывает способы получить разные виды пищи в наилучшем качестве и наибольшем разнообразии. Земля, разумеется, дает пищу, сомнений тут быть не может, но не все так просто, как это обычно объясняют, отвергая необходимость дальнейших разысканий. Взять хотя бы самые тривиальные случаи, какие повторяются изо дня в день. Если бы мы совсем ничего не делали, а я сейчас почти так и живу, если бы, только поверхностно обработав почву, сразу сворачивались калачиком и ждали, что будет, то если допустить, что пища действительно обнаружится, мы найдем ее лежащей на земле. Но ведь это не общее правило. Кто сохранил хоть немного непредвзятости в отношении научных доводов — а таких собак мало, ведь в науку вовлекаются все более широкие круги, — тот с легкостью заметит, даже если специальные наблюдения не будут его целью, что по большей части пища, попадающая на землю, опускается сверху, мы даже обычно успеваем, в зависимости от ловкости и алчности, поймать ее еще прежде, чем она коснется земли. Замечу, что тем самым я не опровергаю нашу науку, земля, конечно, и в самом деле производит и эту пищу. Возможно, что нет большой разницы между тем, исторгает ли земля пищу изнутри или вызывает ее приход сверху, и когда в науке утверждается, что в обоих случаях необходима обработка почвы, то изучать такие малые различия науке, может быть, и не пристало, ведь говорят же, что «если твой рот полон еды, на сей раз ты решил все вопросы». Мне, однако, кажется, что в неявном виде наука все же занимается этими вопросами хотя бы отчасти, поскольку различает два основных метода получения пищи, а именно: обработку земли как таковую и дополнительную, изощренную работу в форме приговоров, танцев и пения. Я вижу в этом если и не полное, то все-таки довольно однозначное двухчастное деление, и оно соответствует моему собственному разграничению. Обработка земли, по моему мнению, служит добыче обоих видов пищи и необходима всегда, а приговоры, танец и пение направлены не столько на обработку земли в узком смысле, сколько главным образом на привлечение пищи с высоты. Моя точка зрения подтверждается традицией. В этом отношении народ корректирует науку, сам того не ведая, а наука не смеет возражать. Ведь если все эти обряды входят в служение почве, как хотелось бы думать науке, если они должны, скажем, придавать земле сил для добычи пищи с высоты, то и совершаться они должны, по логике вещей, на земле, приговоры нужно нашептывать прямо в землю и к ней же припадать в танцах и прыжках. Насколько я знаю, ничего иного наука и не требует. Но вот в чем странность: народ во всех своих обрядах обращается ввысь. Это не противоречит науке, наука не запрещает агроному свободного обращения с обрядами, научные доктрины касаются только самой земли, и если агроном применяет эти доктрины, то науке этого довольно, но, по моему мнению, научная мысль должна требовать большего. И я, хоть никогда и не был посвящен в сколько-нибудь глубокие тайны науки, не могу себе представить, как ученые могут мириться с тем, что наш народ со всем присущим ему рвением обращается к воздуху, когда возносит ввысь заклинания, выпевает наш древний плач и исполняет танцевальные прыжки так, будто хочет навсегда оторваться от земли. Я начал с того, что подчеркнул эти противоречия: всякий раз, когда наука предсказывала приближение урожая, я направлял все свое внимание к земле, я скреб ее в танце, вытягивал шею книзу так, чтобы как можно ближе припасть к земле. Позже я даже вырыл себе ямку для того, чтобы погружать туда морду, петь и произносить речи так, чтобы никто вокруг меня или надо мной их не слышал, а слышала только земля.
Результаты разысканий были незначительны. Иногда я не получал еды и уже собирался радоваться своему открытию, но потом еда все же появлялась вновь, как если бы моему странному поведению сперва удивились, но потом разглядели в нем и положительную сторону и с радостью отказались от моих восклицаний и прыжков. Зачастую еда оказывалась даже обильнее, чем раньше, но потом она вдруг не появлялась совсем. С усердием, никогда ранее не встречавшимся среди юных собак, я разрабатывал свои опыты в мельчайших деталях, иногда как будто находил след искомого, но потом след терялся в неопределенности. Мне бесспорно мешал, кроме всего прочего, недостаток научной подготовки. Например, как я мог поручиться, что непоявление еды вызвано моим экспериментом? Может быть, причина была в ненаучной обработке почвы? А если так, то все мои умозаключения не обоснованы. В определенных условиях я мог бы поставить почти безукоризненно точный эксперимент: если бы мне удалось получить еду и без обработки земли при помощи обряда, направленного в высоту, а затем — добиться непоявления еды, совершив обряд, обращенный исключительно вниз, к земле. Я попытался проделать нечто подобное, но без достаточной убежденности и в неидеальных условиях для эксперимента, ведь, по моему непоколебимому мнению, в определенной степени обработка земли необходима всегда, и даже если правы еретики, утверждающие обратное, доказать это невозможно, поскольку орошение земли происходит по нужде, совсем избавиться от которой нельзя. Другой, пусть немного нелепый, эксперимент удался мне больше и даже произвел некоторый фурор. Основываясь на обычае ловить пищу в воздухе, я решил дожидаться падения, но не подхватывать ее на лету. Для этого я делал небольшой прыжок всякий раз, когда пища появлялась, но рассчитывал его так, чтобы он оказался слишком низким; тогда пища по большей части тупо и безразлично ударялась об землю, и я набрасывался на нее с яростью, не столько от голода, сколько от разочарования. Однако в отдельных случаях происходило нечто другое, нечто и в самом деле удивительное: пища не падала, а следовала за мной в воздухе, корм преследовал голодного! Это продолжалось недолго, пища проделывала за мной короткий путь, а в конце концов либо падала, либо совсем исчезала, или — самый частый случай — побеждала алчность, эксперимент прерывался, и я все съедал. Так или иначе, я был счастлив, в моем окружении стали перешептываться, беспокоиться, приглядываться ко мне, знакомые начали больше прислушиваться к моим вопросам, в их глазах я замечал какой-то искательный блеск, и даже если это было только отражение моего собственного взгляда, я не просил ничего другого, я был доволен. Потом я, правда, узнал, а со мной узнали и другие, что эксперимент этот уже давно описан в науке, удался другим гораздо лучше, чем мне, и хоть давно больше не проводился, поскольку сдерживать голод затруднительно, но и повторять его не обязательно из-за его якобы ничтожного значения для науки. Он, мол, доказывает только то, что известно и так: земля получает пищу не только напрямую сверху, но и наискосок, и даже по спирали. Тем и кончилось, но я не отчаялся, я был еще слишком молод, чтобы отчаиваться, наоборот, этот опыт подтолкнул меня к, возможно, самому большому достижению моей жизни. Я не верил в то, что мой эксперимент не имеет ценности, как утверждает наука, но уверенности недостаточно, нужны доказательства, и я решил найти доказательство, представить этот изначально несколько нелепый эксперимент в полном свете и перенести его в самый центр моих исследований. Я хотел доказать, что когда я отодвигался от пищи, то не земля притягивала ее наискось и вниз, а я сам манил ее за собой. Правда, я не мог намного продлить время эксперимента, потому что видеть перед собой пищу, но при этом долго заниматься научным наблюдением невыносимо. Но я решил сделать по-другому, я решил, сколько будет сил, полностью отказываться от пищи, избегая при этом даже смотреть на нее, чтобы не поддаваться соблазну. Если я устранюсь, если буду и день и ночь лежать, закрыв глаза, не думая ни о том, чтобы встать, ни о том, чтобы поймать пищу на лету, и если, как я не смел утверждать, но тихо надеялся, несмотря на мой отказ от всех прочих действий, кроме неизбежного и нерационального орошения земли и негромкого произнесения приговоров и песен (от танцев я решил отказаться, чтобы не утомлять себя), пища сама опустится и постучится, минуя землю, прямо мне в зубы, — если это произойдет, то не будет ли этого достаточно, чтобы пусть не опровергнуть науку, ведь в науке достаточно гибкости для особых случаев и исключений, но хотя бы заставить говорить наш народ, к счастью, не настолько терпимый к особым случаям и исключениям? Ведь это не будет исключением в том смысле, в котором о них сообщает история, когда из-за физического недомогания или душевной тоски кто-нибудь отказывается от приготовления, поиска и приема пищи, но объединенными силами собак мира и их заклинаний пища отклоняется от обычной траектории и попадает прямо в пасть больного. Однако я-то был здоров и полон сил, на аппетит ничуть не жаловался, наоборот, весь день только о пище и думал, а голоданию, кто бы что ни думал, подвергал себя добровольно при том, что вполне был способен призывать пищу сам и боролся с желанием это сделать, а в помощи собачьего общества не нуждался, напротив, строго воспрещал себе ей пользоваться.
Я выбрал место в отдаленных кустах, чтобы не слышать ни разговоров о еде, ни чавканья и хруста разгрызаемых косточек, плотно пообедал напоследок и улегся. Я решил по возможности совсем не открывать глаз: сколько времени не будет появляться еда, столько будет продолжаться для меня ночь, неважно, дни или недели. При этом большое затруднение состояло в том, что я намеревался почти вовсе не спать, потому что, хотя и не собирался призывать пищу с высоты, нужно было тем не менее оставаться начеку, чтобы не пропустить ее появление; а с другой стороны, если бы я спал, я мог бы голодать намного дольше, чем бодрствуя. По этим причинам я решил осторожно разделять время так, чтобы спать много в целом, но через короткие промежутки. Этого я добился тем, что всякий раз перед сном клал голову на тонкий сучок, который вскоре обламывался и будил меня. Так я лежал, спал или бодрствовал, мечтал или напевал про себя. Поначалу ничего особенного не происходило, видимо, там, откуда появляется пища, мое сопротивление обычному ходу вещей прошло незамеченным, и все было тихо. Мне немного мешало сосредоточиться беспокойство, что собаки заметят мое отсутствие, станут меня искать и попробуют остановить. Еще, хоть я и знал, что наука считает здешнюю почву неплодородной, но беспокоился, что просто-напросто орошая землю я нечаянно вызову появление так называемой случайной пищи и запах этой пищи меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило, и я продолжал голодать. Не считая беспокойства об этих двух вещах, я был пока спокоен, как никогда прежде. Хоть я и работал вообще-то над отменой законов науки, меня переполняли покой и почти баснословная решительность ученого. В мечтах наука даровала мне прощение, для моих исследований нашлось в ней место, у меня в ушах звучали утешительные слова, будто если мои исследования увенчаются успехом, и как раз в этом случае особенно, я не буду потерян для собачьей жизни, наука ко мне благосклонна, наука займется интерпретацией моих результатов, и уже в самом этом обещании заключалось утешение: раньше я чувствовал себя в глубине души отверженным, шел, словно дикарь, на приступ стен, ограждавших мой народ, а теперь он примет меня с почестями, вожделенное тепло от тел всех собравшихся собак заструится вокруг меня, они поднимут меня на спины, и я поплыву по ним, покачиваясь. Удивительно подействовал первый голод. Мои заслуги представились мне столь великими, что от умиления и жалости к себе я заплакал в тех тихих зарослях, не совсем понятно почему, ведь я ожидал заслуженных наград, так о чем же тогда я плакал? Наверное, ни о чем, а просто от умиротворения. Я всегда плакал только от умиротворения, хоть это случалось и нечасто. Впрочем, все быстро прошло. Прелестные картины постепенно рассеялись, когда голод стал всерьез давать о себе знать, и вскоре, распрощавшись и с фантазиями, и с умилением, я остался в полном одиночестве со жгучим голодом в утробе. «Это голод», — много раз повторял я себе, как если бы хотел заставить себя поверить, что я и голод — два разных существа и что я все еще могу отделаться от него, как от надоедливого поклонника, хотя в действительности мы уже слились в одно страдающее целое, и когда я объяснял себе, что «это голод», то на деле говорил голод и насмехался надо мной. Черные, черные дни! Я содрогаюсь, вспоминая их, правда, не столько из-за мучений, которых я тогда натерпелся, сколько потому, что с ними тогда не было покончено, и такие же мучения ожидают меня в будущем, если я хочу чего-нибудь добиться, ведь голод я и по сей день считаю последним и самым действенным средством для моих разысканий. Этот путь вымощен голодом, высшее знание достижимо только высшей выдержкой, если достижимо вообще, а высшая выдержка для нас — добровольное голодание. Поэтому когда я раздумываю о тогдашних временах — а я смертельно люблю бередить память о них, — я со страхом думаю и о временах предстоящих. Кажется, что должна пройти почти целая жизнь, чтобы восстановились силы после такого опыта; от тогдашнего голодания меня отделяют долгие годы зрелости, но силы ко мне пока не полностью вернулись. Если я снова начну голодать, то решимости у меня будет, возможно, больше, чем в прошлый раз, поскольку теперь у меня больше опыта и осознания необходимости эксперимента, но сил у меня меньше, их — еще с тех пор — поубавилось; боюсь, я выдохнусь в одном ожидании знакомых мучений. Теперешний плохой аппетит мне не поможет, он только немного снизит значимость эксперимента, к тому же он, по всей вероятности, заставит меня голодать дольше, чем это было необходимо в прошлый раз. Думаю, мне ясны и эти, и прочие обстоятельства, поскольку предварительных опытов я за это долгое время провел немало, часто я словно бы надкусывал голодание, но решиться на высшую задачу мне не хватало сил, а юношески непосредственное желание ринуться в бой, разумеется, давно исчезло. Оно исчезло еще тогда, во время того голодания. Меня терзали разные размышления. Наши праотцы представали передо мной в угрожающем свете. Я не решаюсь высказать свое мнение открыто, но считаю, что они виновны во всем, они одни в ответе за нашу собачью жизнь, так что я мог бы ответить на их угрозы угрозами, но я склоняюсь перед их знанием, его истоки нам теперешним неизвестны, поэтому, как бы меня ни тянуло их побороть, я никогда прямо их законы не нарушу, но через лазейки в их законах, на которые у меня острое чутье, я могу упорхнуть. В отношении голодания хочу сослаться на знаменитый диалог, в ходе которого один из наших мудрецов высказал намерение запретить собакам голодать, но другой отсоветовал, задав вопрос: «Неужели же кто-нибудь захочет голодать?», так что первый мудрец согласился с этим доводом и не наложил запрета. Но вопрос, не запрещено ли голодать в принципе, все равно остается. Большинство комментаторов дают отрицательный ответ, считают голодание разрешенным, склоняются к мнению второго мудреца и потому не беспокоятся о возможных дурных последствиях ошибочного толкования. В этом я всецело убедился, прежде чем начать голодать. Но теперь, когда я корчился от голода и в уже несколько помутившемся состоянии ума непрестанно искал спасения у собственных задних лап, отчаянно вылизывая их, пережевывая, высасывая шерсть по самый задний проход, общее толкование диалога мудрецов стало казаться мне целиком и полностью ошибочным, я проклинал комментаторов с их наукой, я проклинал и себя за то, что дал им ввести себя в заблуждение, ведь даже ребенку понятно, что диалог содержит больше, чем только запрет первого мудреца на голодание, — запрет мудреца всегда имеет силу, так что голодание действительно запрещено, — но сверх того и второй мудрец не только соглашается с первым, но даже считает голодание невозможным, то есть налагает поверх первого запрета второй, запрет собачьей природы как таковой, а первый признает его правоту и отменяет прямой запрет, завещая собакам отнестись к изложенному с рассудительностью и самим запретить себе голодать. Таким образом, речь шла о тройном запрете вместо привычного одного, и его-то я нарушил. Что ж, я мог хотя бы с опозданием повиноваться и перестать голодать, но сквозь страдание пробивался соблазн голодать дальше, и я сладострастно последовал за соблазном, будто за незнакомой собакой. Я не мог остановиться, возможно, и потому, что уже слишком ослаб, чтобы встать и идти искать спасения в обжитых местах. Я катался туда-сюда по лесному настилу, спать я больше не мог, мне повсюду слышался шум, мир, дремавший во время всей моей прежней жизни, вдруг словно пробудился из-за моего голода, мне привиделось, что я уже никогда больше не смогу ничего съесть, потому что тогда ведь мне пришлось бы заставить снова умолкнуть шумный мир, вырвавшийся на свободу, а это мне не по силам, но самый громкий шум раздавался в моем животе, я часто прикладывал к животу ухо, и мои глаза наверняка выражали ужас, я не мог поверить, чтó я слышу. Когда стало совсем плохо, все мое существо стало затягивать в воронку, хоть оно и делало жалкие попытки сопротивляться; я начал чувствовать запах кушаний, изысканных кушаний, которых я не ел с далеких и счастливых детских времен; я даже стал словно бы вдыхать аромат материнской груди; я забыл о решении сопротивляться запахам, точнее, нет, я его не забыл, я ходил из стороны в сторону, два шага туда, два шага сюда, и волочил за собой решение, которое как будто тоже относилось к решению голодать и состояло в том, чтобы вынюхивать еду лишь затем, чтобы от нее уберечься. То, что я ее не находил, меня не расстраивало, еда была рядом, просто всякий раз на несколько шагов дальше, чем я мог пройти, у меня подкашивались ноги. Вместе с тем я сознавал, что вокруг нет совсем ничего, что я совершаю свои мелкие передвижения исключительно от страха свалиться с ног и уже больше не встать с места, которое станет для меня последним. Исчезла последняя надежда, последний соблазн, здесь я погибну в ничтожестве, чего стоят мои детские опыты из счастливых детских времен, здесь и теперь решается по-настоящему, есть ли ценность в моих исследованиях, но где теперь эти исследования? Вместо них — только беспомощная собака, ловящая пустоту и то и дело торопливо, судорожно орошающая землю, но не способная выловить из всего вороха в памяти ни одного заклинания, ни одного стишка хотя бы из тех, с которыми младенцы забиваются под тело матери. Мне казалось, будто меня отделяет от собратьев не расстояние короткой перебежки, а бесконечность, будто я умираю здесь не от голода, а потому что всеми покинут. Ведь было очевидно, что никто обо мне не беспокоится, никто ни под землей, ни на ней или выше, от их безразличия я погибаю, их безразличие означает: он умирает, и так тому и быть. И разве я не соглашался? Разве не говорил ровно то же самое? Не этого ли забвения желал сам? Да, братья собаки, но не ради такого ничтожного конца, а чтобы докопаться до высшей истины, чтобы выбраться из этого мира лжи, в котором нет никого, от кого можно узнать правду, даже от себя самого, уроженца лжи. Может быть, истина скрывалась неподалеку, и тогда моя покинутость не была настолько полной, насколько я воображал, и другие меня не покинули, а покинул себя только я сам, потерпевший поражение и умирающий.
Но смерть приходит не так быстро, как может вообразить нервный пес. Я упал в обморок, а когда очнулся и поднял глаза, рядом со мной стояла незнакомая собака. Я не чувствовал голода, был полон сил, чувствовал легкость в суставах, пусть и не делал попыток встать. В том, что я видел, не было ничего необычного: передо мной стояла красивая, но ничем особенно не выдающаяся собака, это я видел ясно, и все-таки мне казалось, что я вижу в ней что-то большее. Подо мной была кровь, в первый момент я решил, будто это еда, но быстро понял, что этой кровью меня вырвало. Я отвлекся от пятна и повернулся к незнакомцу. Он был худощав, с длинными ногами, бурой шерстью в отдельных белых пятнах, глаза у него были красивые, взгляд пристальный, изучающий. «Что ты тут делаешь? — спросил он. — Тебе нужно уйти». — «Я не могу сейчас уйти», — ответил я, не вдаваясь в подробности, да и как бы я смог ему все подробно объяснить; к тому же, он, по всей видимости, торопился. «Пожалуйста, уходи», — сказал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Оставь меня, — сказал я, — иди и не беспокойся обо мне, другие обо мне тоже не беспокоятся». — «Я прошу ради тебя же самого», — сказал он. «Проси по какой хочешь причине, — сказал я. — Я не могу уйти, даже если бы захотел». — «В этом трудности нет, — улыбнулся он. — Ты можешь идти. Именно потому, что ты, кажется, слаб, я прошу тебя уйти без спешки, а если будешь медлить, потом придется бежать». — «Это уж моя забота», — сказал я. «Но и моя», — огорчился он моему упрямству и как будто решился на время оставить меня тут лежать, но, раз уж выпал такой случай, подошел поближе, чтобы приластиться ко мне. В любое другое время я бы не раздумывая подпустил к себе такого красавца, но в тот момент меня охватил необъяснимый ужас. «Прочь!» — воскликнул я, вкладывая все силы в голос, ведь по-другому я сейчас защищаться не мог. «Не буду навязываться, — сказал он, медленно отступая. — Ты странный. Я тебе что, не нравлюсь?» — «Ты мне понравишься, когда уйдешь отсюда и оставишь меня в покое», — сказал я, но не так уверенно, как хотел бы звучать. Мои чувства обострились от голода, мне виделось или слышалось в нем или вокруг него что-то, что пока присутствовало только в зачатке, но нарастало и приближалось, и я знал: во власти этой собаки прогнать тебя, даже если ты пока не можешь вообразить, что вообще способен встать. В ответ на мои грубые слова он только слегка покачал головой, а я смотрел на него с растущим влечением. «Кто ты такой?» — спросил я. «Я охотник», — ответил он. «А почему ты не хочешь оставить меня в покое?» — спросил я. «Ты мне мешаешь, — сказал он, — я не могу охотиться, пока ты тут лежишь». — «Попробуй, — сказал я, — может быть, у тебя все-таки получится». — «Нет, — сказал он, — очень жаль, но тебе придется уйти». — «Ну тогда не охоться сегодня!» — попросил я. «Нет, — сказал он, — я должен охотиться». — «Я должен уйти, ты должен охотиться, — сказал я, — все должен да должен. Ты понимаешь, почему мы все время что-то должны?» — «Нет, — сказал он, — но и понимать тут нечего, это очевидные, совершенно естественные вещи». — «Вовсе нет, — сказал я, — тебе ведь жаль, что ты должен меня прогнать, и все равно ты меня гонишь». — «Так и есть», — сказал он. «Так и есть, — повторил я с досадой, — это не ответ. От чего тебе проще отказаться, от охоты или от того, чтобы меня прогнать?» — «От охоты», — ответил он без колебаний. «Ну вот, — сказал я, — в том-то и противоречие». — «Где же тут противоречие? — сказал он. — Милый песик, неужто ты не понимаешь, что я должен? Неужто ты не понимаешь очевидного?» Я ничего не ответил, потому что заметил — и по моим жилам потекла новая жизнь, такая, какую рождает ужас, — я заметил по неизъяснимым приметам, которых, возможно, никто другой не смог бы различить, что у собаки глубоко изнутри стало подниматься пение. «Ты сейчас запоешь», — сказал я. «Да, — сказал он серьезно, — я буду петь, скоро, но не сейчас». — «Ты уже начинаешь», — сказал я. «Нет, — сказал он, — еще нет, но приготовься». — «Я же слышу, хоть ты это и отрицаешь», — сказал я, дрожа. Он промолчал. И в тот момент я понял, будто вижу нечто такое, чего не встречала в жизни ни одна собака до меня, по крайней мере, в анналах ни о чем подобном не упоминается ни словом, и от стыда и страха я немедленно спрятал лицо в кровавой луже перед собой. Мне казалось, будто я различаю, что собака уже поет, еще сама об этом не зная, более того: будто мелодия плывет по воздуху совершенно без участия певца, следуя только собственным законам и обращаясь поверх головы собаки ко мне, ко мне одному. — Сегодня я, конечно, отрицаю подобные догадки и отношу свои тогдашние чувства на счет перевозбуждения, но даже если я ошибался, в самой этой ошибке кроется довольно великолепия, чтобы превратить это переживание в единственную, пусть даже и воображаемую, действительность, которую мне удалось сохранить для этого мира от времен голодания, и она показывает, по крайней мере, как далеко мы можем зайти, когда оказываемся всецело вне себя. А я был действительно полностью вне себя. В обычных обстоятельствах я бы не смог двинуться с места как тяжелобольной, но противостоять мелодии, которую теперь уже, казалось, переняла собака, я был не в силах. Мелодия становилась все громче: ее разрастание, наверное, не имело границ, и она уже почти разрывала мне слух. Хуже всего, что он, казалось, существовал только из-за меня, этот голос, перед величием которого умолкал лес, — только из-за меня; кто я такой, чтобы осмелиться здесь остаться, распростершись перед ним в луже грязи и крови? Я поднялся, пошатываясь, взглянул на собственные ноги: на таких далеко не уйдешь, подумал я, а сам тем временем уже летел роскошными прыжками долой, подгоняемый мелодией. Друзьям я ничего из этого не рассказал. Сразу после возвращения я бы, по всей вероятности, рассказал им все, но тогда я был слишком слаб, а позже мой опыт показался мне не поддающимся пересказу. У меня вырывались случайные намеки, но они бесследно рассеивались и терялись в разговорах. Телесно я поправился уже через несколько часов, а душевно и по сей день имею дело с последствиями.
Свои разыскания я, однако же, распространил на собачью музыку. Наука и в этой области, разумеется, не стоит на месте, и музыковедение, если не ошибаюсь, едва ли не обширнее, чем наука о пище, и во всяком случае более основательно. Объясняется это тем, что в данной области можно работать более беспристрастно, и тем, что музыковедение занимается главным образом наблюдениями и их систематизацией, а диетология — заключениями прежде всего практического толка. С этим же связано и то, что уважение к музыковедению выше, чем к диетологии, но первая никогда не сможет проникнуть в народ так глубоко, как вторая. Я и сам был чужд музыковедения больше, чем любой другой науки, пока не услышал тот голос в лесу. Давнишняя встреча с музыкантами подсказала мне путь к музыковедению, но тогда я был еще слишком юн. Кроме того, даже приблизиться к этой науке совсем не просто, она считается особенно сложной и с достоинством отгораживается от большинства. И хотя самое сильное первое впечатление производила именно музыка тех собак, важнее музыки мне представлялась их затаенная собачья натура, их ужасающую музыку мне совсем не с чем было сравнить, но и с тем большей легкостью я мог оставить ее без внимания, а их натуру я с тех пор узнавал во всех собаках, попадавшихся на моем пути. Разыскания о получении пищи казались мне средством самым подходящим и напрямик ведущим к цели, чтобы проникнуть в природу собак. Возможно, я был неправ. Однако уже тогда у меня вызывала подозрения область на стыке двух наук — учение о пении, призывающем появление пищи. И снова я очень беспокоюсь, что в музыковедение я углубился недостаточно, что в этом отношении не могу надеяться даже на особенно презренный в научных кругах статус недоучки. Я всегда буду ясно это сознавать. Я не смог бы сдать даже самого легкого экзамена образованному ученому, и у меня, к сожалению, есть тому подтверждения. Причина заключается, кроме уже упомянутых жизненных обстоятельств, конечно, в моей неспособности заниматься наукой, в недостаточной силе мышления, плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно сосредоточиваться на достижении научной цели. Я открыто признаюсь себе в этом, и даже с определенным удовлетворением, ведь глубинной причиной моей научной несостоятельности мне видится инстинкт, причем поистине не худший из инстинктов. Имей я желание похвалиться, я сказал бы, что этот-то инстинкт и разрушил мои научные способности, потому что иначе, если бы я был вовсе не способен занести лапу даже над самой низкой ступенькой на лестнице науки, это был бы случай по меньшей мере странный, ведь в повседневной жизни я проявляю довольно здравого смысла, чтобы решать задачи не самые простые, да к тому же достаточно хорошо понимаю пусть не науку, но самих ученых, и об этом свидетельствуют результаты моих исследований. Именно инстинкт заставлял меня ценить свободу выше всего остального, возможно, ради самой же науки, только не сегодняшней, ради науки последней и окончательной. Свобода! Правда, свобода, возможная сегодня, — весьма чахлый росток. Но все же свобода, все же какое-никакое достижение. —
Такие мысли у меня появляются явно под влиянием моего соседа, он меня смущает, наводит на меня меланхолию, при том что сам он вполне весел, во всяком случае, я слышу, как он у себя горланит, распевает, да так, что мне это в тягость. Хорошо бы оборвать и эту последнюю связь, перестать предаваться смутным фантазиям, которые неизбежно порождает любое общение между собаками, каким толстокожим себя ни воображай, и посвятить остаток жизни исключительно разысканиям. В следующий раз, когда он придет, я спрячусь и притворюсь спящим, и так будет повторяться до тех пор, пока он не перестанет приходить совсем.
И в мои разыскания пробрался беспорядок, я теряю силы, устаю, только по привычке продолжаю трусить вперед, а ведь раньше мчался с азартом. Я вспоминаю прежние времена, когда я только начал исследовать вопрос о том, откуда земля берет нашу пищу. Тогда я жил среди народа, проталкивался в самую гущу толпы, стремился всех превратить в свидетелей моих разысканий, и присутствие свидетелей было для меня даже важнее самой работы; поскольку я надеялся на всеобщее признание, я, разумеется, был очень увлечен, зато теперь, когда я одинок, этот стимул остался в прошлом. В те времена у меня было столько сил, что я творил неслыханные вещи, противоречащие всем нашим принципам, так что все тогдашние свидетели наверняка вспоминают обо мне как о былом кошмаре. В науке, во всех прочих аспектах основанной на стремлении к безграничной специализации, я нашел одно странное упрощение. Наука принимает как данность то, что земля дает нам пищу, и, уже сделав это допущение, указывает способы получить разные виды пищи в наилучшем качестве и наибольшем разнообразии. Земля, разумеется, дает пищу, сомнений тут быть не может, но не все так просто, как это обычно объясняют, отвергая необходимость дальнейших разысканий. Взять хотя бы самые тривиальные случаи, какие повторяются изо дня в день. Если бы мы совсем ничего не делали, а я сейчас почти так и живу, если бы, только поверхностно обработав почву, сразу сворачивались калачиком и ждали, что будет, то если допустить, что пища действительно обнаружится, мы найдем ее лежащей на земле. Но ведь это не общее правило. Кто сохранил хоть немного непредвзятости в отношении научных доводов — а таких собак мало, ведь в науку вовлекаются все более широкие круги, — тот с легкостью заметит, даже если специальные наблюдения не будут его целью, что по большей части пища, попадающая на землю, опускается сверху, мы даже обычно успеваем, в зависимости от ловкости и алчности, поймать ее еще прежде, чем она коснется земли. Замечу, что тем самым я не опровергаю нашу науку, земля, конечно, и в самом деле производит и эту пищу. Возможно, что нет большой разницы между тем, исторгает ли земля пищу изнутри или вызывает ее приход сверху, и когда в науке утверждается, что в обоих случаях необходима обработка почвы, то изучать такие малые различия науке, может быть, и не пристало, ведь говорят же, что «если твой рот полон еды, на сей раз ты решил все вопросы». Мне, однако, кажется, что в неявном виде наука все же занимается этими вопросами хотя бы отчасти, поскольку различает два основных метода получения пищи, а именно: обработку земли как таковую и дополнительную, изощренную работу в форме приговоров, танцев и пения. Я вижу в этом если и не полное, то все-таки довольно однозначное двухчастное деление, и оно соответствует моему собственному разграничению. Обработка земли, по моему мнению, служит добыче обоих видов пищи и необходима всегда, а приговоры, танец и пение направлены не столько на обработку земли в узком смысле, сколько главным образом на привлечение пищи с высоты. Моя точка зрения подтверждается традицией. В этом отношении народ корректирует науку, сам того не ведая, а наука не смеет возражать. Ведь если все эти обряды входят в служение почве, как хотелось бы думать науке, если они должны, скажем, придавать земле сил для добычи пищи с высоты, то и совершаться они должны, по логике вещей, на земле, приговоры нужно нашептывать прямо в землю и к ней же припадать в танцах и прыжках. Насколько я знаю, ничего иного наука и не требует. Но вот в чем странность: народ во всех своих обрядах обращается ввысь. Это не противоречит науке, наука не запрещает агроному свободного обращения с обрядами, научные доктрины касаются только самой земли, и если агроном применяет эти доктрины, то науке этого довольно, но, по моему мнению, научная мысль должна требовать большего. И я, хоть никогда и не был посвящен в сколько-нибудь глубокие тайны науки, не могу себе представить, как ученые могут мириться с тем, что наш народ со всем присущим ему рвением обращается к воздуху, когда возносит ввысь заклинания, выпевает наш древний плач и исполняет танцевальные прыжки так, будто хочет навсегда оторваться от земли. Я начал с того, что подчеркнул эти противоречия: всякий раз, когда наука предсказывала приближение урожая, я направлял все свое внимание к земле, я скреб ее в танце, вытягивал шею книзу так, чтобы как можно ближе припасть к земле. Позже я даже вырыл себе ямку для того, чтобы погружать туда морду, петь и произносить речи так, чтобы никто вокруг меня или надо мной их не слышал, а слышала только земля.
Результаты разысканий были незначительны. Иногда я не получал еды и уже собирался радоваться своему открытию, но потом еда все же появлялась вновь, как если бы моему странному поведению сперва удивились, но потом разглядели в нем и положительную сторону и с радостью отказались от моих восклицаний и прыжков. Зачастую еда оказывалась даже обильнее, чем раньше, но потом она вдруг не появлялась совсем. С усердием, никогда ранее не встречавшимся среди юных собак, я разрабатывал свои опыты в мельчайших деталях, иногда как будто находил след искомого, но потом след терялся в неопределенности. Мне бесспорно мешал, кроме всего прочего, недостаток научной подготовки. Например, как я мог поручиться, что непоявление еды вызвано моим экспериментом? Может быть, причина была в ненаучной обработке почвы? А если так, то все мои умозаключения не обоснованы. В определенных условиях я мог бы поставить почти безукоризненно точный эксперимент: если бы мне удалось получить еду и без обработки земли при помощи обряда, направленного в высоту, а затем — добиться непоявления еды, совершив обряд, обращенный исключительно вниз, к земле. Я попытался проделать нечто подобное, но без достаточной убежденности и в неидеальных условиях для эксперимента, ведь, по моему непоколебимому мнению, в определенной степени обработка земли необходима всегда, и даже если правы еретики, утверждающие обратное, доказать это невозможно, поскольку орошение земли происходит по нужде, совсем избавиться от которой нельзя. Другой, пусть немного нелепый, эксперимент удался мне больше и даже произвел некоторый фурор. Основываясь на обычае ловить пищу в воздухе, я решил дожидаться падения, но не подхватывать ее на лету. Для этого я делал небольшой прыжок всякий раз, когда пища появлялась, но рассчитывал его так, чтобы он оказался слишком низким; тогда пища по большей части тупо и безразлично ударялась об землю, и я набрасывался на нее с яростью, не столько от голода, сколько от разочарования. Однако в отдельных случаях происходило нечто другое, нечто и в самом деле удивительное: пища не падала, а следовала за мной в воздухе, корм преследовал голодного! Это продолжалось недолго, пища проделывала за мной короткий путь, а в конце концов либо падала, либо совсем исчезала, или — самый частый случай — побеждала алчность, эксперимент прерывался, и я все съедал. Так или иначе, я был счастлив, в моем окружении стали перешептываться, беспокоиться, приглядываться ко мне, знакомые начали больше прислушиваться к моим вопросам, в их глазах я замечал какой-то искательный блеск, и даже если это было только отражение моего собственного взгляда, я не просил ничего другого, я был доволен. Потом я, правда, узнал, а со мной узнали и другие, что эксперимент этот уже давно описан в науке, удался другим гораздо лучше, чем мне, и хоть давно больше не проводился, поскольку сдерживать голод затруднительно, но и повторять его не обязательно из-за его якобы ничтожного значения для науки. Он, мол, доказывает только то, что известно и так: земля получает пищу не только напрямую сверху, но и наискосок, и даже по спирали. Тем и кончилось, но я не отчаялся, я был еще слишком молод, чтобы отчаиваться, наоборот, этот опыт подтолкнул меня к, возможно, самому большому достижению моей жизни. Я не верил в то, что мой эксперимент не имеет ценности, как утверждает наука, но уверенности недостаточно, нужны доказательства, и я решил найти доказательство, представить этот изначально несколько нелепый эксперимент в полном свете и перенести его в самый центр моих исследований. Я хотел доказать, что когда я отодвигался от пищи, то не земля притягивала ее наискось и вниз, а я сам манил ее за собой. Правда, я не мог намного продлить время эксперимента, потому что видеть перед собой пищу, но при этом долго заниматься научным наблюдением невыносимо. Но я решил сделать по-другому, я решил, сколько будет сил, полностью отказываться от пищи, избегая при этом даже смотреть на нее, чтобы не поддаваться соблазну. Если я устранюсь, если буду и день и ночь лежать, закрыв глаза, не думая ни о том, чтобы встать, ни о том, чтобы поймать пищу на лету, и если, как я не смел утверждать, но тихо надеялся, несмотря на мой отказ от всех прочих действий, кроме неизбежного и нерационального орошения земли и негромкого произнесения приговоров и песен (от танцев я решил отказаться, чтобы не утомлять себя), пища сама опустится и постучится, минуя землю, прямо мне в зубы, — если это произойдет, то не будет ли этого достаточно, чтобы пусть не опровергнуть науку, ведь в науке достаточно гибкости для особых случаев и исключений, но хотя бы заставить говорить наш народ, к счастью, не настолько терпимый к особым случаям и исключениям? Ведь это не будет исключением в том смысле, в котором о них сообщает история, когда из-за физического недомогания или душевной тоски кто-нибудь отказывается от приготовления, поиска и приема пищи, но объединенными силами собак мира и их заклинаний пища отклоняется от обычной траектории и попадает прямо в пасть больного. Однако я-то был здоров и полон сил, на аппетит ничуть не жаловался, наоборот, весь день только о пище и думал, а голоданию, кто бы что ни думал, подвергал себя добровольно при том, что вполне был способен призывать пищу сам и боролся с желанием это сделать, а в помощи собачьего общества не нуждался, напротив, строго воспрещал себе ей пользоваться.
Я выбрал место в отдаленных кустах, чтобы не слышать ни разговоров о еде, ни чавканья и хруста разгрызаемых косточек, плотно пообедал напоследок и улегся. Я решил по возможности совсем не открывать глаз: сколько времени не будет появляться еда, столько будет продолжаться для меня ночь, неважно, дни или недели. При этом большое затруднение состояло в том, что я намеревался почти вовсе не спать, потому что, хотя и не собирался призывать пищу с высоты, нужно было тем не менее оставаться начеку, чтобы не пропустить ее появление; а с другой стороны, если бы я спал, я мог бы голодать намного дольше, чем бодрствуя. По этим причинам я решил осторожно разделять время так, чтобы спать много в целом, но через короткие промежутки. Этого я добился тем, что всякий раз перед сном клал голову на тонкий сучок, который вскоре обламывался и будил меня. Так я лежал, спал или бодрствовал, мечтал или напевал про себя. Поначалу ничего особенного не происходило, видимо, там, откуда появляется пища, мое сопротивление обычному ходу вещей прошло незамеченным, и все было тихо. Мне немного мешало сосредоточиться беспокойство, что собаки заметят мое отсутствие, станут меня искать и попробуют остановить. Еще, хоть я и знал, что наука считает здешнюю почву неплодородной, но беспокоился, что просто-напросто орошая землю я нечаянно вызову появление так называемой случайной пищи и запах этой пищи меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило, и я продолжал голодать. Не считая беспокойства об этих двух вещах, я был пока спокоен, как никогда прежде. Хоть я и работал вообще-то над отменой законов науки, меня переполняли покой и почти баснословная решительность ученого. В мечтах наука даровала мне прощение, для моих исследований нашлось в ней место, у меня в ушах звучали утешительные слова, будто если мои исследования увенчаются успехом, и как раз в этом случае особенно, я не буду потерян для собачьей жизни, наука ко мне благосклонна, наука займется интерпретацией моих результатов, и уже в самом этом обещании заключалось утешение: раньше я чувствовал себя в глубине души отверженным, шел, словно дикарь, на приступ стен, ограждавших мой народ, а теперь он примет меня с почестями, вожделенное тепло от тел всех собравшихся собак заструится вокруг меня, они поднимут меня на спины, и я поплыву по ним, покачиваясь. Удивительно подействовал первый голод. Мои заслуги представились мне столь великими, что от умиления и жалости к себе я заплакал в тех тихих зарослях, не совсем понятно почему, ведь я ожидал заслуженных наград, так о чем же тогда я плакал? Наверное, ни о чем, а просто от умиротворения. Я всегда плакал только от умиротворения, хоть это случалось и нечасто. Впрочем, все быстро прошло. Прелестные картины постепенно рассеялись, когда голод стал всерьез давать о себе знать, и вскоре, распрощавшись и с фантазиями, и с умилением, я остался в полном одиночестве со жгучим голодом в утробе. «Это голод», — много раз повторял я себе, как если бы хотел заставить себя поверить, что я и голод — два разных существа и что я все еще могу отделаться от него, как от надоедливого поклонника, хотя в действительности мы уже слились в одно страдающее целое, и когда я объяснял себе, что «это голод», то на деле говорил голод и насмехался надо мной. Черные, черные дни! Я содрогаюсь, вспоминая их, правда, не столько из-за мучений, которых я тогда натерпелся, сколько потому, что с ними тогда не было покончено, и такие же мучения ожидают меня в будущем, если я хочу чего-нибудь добиться, ведь голод я и по сей день считаю последним и самым действенным средством для моих разысканий. Этот путь вымощен голодом, высшее знание достижимо только высшей выдержкой, если достижимо вообще, а высшая выдержка для нас — добровольное голодание. Поэтому когда я раздумываю о тогдашних временах — а я смертельно люблю бередить память о них, — я со страхом думаю и о временах предстоящих. Кажется, что должна пройти почти целая жизнь, чтобы восстановились силы после такого опыта; от тогдашнего голодания меня отделяют долгие годы зрелости, но силы ко мне пока не полностью вернулись. Если я снова начну голодать, то решимости у меня будет, возможно, больше, чем в прошлый раз, поскольку теперь у меня больше опыта и осознания необходимости эксперимента, но сил у меня меньше, их — еще с тех пор — поубавилось; боюсь, я выдохнусь в одном ожидании знакомых мучений. Теперешний плохой аппетит мне не поможет, он только немного снизит значимость эксперимента, к тому же он, по всей вероятности, заставит меня голодать дольше, чем это было необходимо в прошлый раз. Думаю, мне ясны и эти, и прочие обстоятельства, поскольку предварительных опытов я за это долгое время провел немало, часто я словно бы надкусывал голодание, но решиться на высшую задачу мне не хватало сил, а юношески непосредственное желание ринуться в бой, разумеется, давно исчезло. Оно исчезло еще тогда, во время того голодания. Меня терзали разные размышления. Наши праотцы представали передо мной в угрожающем свете. Я не решаюсь высказать свое мнение открыто, но считаю, что они виновны во всем, они одни в ответе за нашу собачью жизнь, так что я мог бы ответить на их угрозы угрозами, но я склоняюсь перед их знанием, его истоки нам теперешним неизвестны, поэтому, как бы меня ни тянуло их побороть, я никогда прямо их законы не нарушу, но через лазейки в их законах, на которые у меня острое чутье, я могу упорхнуть. В отношении голодания хочу сослаться на знаменитый диалог, в ходе которого один из наших мудрецов высказал намерение запретить собакам голодать, но другой отсоветовал, задав вопрос: «Неужели же кто-нибудь захочет голодать?», так что первый мудрец согласился с этим доводом и не наложил запрета. Но вопрос, не запрещено ли голодать в принципе, все равно остается. Большинство комментаторов дают отрицательный ответ, считают голодание разрешенным, склоняются к мнению второго мудреца и потому не беспокоятся о возможных дурных последствиях ошибочного толкования. В этом я всецело убедился, прежде чем начать голодать. Но теперь, когда я корчился от голода и в уже несколько помутившемся состоянии ума непрестанно искал спасения у собственных задних лап, отчаянно вылизывая их, пережевывая, высасывая шерсть по самый задний проход, общее толкование диалога мудрецов стало казаться мне целиком и полностью ошибочным, я проклинал комментаторов с их наукой, я проклинал и себя за то, что дал им ввести себя в заблуждение, ведь даже ребенку понятно, что диалог содержит больше, чем только запрет первого мудреца на голодание, — запрет мудреца всегда имеет силу, так что голодание действительно запрещено, — но сверх того и второй мудрец не только соглашается с первым, но даже считает голодание невозможным, то есть налагает поверх первого запрета второй, запрет собачьей природы как таковой, а первый признает его правоту и отменяет прямой запрет, завещая собакам отнестись к изложенному с рассудительностью и самим запретить себе голодать. Таким образом, речь шла о тройном запрете вместо привычного одного, и его-то я нарушил. Что ж, я мог хотя бы с опозданием повиноваться и перестать голодать, но сквозь страдание пробивался соблазн голодать дальше, и я сладострастно последовал за соблазном, будто за незнакомой собакой. Я не мог остановиться, возможно, и потому, что уже слишком ослаб, чтобы встать и идти искать спасения в обжитых местах. Я катался туда-сюда по лесному настилу, спать я больше не мог, мне повсюду слышался шум, мир, дремавший во время всей моей прежней жизни, вдруг словно пробудился из-за моего голода, мне привиделось, что я уже никогда больше не смогу ничего съесть, потому что тогда ведь мне пришлось бы заставить снова умолкнуть шумный мир, вырвавшийся на свободу, а это мне не по силам, но самый громкий шум раздавался в моем животе, я часто прикладывал к животу ухо, и мои глаза наверняка выражали ужас, я не мог поверить, чтó я слышу. Когда стало совсем плохо, все мое существо стало затягивать в воронку, хоть оно и делало жалкие попытки сопротивляться; я начал чувствовать запах кушаний, изысканных кушаний, которых я не ел с далеких и счастливых детских времен; я даже стал словно бы вдыхать аромат материнской груди; я забыл о решении сопротивляться запахам, точнее, нет, я его не забыл, я ходил из стороны в сторону, два шага туда, два шага сюда, и волочил за собой решение, которое как будто тоже относилось к решению голодать и состояло в том, чтобы вынюхивать еду лишь затем, чтобы от нее уберечься. То, что я ее не находил, меня не расстраивало, еда была рядом, просто всякий раз на несколько шагов дальше, чем я мог пройти, у меня подкашивались ноги. Вместе с тем я сознавал, что вокруг нет совсем ничего, что я совершаю свои мелкие передвижения исключительно от страха свалиться с ног и уже больше не встать с места, которое станет для меня последним. Исчезла последняя надежда, последний соблазн, здесь я погибну в ничтожестве, чего стоят мои детские опыты из счастливых детских времен, здесь и теперь решается по-настоящему, есть ли ценность в моих исследованиях, но где теперь эти исследования? Вместо них — только беспомощная собака, ловящая пустоту и то и дело торопливо, судорожно орошающая землю, но не способная выловить из всего вороха в памяти ни одного заклинания, ни одного стишка хотя бы из тех, с которыми младенцы забиваются под тело матери. Мне казалось, будто меня отделяет от собратьев не расстояние короткой перебежки, а бесконечность, будто я умираю здесь не от голода, а потому что всеми покинут. Ведь было очевидно, что никто обо мне не беспокоится, никто ни под землей, ни на ней или выше, от их безразличия я погибаю, их безразличие означает: он умирает, и так тому и быть. И разве я не соглашался? Разве не говорил ровно то же самое? Не этого ли забвения желал сам? Да, братья собаки, но не ради такого ничтожного конца, а чтобы докопаться до высшей истины, чтобы выбраться из этого мира лжи, в котором нет никого, от кого можно узнать правду, даже от себя самого, уроженца лжи. Может быть, истина скрывалась неподалеку, и тогда моя покинутость не была настолько полной, насколько я воображал, и другие меня не покинули, а покинул себя только я сам, потерпевший поражение и умирающий.
Но смерть приходит не так быстро, как может вообразить нервный пес. Я упал в обморок, а когда очнулся и поднял глаза, рядом со мной стояла незнакомая собака. Я не чувствовал голода, был полон сил, чувствовал легкость в суставах, пусть и не делал попыток встать. В том, что я видел, не было ничего необычного: передо мной стояла красивая, но ничем особенно не выдающаяся собака, это я видел ясно, и все-таки мне казалось, что я вижу в ней что-то большее. Подо мной была кровь, в первый момент я решил, будто это еда, но быстро понял, что этой кровью меня вырвало. Я отвлекся от пятна и повернулся к незнакомцу. Он был худощав, с длинными ногами, бурой шерстью в отдельных белых пятнах, глаза у него были красивые, взгляд пристальный, изучающий. «Что ты тут делаешь? — спросил он. — Тебе нужно уйти». — «Я не могу сейчас уйти», — ответил я, не вдаваясь в подробности, да и как бы я смог ему все подробно объяснить; к тому же, он, по всей видимости, торопился. «Пожалуйста, уходи», — сказал он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. «Оставь меня, — сказал я, — иди и не беспокойся обо мне, другие обо мне тоже не беспокоятся». — «Я прошу ради тебя же самого», — сказал он. «Проси по какой хочешь причине, — сказал я. — Я не могу уйти, даже если бы захотел». — «В этом трудности нет, — улыбнулся он. — Ты можешь идти. Именно потому, что ты, кажется, слаб, я прошу тебя уйти без спешки, а если будешь медлить, потом придется бежать». — «Это уж моя забота», — сказал я. «Но и моя», — огорчился он моему упрямству и как будто решился на время оставить меня тут лежать, но, раз уж выпал такой случай, подошел поближе, чтобы приластиться ко мне. В любое другое время я бы не раздумывая подпустил к себе такого красавца, но в тот момент меня охватил необъяснимый ужас. «Прочь!» — воскликнул я, вкладывая все силы в голос, ведь по-другому я сейчас защищаться не мог. «Не буду навязываться, — сказал он, медленно отступая. — Ты странный. Я тебе что, не нравлюсь?» — «Ты мне понравишься, когда уйдешь отсюда и оставишь меня в покое», — сказал я, но не так уверенно, как хотел бы звучать. Мои чувства обострились от голода, мне виделось или слышалось в нем или вокруг него что-то, что пока присутствовало только в зачатке, но нарастало и приближалось, и я знал: во власти этой собаки прогнать тебя, даже если ты пока не можешь вообразить, что вообще способен встать. В ответ на мои грубые слова он только слегка покачал головой, а я смотрел на него с растущим влечением. «Кто ты такой?» — спросил я. «Я охотник», — ответил он. «А почему ты не хочешь оставить меня в покое?» — спросил я. «Ты мне мешаешь, — сказал он, — я не могу охотиться, пока ты тут лежишь». — «Попробуй, — сказал я, — может быть, у тебя все-таки получится». — «Нет, — сказал он, — очень жаль, но тебе придется уйти». — «Ну тогда не охоться сегодня!» — попросил я. «Нет, — сказал он, — я должен охотиться». — «Я должен уйти, ты должен охотиться, — сказал я, — все должен да должен. Ты понимаешь, почему мы все время что-то должны?» — «Нет, — сказал он, — но и понимать тут нечего, это очевидные, совершенно естественные вещи». — «Вовсе нет, — сказал я, — тебе ведь жаль, что ты должен меня прогнать, и все равно ты меня гонишь». — «Так и есть», — сказал он. «Так и есть, — повторил я с досадой, — это не ответ. От чего тебе проще отказаться, от охоты или от того, чтобы меня прогнать?» — «От охоты», — ответил он без колебаний. «Ну вот, — сказал я, — в том-то и противоречие». — «Где же тут противоречие? — сказал он. — Милый песик, неужто ты не понимаешь, что я должен? Неужто ты не понимаешь очевидного?» Я ничего не ответил, потому что заметил — и по моим жилам потекла новая жизнь, такая, какую рождает ужас, — я заметил по неизъяснимым приметам, которых, возможно, никто другой не смог бы различить, что у собаки глубоко изнутри стало подниматься пение. «Ты сейчас запоешь», — сказал я. «Да, — сказал он серьезно, — я буду петь, скоро, но не сейчас». — «Ты уже начинаешь», — сказал я. «Нет, — сказал он, — еще нет, но приготовься». — «Я же слышу, хоть ты это и отрицаешь», — сказал я, дрожа. Он промолчал. И в тот момент я понял, будто вижу нечто такое, чего не встречала в жизни ни одна собака до меня, по крайней мере, в анналах ни о чем подобном не упоминается ни словом, и от стыда и страха я немедленно спрятал лицо в кровавой луже перед собой. Мне казалось, будто я различаю, что собака уже поет, еще сама об этом не зная, более того: будто мелодия плывет по воздуху совершенно без участия певца, следуя только собственным законам и обращаясь поверх головы собаки ко мне, ко мне одному. — Сегодня я, конечно, отрицаю подобные догадки и отношу свои тогдашние чувства на счет перевозбуждения, но даже если я ошибался, в самой этой ошибке кроется довольно великолепия, чтобы превратить это переживание в единственную, пусть даже и воображаемую, действительность, которую мне удалось сохранить для этого мира от времен голодания, и она показывает, по крайней мере, как далеко мы можем зайти, когда оказываемся всецело вне себя. А я был действительно полностью вне себя. В обычных обстоятельствах я бы не смог двинуться с места как тяжелобольной, но противостоять мелодии, которую теперь уже, казалось, переняла собака, я был не в силах. Мелодия становилась все громче: ее разрастание, наверное, не имело границ, и она уже почти разрывала мне слух. Хуже всего, что он, казалось, существовал только из-за меня, этот голос, перед величием которого умолкал лес, — только из-за меня; кто я такой, чтобы осмелиться здесь остаться, распростершись перед ним в луже грязи и крови? Я поднялся, пошатываясь, взглянул на собственные ноги: на таких далеко не уйдешь, подумал я, а сам тем временем уже летел роскошными прыжками долой, подгоняемый мелодией. Друзьям я ничего из этого не рассказал. Сразу после возвращения я бы, по всей вероятности, рассказал им все, но тогда я был слишком слаб, а позже мой опыт показался мне не поддающимся пересказу. У меня вырывались случайные намеки, но они бесследно рассеивались и терялись в разговорах. Телесно я поправился уже через несколько часов, а душевно и по сей день имею дело с последствиями.
Свои разыскания я, однако же, распространил на собачью музыку. Наука и в этой области, разумеется, не стоит на месте, и музыковедение, если не ошибаюсь, едва ли не обширнее, чем наука о пище, и во всяком случае более основательно. Объясняется это тем, что в данной области можно работать более беспристрастно, и тем, что музыковедение занимается главным образом наблюдениями и их систематизацией, а диетология — заключениями прежде всего практического толка. С этим же связано и то, что уважение к музыковедению выше, чем к диетологии, но первая никогда не сможет проникнуть в народ так глубоко, как вторая. Я и сам был чужд музыковедения больше, чем любой другой науки, пока не услышал тот голос в лесу. Давнишняя встреча с музыкантами подсказала мне путь к музыковедению, но тогда я был еще слишком юн. Кроме того, даже приблизиться к этой науке совсем не просто, она считается особенно сложной и с достоинством отгораживается от большинства. И хотя самое сильное первое впечатление производила именно музыка тех собак, важнее музыки мне представлялась их затаенная собачья натура, их ужасающую музыку мне совсем не с чем было сравнить, но и с тем большей легкостью я мог оставить ее без внимания, а их натуру я с тех пор узнавал во всех собаках, попадавшихся на моем пути. Разыскания о получении пищи казались мне средством самым подходящим и напрямик ведущим к цели, чтобы проникнуть в природу собак. Возможно, я был неправ. Однако уже тогда у меня вызывала подозрения область на стыке двух наук — учение о пении, призывающем появление пищи. И снова я очень беспокоюсь, что в музыковедение я углубился недостаточно, что в этом отношении не могу надеяться даже на особенно презренный в научных кругах статус недоучки. Я всегда буду ясно это сознавать. Я не смог бы сдать даже самого легкого экзамена образованному ученому, и у меня, к сожалению, есть тому подтверждения. Причина заключается, кроме уже упомянутых жизненных обстоятельств, конечно, в моей неспособности заниматься наукой, в недостаточной силе мышления, плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно сосредоточиваться на достижении научной цели. Я открыто признаюсь себе в этом, и даже с определенным удовлетворением, ведь глубинной причиной моей научной несостоятельности мне видится инстинкт, причем поистине не худший из инстинктов. Имей я желание похвалиться, я сказал бы, что этот-то инстинкт и разрушил мои научные способности, потому что иначе, если бы я был вовсе не способен занести лапу даже над самой низкой ступенькой на лестнице науки, это был бы случай по меньшей мере странный, ведь в повседневной жизни я проявляю довольно здравого смысла, чтобы решать задачи не самые простые, да к тому же достаточно хорошо понимаю пусть не науку, но самих ученых, и об этом свидетельствуют результаты моих исследований. Именно инстинкт заставлял меня ценить свободу выше всего остального, возможно, ради самой же науки, только не сегодняшней, ради науки последней и окончательной. Свобода! Правда, свобода, возможная сегодня, — весьма чахлый росток. Но все же свобода, все же какое-никакое достижение. —
вас может заинтересовать

