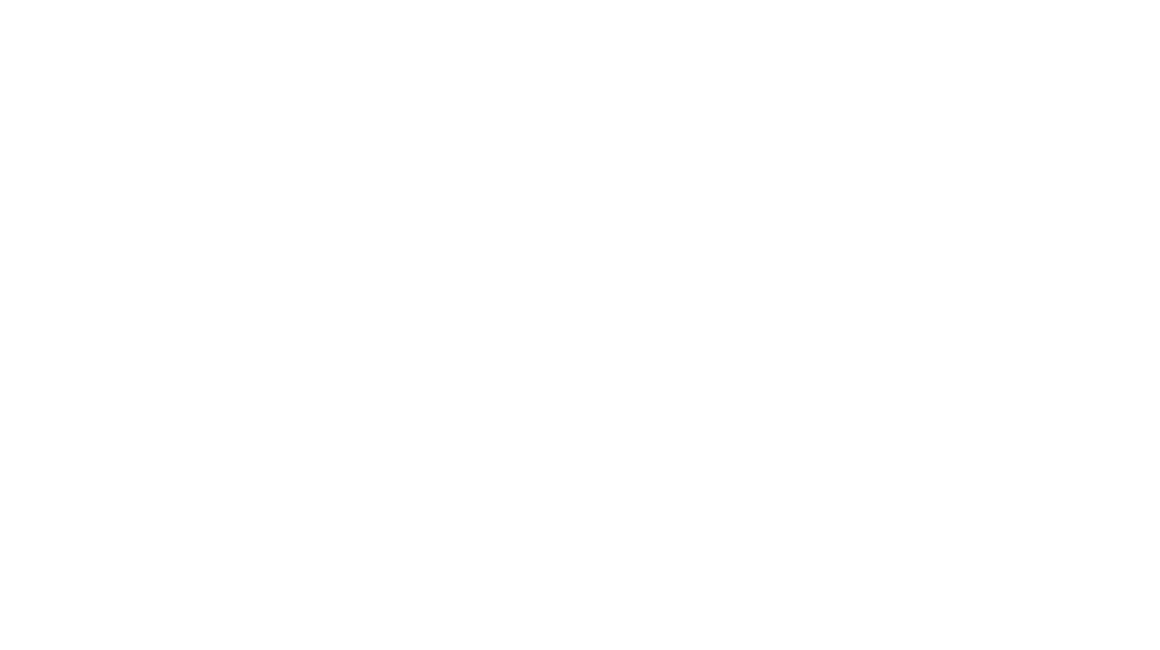
Юрий Лейдерман
Маньяско
Фрагмент
Такая живопись идет из Венеции. Потому что у них есть родина, и больше им ни до чего нет дела. Или от Эль Греко, чья родина оставлена и потеряна, но это его не волнует, потому что он пишет рот, и мускулы, и все прочее полным шорохом ангельских крыл.
А вот у Маньяско родина неподалеку, но не с ним. Он в Милане. Его Генуя становится упором вселенским. Восторги и злодеяния мира наталкиваются на него и рассыпаются ручейными искрами. Цыгане, евреи, бродяги, солдаты и инквизиторы. В одном заеме брызг.
Мускулы, напрягшиеся вспять. От уда до мизинца или затылка. Или дерева, или моря. Родина — это кора, которая в полете.
Пейзаж, расхристанный в попытке спасения. Этак нервически рвя на себе ворот.
Или стреляя в упор, чтобы упор упал. Юнгер — я помню, Франк рассказывал, — на исходе девятого десятка имел обыкновение пулять на прогулке из ружья все в один и тот же камень на утесе. День за днем. В конце концов камень упал. «Я сделал это!» — с гордостью записал Юнгер в дневнике. «Я сделал ее!» — с горечью думал Берроуз.
Кол и дхарма. Но если индийская миниатюра распускается цветами, то живопись Маньяско — мышцами-проблесками. Извилистые пути истории становятся брюшиной картины.
Когда Олимп стал небом, потом небо стало сараем (= застенком = синагогой = постоялым двором — это безразлично для сарая с колоннами, особенно когда в него попадает фугас). Летим ошметками, оставаясь на месте. Это называется пейзаж.
И все-таки мне мерещится сбоку какая-то дочерняя команда, группа, которую он щедро пропихивает к морю.
Зайти в синагогу, зайти в церковь или в сборище квакеров даже зайти, там увидеться с по-южному косноязычным лидером. Квакерша на бочке, лысина Хрущева, ее отблески в Манеже. Тысячи лет бессонницы мира. Естественно, что порой и на кочерге, похохатывая.
Или крылья артиллериста. Или дробь монетки — подкручиваешь ее и бросаешь об стол. Следишь за ней, отвлекаешься.
Я хотел бы оправдать всех и каждого. К сожалению, это слишком простая задача — зависит от направления, в котором движется кисть. Но все равно я застываю, изумленный, перед самóй поблескивающей картиной мироздания, где каждый ищет себе оправдание и находит его с такой божественной легкостью. В любой церкви, каморке, сортире, кордегардии, Генуе.
Там, где сансара равна нирване.
Там, где китобои поджаривают глаз кита. Киева, Квикега, Квакера.
Или вот, скажем, Колтрейн — не хотел он, чтобы россияне смотрели его записи на YouTube. Теперь я не знаю, что мне делать — смотреть или не смотреть.
А между тем турецкий цвет неба. Море, все время выходящее из берегов.
Новая украинская власть, она защищает указания Колтрейна и следит, чтобы россияне его не слушали, и раздувает щеки, топорщит усы… «Бродяги! Бродяги!» — кричат россияне в бессильной злобе.
В общем, как пелось в нашем фильме:
«Ну а если дулинг, что же делать нам
с этим постоянным дулинг,
коим мир размахивает пред нашими очами.
Мы разбежаться хотим,
а нам с этакой усмешкой гнусной:
— Бороните, бороните!
Что ж ты, сука, мать свою забыл?!»
Формула проваливается в рассвет, как в свою собственную тьму (ср. с Филоновым).
Ариаднино исследование связей между злодеяниями и потехами. Следует ли нам просто называть и то и другое «напасть»?
Мой первый Маньяско — черемушкинский. Мне было около семи лет, мы возвращались с родителями вечером домой. Мать тихонько рассказывала отцу про несчастье наших соседей по лестничной клетке — они ждали ребенка, но он родился мертвым. Странным образом я понял, о чем идет речь. Мне врезалась в память мамина фраза: «…а он вылез уже весь черный». На следующее утро мы уехали в отпуск — в кои-то веки родители решили провести его не на одесских пляжах. Как потом мы узнали, в тот же день в Одессе был объявлен карантин — началась эпидемия холеры (днем позже мы бы уже никуда не смогли уехать). И в моих детских размышлениях мне казалось, что этот мертворожденный ребенок был как раз предвестием холеры, источником скверны или ее первой жертвой. Что-то такое мне почудилось впервые — когда твой родной город может обернуться «напастью». Эта темная стиснутость мира, его асфиксия.
Итак, «он вылез весь черный», и люди тонут в кораблекрушениях, кишки святого Эразма накручивают на барабан, пытают узников, раввины и квакеры вещают нечто надсадное, кто-то слушает их уже голый, и все это в проблесках лазоревых, брызгах, струнах моря. Бордюры Черемушек. Поребрики. Брюшина мира рассыпающаяся фонариками, маячками. Брюшина мира не обманет. Хотя нет, она может обмануть еще как. В мире нет ничего такого, что не могло бы обмануть.
Крошащийся жест Дон Кихота (Великого Инквизитора — с изнанки лайковой). В конце концов, и тот и другой — просто идальго гордые, обедневшие.
Ласарильо с берегов Тормеса, Панчо Вилья, Гертруда Стайн — в одном плутовском романе, пионерском отряде, на одной террасе Альбаро, за которой расстилаются ремнями перехваченные поля.
Слегка олигофренная невеста, как будто с усиками, в венчике из роз,
дымящиеся отнорки волн,
движки, выкрутасы,
Его ребра,
Его сады.
Можно вспомнить Тышлера, можно вспомнить Махно, можно вспомнить даже «Свадьбу в Малиновке».
Впрочем, сам Маньяско не шел на поводу ни у какой власти и ему не надо было расставлять «правильные» акценты, его покровитель, принц Фердинандо, прекрасно понимал живопись, он был незаурядным музыкантом, мастером полифонии и настоящим либертином.
В черном мелькнули красные искры. Головешки-цыгане-солдаты. Pittura pittoresco, pittura di tocco — та самая «живопись-живопись», которую так презирал о. Павел Флоренский, называл ее «фосфоресцирующими гнилушками». Отвергал собственное свечение мира и, уж тем более, его дробность. Конечно, все хотят быть неистовыми — как капитан Ахав, и одновременно светлыми — как Рублев, национальными, в кучеряшках — как Лель или парубок. Но тогда не стоит бояться зазоров, углов, камнепада.
Царь Емельян, царь Космос, всегда в плясе. Только лицо у него мучнистое и глаза-изюминки. А также колпак.
Эйзенштейн увидел картины Маньяско в Одессе, когда снимал «Броненосец "Потемкин"», и воссоздал позже их перекрученные ракурсы в пластике своего «Ивана Грозного».
То ли поросенок, то ли волосы на груди — так, сучка, и будешь помнить меня. Ты, в малиновом веночке перед расстилающейся лагерной полумглой. А кавалер твой, в треуголке, стал комендантом лагеря. Дружка тренькает на мандолине. Давай, погладь готовую к распаду, разносу ткань Советского Союза («а он вылез весь черный» — еще в 1970-м).
Кроме того, нерушимо и дробно, как волна: Генуя — это Одесса, а Милан — имперский город на М., где я тоже прожил немало лет. Правда, Маньяско жил еще во Флоренции, именно там выховал он свой стиль. Я не знаю, что сказать. Не город же на Неве сюда тянуть. Я давно уже не играюсь в медгерменевтические игры.
Чтобы любить такую живопись, надо быть слегка близоруким (политически тоже), надо наталкиваться. Ушибленность, принуждение, сапоги с отворотами. И так ведь во всем мире, вплоть до Латинской Америки — ушибленность, принуждение, рододендрон.
Я смотрю на его «Свадебный банкет» (другие источники называют его «Цыганским застольем») — это какое-то нехотение Истории, пренебрежение, при этом полное огня, на бивуаке, под навесом, на фоне палаток-шалашей, будто сражение так и не сбылось, осталось в иной, краем грезящейся, параллельной Вселенной. Край Венеры-сопля, Сатурна-плаща…
Несостоявшееся пересечение прогрессивных муралов и свадьбы в Малиновке.
— Сколько сейчас времени? — спрашиваю. — Ну хорошо, пройдет 49 лет аренды, забудется «Норд-Ост», Россия завоюет Эстонию и вас всех. Или вы завоюете Россию. Что-то в таком роде…
Так и Маньяско — то ли показ на новогодние праздники, то ли разговор с сорокой.
А что если «Обучение сороки» — это взрывной путь, ягодицы сапера? За нитью нить, колесо — каждый момент может пропихнуть дальше. Глядишь на стену, и куришь, и надо умирать, и песни = стена = песни.
Подаренность, восхищение, гнев праведный.
— Гака! Гака! Я тебя люблю! — крик над морем. Или это крик «Гога!»? Скажем, неудачливый Гога Кизевальтер, который пишет картину в стиле Кабакова, но при этом приходит к морю бурлящему. (Впрочем, есть у Гоги и прекрасная работа, тоже в стиле Кабакова, «У Пети флюс — der Fluss» называется.)
Я знаю, я должен выбрать, показать самые лучшие, значащие куски — суды инквизиции, детские садики — но это трудно выразить словами. Настоящее, всегда возвращающееся лишь как шляпы, сапоги, капюшоны. Все натыкается на упор родины, сминается складками. Штанцы, обезьянки.
Эта беззаботная и пугающая живописность. Существа в пять-шесть мазков кистью. А мы тем временем так и не можем проникнуться, какая история происходит с ними. Даже если нечто подобное уже происходит с нами.
Хорошо быть волной, она накатывается, совершенно не ощущая боли от того, что она волна. Всем остальным — болеть до последней антоновки.
(Но не волнуйтесь! Так или иначе, каждый текст и каждая живопись — это разбор каракулей почвы и дождя.)
В любом случае, надо писать быстро, как Эль Греко, Рембрандт, Маньяско. Все отмечали поразительную скорость его письма. И это совсем не для того, чтобы приноровиться к требованиям рынка, — по теории Светланы Альперс. Писать быстро не для того, чтобы куда-то успеть, но для того, чтобы ничто не настигло тебя. Как то — солнце, харизма, правда, метод, смерть. Писать быстро, чтобы остаться в неоправданности взрывов и пятен, жмуриков, мирошек, просветов листвы, качающихся веток.
Хотя вот Сезанн писал своих яблочных арлекинов очень медленно. Однако как художники они бы чудесно поладили. Эти чересполосицы, пятнистые уравнения жизни. Или рубцовые — рубцы будущих ран.
«Только не сжата полоска одна…» Засунь ее себе сам знаешь куда!
Невеста, конечно, надулась. Все время мерещится, что она усатая. Так и пытки развеваются усато, переходят в цыганские свадьбы. Ренато Усатый, Ринальдо Ринальдини, Ласарильо с берегов Днестра… Распространено мнение, будто Маньяско писал «пикаро» — нищих плутов, обманщиков и т.д., персонажей «плутовских романов». А что, конкистадоры не были «пикаро»?! И в этот момент свободные мазки al tocco падают на бороду Энгельса. Копошатся там.
Ужин будет? Будет. Сейчас придет мужчина с револьвером. И на ночь будет лезть в постель ко всем, кого встретил в клубе. «Озаренная волосня» — это тема другого художника, близкого Маньяско. Это Миро. Опять и опять все те, кого мы любим.
Если дать мне волю-поддержку, я бы, может, записывал все мысли последовательно, листок за листком, складывал бы их в папку, пока она не стала бы на просвет чернее черного, потом относил бы ее в какое-нибудь издательство на просмотр. Но у меня нет такой возможности, поэтому рву на ходу подметки, пробиваю звездочками, компостирую мозги. Бью копытцем — как лунная вошь, возомнившая себя быком.
Господи, какая разница — мы подносим ко рту склянку правой или левой рукой?! Мы гуляем на срок вечности, срок звезды, по газетной бумаге размазанной. Знаешь это — и пошли!
Странные возгласы, загрузки, которыми я здесь делюсь. Считайте, что так разговаривают персонажи на картинах М-ко. Витиеватые приветствия, цыганский жаргон, и обязательно сплевывать.
Я как-то сравнил свой стиль с Улитиным. Но это было сказано скорее наобум. Меня не били в застенках КГБ, я родился в столице штетла на улице Пушкинской и верил в запах акаций. Холст, холстинка — всегда найдется, чем прибить, приклеить ее к стене. Эта страна, та страна, вертится… Такой вот «икс», лишенный «игрека», а оси «зет» божественной вообще никогда не было и не будет. Уля-улю! — мы в своих хатках, млинах, ставках, дерибасовских, лыщаковских… На каждой скамейке и в каждом узилище песни про наше происхождение, нашу раскраску, нашу стиснутость, которая в полете.
Так и Маньяско, он — «икс», взвихренно, барочно подкатывающийся к «игреку» (истории) — на одну толщину корабельной, скрыпковой струны (но не совпадающий!) — отсюда и напряжение: подходящий и не совпадающий! Эта близь недостигаемая, эта по**й достигнуть струна истории, — генуэзка, венецианка, миланка, флорентийка — ошалевшая, бьющаяся (в рамках европейских живописных конвенций) в своих чепчиковых обертонах, как ацтеки, африка, зюдзее. Может быть, никто из европейских художников не смог, склонившись так низко, возвыситься так высоко, как М. Он ведь просто специализировался вписывать фигурки в пейзаж, но взгляните на них — тихие, изогнутые, искореженные танки!
«Не было в мире столько любви, и столько рук до тебя! Пусть несчастное солнце сгорает дотла, по дороге идут караваны…» По дороге идут танки! О моя генуэзка!
Все это уменьшительное, танковое, артиллерийское, не прилагаемое ни к чему, самое странное, страшное, умалительное, решительное — это живопись. Это «бедные люди». А тут еще «он вылез весь черный». Доски страны, судьбы. Вой об утерянных канцеляриях (там остались полюдные, поземельные записи, которые мы никогда не прочтем). Тростник, тростничок, вечный, колышущийся. А протяни руку — обрежешься о кромку листа. По бытию, по кочану, по скоту в загонах.
Мы в плащах японских лаковых или босиком, в постыдном неглиже? Не знаю. А тут еще «украинское необарокко», длинное, жопастое и неприкасаемое, как РЖД. Страшно подумать — на Украине находится пять или шесть картин М.: четыре в Одессе, одна в Киеве, и еще одна, сомнительно атрибутированная, кажется, во Львове. И все в руках этих смеховиков-затейников, всех этих ройтбурдов, соловьевых, акинш. В их чмошной постмодернистской власти выдавать свою маленькую похоть за дерево, рощу.
Мы опустились до площадной брани. Зато не будем докучать вам разговорами о связях Маньяско с:
а) театром и плутовским романом;
б) обнищанием Италии;
в) национально-освободительными движениями в их гривуазном варианте от Сальваторе Розы;
г) психоделикой и т.п.
В любом случае живопись — это про то, чтобы дать волю не-происходящему.
Если представить, что вся жизнь моя — лишь блики, световые гримасы, жилы, мерцающие вокруг того, кто «вылез весь черный». Давайте все-таки заварим. Письку? Ее тоже. Может ли распределение заместить бурю? Или дружбу? Очень тонкие, змеиные вопросы. Или птичьи, птенчиковые, в одну кость толщиной.
«А он вылез весь черный» — вроде фимиама, чада СССР, сопровождающего меня всю жизнь. Я жил тогда в лазоревой Одессе, и не знал… В очередной раз пытаюсь все подсобрать. Когда уже нет даже Киева. Бляхи, балахоны. Каждую ночь и каждый вечер, когда приходят сумерки, так и не можешь определить — сгинела или не сгинела.
Топот, топот, мягкие слоновьи подошвы ставятся в пол. Мягкие, удушающие. В раджпутских подземельях, сокровищницах — лягушонок Маугли вылез весь черный. Но у него такое гладкое, греческое лицо.
Надо писать так, чтобы за воротами. А то ведь все равно получается «давай пожмем друг другу руки». Не говоря уже о заводской пропасти между Рембо и Рымбу. И как бы ни бушевало море, начинаем подсчитывать, какого оно разлива и какого вала. Потом будем смотреть еще, зачем ты понадобилась.
«Погрузка каторжников на галеры», но заметьте! — все тянут цепи, канаты в разные стороны. Даже пытки инквизиции — все в разные стороны. Главный ужас истории не в том, что она ужасна, а в том, что она вообще есть. Цветочные цепи Ямы. Тем более если на заднем плане городская ратуша или башня. Можно молиться на нее, можно с демонстрациями подходить, пинать ногами. Или требовать больше свидомости. Все равно вокруг поля стрекочущих кузнечиков. А также — волчья ягода, дурман, белладонна.
«Нападение разбойников», «Прибытие каторжников» — руки-ноги по-разному поставлены, но ты не волнуйся, все там будем, всегда будут ступни как корни, как чумовые копыта, будут руки как ветки-плети. Точные значения цифр подсчитывались много раз, однако это ничего не меняет. Все останется дружбой или воем, а пленэр — недоступен.
Я хотел бы пройти до подземных лучащихся фигурок. К сожалению, они меня не пугают. Страшно лишь то, что в своих совокупности и многообразии они действуют на всех примерно так же, как на меня, одинаково.
«Среди тюремных стен, казематов или перед фасадами разрушившихся храмов — всюду пылкие удары кисти, акцентировано выпяченная мускулатура, остроконечные шляпы, складки одежд. Нервная энергия его фигур, которые дрожат, вибрируют, но при этом всегда мрачны, сдержаны и неулыбчивы. С запавшими глазами, острыми носами, заросшими подбородками они кажутся окаменевшими, подобно головам римских фонтанов, однако, в отличие от классических гротескных орнаментов, это игроки, которым не хватает игривости» (М. Риккарди-Кубитт).
Когда у нас нет родины, мы пребываем в меланхолическом бездействии. Когда родина появляется, мы тоже рискуем оказаться в бездействии, но иного рода — неподвижно-суетливом, патетическом и неулыбчивом.
О-хо-хо! Что я вижу! Вакх пытается водрузить на себя корону — а она, сука, тяжелая, вроде самовара. Сзади — так вообще уже не люди, но клубеньки какие-то. Что же, до утра мы, конечно, протянем с этим шествием. И не знаю, стоит ли думать о «потом».
Песни папы, песни дедушки, песни девушки, песни доченьки, песни южных славян. Непонятно только, зачем еще ведем подсчет голосов, лайков, квадратных метров выставочных пространств. Все эти шубы.
Напружинившись, выставив бедра, колени. Тростник идет сквозь лес, выставив колени. Режет бутылочку и делает вид, что это правда-матка. Веселье как подсадная утка, с которой Господь охотится на нас.
Следствие ведут грибки, кочанчики. У них свадебный банкет. Они под тентом. Упираемся носом в волну. Локтями. И бежит по рядам хохолками.
Как узнать ярость мира и при этом остаться в ней, чтобы не со стороны?! Опьянение здесь не подходит — ты уже валишься с ног. Сновидение здесь не подходит — тебя же там нет. Сюрреалистические практики здесь не подходят — это завод невсамделишный, дубильня, кожевня. Дали, Танги, Миро, Мишо. Не говоря уже о Магритте — это вообще для молодежи.
Остаются любовь, мордобитие, Майдан.
А вот у Маньяско родина неподалеку, но не с ним. Он в Милане. Его Генуя становится упором вселенским. Восторги и злодеяния мира наталкиваются на него и рассыпаются ручейными искрами. Цыгане, евреи, бродяги, солдаты и инквизиторы. В одном заеме брызг.
Мускулы, напрягшиеся вспять. От уда до мизинца или затылка. Или дерева, или моря. Родина — это кора, которая в полете.
Пейзаж, расхристанный в попытке спасения. Этак нервически рвя на себе ворот.
Или стреляя в упор, чтобы упор упал. Юнгер — я помню, Франк рассказывал, — на исходе девятого десятка имел обыкновение пулять на прогулке из ружья все в один и тот же камень на утесе. День за днем. В конце концов камень упал. «Я сделал это!» — с гордостью записал Юнгер в дневнике. «Я сделал ее!» — с горечью думал Берроуз.
Кол и дхарма. Но если индийская миниатюра распускается цветами, то живопись Маньяско — мышцами-проблесками. Извилистые пути истории становятся брюшиной картины.
Когда Олимп стал небом, потом небо стало сараем (= застенком = синагогой = постоялым двором — это безразлично для сарая с колоннами, особенно когда в него попадает фугас). Летим ошметками, оставаясь на месте. Это называется пейзаж.
И все-таки мне мерещится сбоку какая-то дочерняя команда, группа, которую он щедро пропихивает к морю.
Зайти в синагогу, зайти в церковь или в сборище квакеров даже зайти, там увидеться с по-южному косноязычным лидером. Квакерша на бочке, лысина Хрущева, ее отблески в Манеже. Тысячи лет бессонницы мира. Естественно, что порой и на кочерге, похохатывая.
Или крылья артиллериста. Или дробь монетки — подкручиваешь ее и бросаешь об стол. Следишь за ней, отвлекаешься.
Я хотел бы оправдать всех и каждого. К сожалению, это слишком простая задача — зависит от направления, в котором движется кисть. Но все равно я застываю, изумленный, перед самóй поблескивающей картиной мироздания, где каждый ищет себе оправдание и находит его с такой божественной легкостью. В любой церкви, каморке, сортире, кордегардии, Генуе.
Там, где сансара равна нирване.
Там, где китобои поджаривают глаз кита. Киева, Квикега, Квакера.
Или вот, скажем, Колтрейн — не хотел он, чтобы россияне смотрели его записи на YouTube. Теперь я не знаю, что мне делать — смотреть или не смотреть.
А между тем турецкий цвет неба. Море, все время выходящее из берегов.
Новая украинская власть, она защищает указания Колтрейна и следит, чтобы россияне его не слушали, и раздувает щеки, топорщит усы… «Бродяги! Бродяги!» — кричат россияне в бессильной злобе.
В общем, как пелось в нашем фильме:
«Ну а если дулинг, что же делать нам
с этим постоянным дулинг,
коим мир размахивает пред нашими очами.
Мы разбежаться хотим,
а нам с этакой усмешкой гнусной:
— Бороните, бороните!
Что ж ты, сука, мать свою забыл?!»
Формула проваливается в рассвет, как в свою собственную тьму (ср. с Филоновым).
Ариаднино исследование связей между злодеяниями и потехами. Следует ли нам просто называть и то и другое «напасть»?
Мой первый Маньяско — черемушкинский. Мне было около семи лет, мы возвращались с родителями вечером домой. Мать тихонько рассказывала отцу про несчастье наших соседей по лестничной клетке — они ждали ребенка, но он родился мертвым. Странным образом я понял, о чем идет речь. Мне врезалась в память мамина фраза: «…а он вылез уже весь черный». На следующее утро мы уехали в отпуск — в кои-то веки родители решили провести его не на одесских пляжах. Как потом мы узнали, в тот же день в Одессе был объявлен карантин — началась эпидемия холеры (днем позже мы бы уже никуда не смогли уехать). И в моих детских размышлениях мне казалось, что этот мертворожденный ребенок был как раз предвестием холеры, источником скверны или ее первой жертвой. Что-то такое мне почудилось впервые — когда твой родной город может обернуться «напастью». Эта темная стиснутость мира, его асфиксия.
Итак, «он вылез весь черный», и люди тонут в кораблекрушениях, кишки святого Эразма накручивают на барабан, пытают узников, раввины и квакеры вещают нечто надсадное, кто-то слушает их уже голый, и все это в проблесках лазоревых, брызгах, струнах моря. Бордюры Черемушек. Поребрики. Брюшина мира рассыпающаяся фонариками, маячками. Брюшина мира не обманет. Хотя нет, она может обмануть еще как. В мире нет ничего такого, что не могло бы обмануть.
Крошащийся жест Дон Кихота (Великого Инквизитора — с изнанки лайковой). В конце концов, и тот и другой — просто идальго гордые, обедневшие.
Ласарильо с берегов Тормеса, Панчо Вилья, Гертруда Стайн — в одном плутовском романе, пионерском отряде, на одной террасе Альбаро, за которой расстилаются ремнями перехваченные поля.
Слегка олигофренная невеста, как будто с усиками, в венчике из роз,
дымящиеся отнорки волн,
движки, выкрутасы,
Его ребра,
Его сады.
Можно вспомнить Тышлера, можно вспомнить Махно, можно вспомнить даже «Свадьбу в Малиновке».
Впрочем, сам Маньяско не шел на поводу ни у какой власти и ему не надо было расставлять «правильные» акценты, его покровитель, принц Фердинандо, прекрасно понимал живопись, он был незаурядным музыкантом, мастером полифонии и настоящим либертином.
В черном мелькнули красные искры. Головешки-цыгане-солдаты. Pittura pittoresco, pittura di tocco — та самая «живопись-живопись», которую так презирал о. Павел Флоренский, называл ее «фосфоресцирующими гнилушками». Отвергал собственное свечение мира и, уж тем более, его дробность. Конечно, все хотят быть неистовыми — как капитан Ахав, и одновременно светлыми — как Рублев, национальными, в кучеряшках — как Лель или парубок. Но тогда не стоит бояться зазоров, углов, камнепада.
Царь Емельян, царь Космос, всегда в плясе. Только лицо у него мучнистое и глаза-изюминки. А также колпак.
Эйзенштейн увидел картины Маньяско в Одессе, когда снимал «Броненосец "Потемкин"», и воссоздал позже их перекрученные ракурсы в пластике своего «Ивана Грозного».
То ли поросенок, то ли волосы на груди — так, сучка, и будешь помнить меня. Ты, в малиновом веночке перед расстилающейся лагерной полумглой. А кавалер твой, в треуголке, стал комендантом лагеря. Дружка тренькает на мандолине. Давай, погладь готовую к распаду, разносу ткань Советского Союза («а он вылез весь черный» — еще в 1970-м).
Кроме того, нерушимо и дробно, как волна: Генуя — это Одесса, а Милан — имперский город на М., где я тоже прожил немало лет. Правда, Маньяско жил еще во Флоренции, именно там выховал он свой стиль. Я не знаю, что сказать. Не город же на Неве сюда тянуть. Я давно уже не играюсь в медгерменевтические игры.
Чтобы любить такую живопись, надо быть слегка близоруким (политически тоже), надо наталкиваться. Ушибленность, принуждение, сапоги с отворотами. И так ведь во всем мире, вплоть до Латинской Америки — ушибленность, принуждение, рододендрон.
Я смотрю на его «Свадебный банкет» (другие источники называют его «Цыганским застольем») — это какое-то нехотение Истории, пренебрежение, при этом полное огня, на бивуаке, под навесом, на фоне палаток-шалашей, будто сражение так и не сбылось, осталось в иной, краем грезящейся, параллельной Вселенной. Край Венеры-сопля, Сатурна-плаща…
Несостоявшееся пересечение прогрессивных муралов и свадьбы в Малиновке.
— Сколько сейчас времени? — спрашиваю. — Ну хорошо, пройдет 49 лет аренды, забудется «Норд-Ост», Россия завоюет Эстонию и вас всех. Или вы завоюете Россию. Что-то в таком роде…
Так и Маньяско — то ли показ на новогодние праздники, то ли разговор с сорокой.
А что если «Обучение сороки» — это взрывной путь, ягодицы сапера? За нитью нить, колесо — каждый момент может пропихнуть дальше. Глядишь на стену, и куришь, и надо умирать, и песни = стена = песни.
Подаренность, восхищение, гнев праведный.
— Гака! Гака! Я тебя люблю! — крик над морем. Или это крик «Гога!»? Скажем, неудачливый Гога Кизевальтер, который пишет картину в стиле Кабакова, но при этом приходит к морю бурлящему. (Впрочем, есть у Гоги и прекрасная работа, тоже в стиле Кабакова, «У Пети флюс — der Fluss» называется.)
Я знаю, я должен выбрать, показать самые лучшие, значащие куски — суды инквизиции, детские садики — но это трудно выразить словами. Настоящее, всегда возвращающееся лишь как шляпы, сапоги, капюшоны. Все натыкается на упор родины, сминается складками. Штанцы, обезьянки.
Эта беззаботная и пугающая живописность. Существа в пять-шесть мазков кистью. А мы тем временем так и не можем проникнуться, какая история происходит с ними. Даже если нечто подобное уже происходит с нами.
Хорошо быть волной, она накатывается, совершенно не ощущая боли от того, что она волна. Всем остальным — болеть до последней антоновки.
(Но не волнуйтесь! Так или иначе, каждый текст и каждая живопись — это разбор каракулей почвы и дождя.)
В любом случае, надо писать быстро, как Эль Греко, Рембрандт, Маньяско. Все отмечали поразительную скорость его письма. И это совсем не для того, чтобы приноровиться к требованиям рынка, — по теории Светланы Альперс. Писать быстро не для того, чтобы куда-то успеть, но для того, чтобы ничто не настигло тебя. Как то — солнце, харизма, правда, метод, смерть. Писать быстро, чтобы остаться в неоправданности взрывов и пятен, жмуриков, мирошек, просветов листвы, качающихся веток.
Хотя вот Сезанн писал своих яблочных арлекинов очень медленно. Однако как художники они бы чудесно поладили. Эти чересполосицы, пятнистые уравнения жизни. Или рубцовые — рубцы будущих ран.
«Только не сжата полоска одна…» Засунь ее себе сам знаешь куда!
Невеста, конечно, надулась. Все время мерещится, что она усатая. Так и пытки развеваются усато, переходят в цыганские свадьбы. Ренато Усатый, Ринальдо Ринальдини, Ласарильо с берегов Днестра… Распространено мнение, будто Маньяско писал «пикаро» — нищих плутов, обманщиков и т.д., персонажей «плутовских романов». А что, конкистадоры не были «пикаро»?! И в этот момент свободные мазки al tocco падают на бороду Энгельса. Копошатся там.
Ужин будет? Будет. Сейчас придет мужчина с револьвером. И на ночь будет лезть в постель ко всем, кого встретил в клубе. «Озаренная волосня» — это тема другого художника, близкого Маньяско. Это Миро. Опять и опять все те, кого мы любим.
Если дать мне волю-поддержку, я бы, может, записывал все мысли последовательно, листок за листком, складывал бы их в папку, пока она не стала бы на просвет чернее черного, потом относил бы ее в какое-нибудь издательство на просмотр. Но у меня нет такой возможности, поэтому рву на ходу подметки, пробиваю звездочками, компостирую мозги. Бью копытцем — как лунная вошь, возомнившая себя быком.
Господи, какая разница — мы подносим ко рту склянку правой или левой рукой?! Мы гуляем на срок вечности, срок звезды, по газетной бумаге размазанной. Знаешь это — и пошли!
Странные возгласы, загрузки, которыми я здесь делюсь. Считайте, что так разговаривают персонажи на картинах М-ко. Витиеватые приветствия, цыганский жаргон, и обязательно сплевывать.
Я как-то сравнил свой стиль с Улитиным. Но это было сказано скорее наобум. Меня не били в застенках КГБ, я родился в столице штетла на улице Пушкинской и верил в запах акаций. Холст, холстинка — всегда найдется, чем прибить, приклеить ее к стене. Эта страна, та страна, вертится… Такой вот «икс», лишенный «игрека», а оси «зет» божественной вообще никогда не было и не будет. Уля-улю! — мы в своих хатках, млинах, ставках, дерибасовских, лыщаковских… На каждой скамейке и в каждом узилище песни про наше происхождение, нашу раскраску, нашу стиснутость, которая в полете.
Так и Маньяско, он — «икс», взвихренно, барочно подкатывающийся к «игреку» (истории) — на одну толщину корабельной, скрыпковой струны (но не совпадающий!) — отсюда и напряжение: подходящий и не совпадающий! Эта близь недостигаемая, эта по**й достигнуть струна истории, — генуэзка, венецианка, миланка, флорентийка — ошалевшая, бьющаяся (в рамках европейских живописных конвенций) в своих чепчиковых обертонах, как ацтеки, африка, зюдзее. Может быть, никто из европейских художников не смог, склонившись так низко, возвыситься так высоко, как М. Он ведь просто специализировался вписывать фигурки в пейзаж, но взгляните на них — тихие, изогнутые, искореженные танки!
«Не было в мире столько любви, и столько рук до тебя! Пусть несчастное солнце сгорает дотла, по дороге идут караваны…» По дороге идут танки! О моя генуэзка!
Все это уменьшительное, танковое, артиллерийское, не прилагаемое ни к чему, самое странное, страшное, умалительное, решительное — это живопись. Это «бедные люди». А тут еще «он вылез весь черный». Доски страны, судьбы. Вой об утерянных канцеляриях (там остались полюдные, поземельные записи, которые мы никогда не прочтем). Тростник, тростничок, вечный, колышущийся. А протяни руку — обрежешься о кромку листа. По бытию, по кочану, по скоту в загонах.
Мы в плащах японских лаковых или босиком, в постыдном неглиже? Не знаю. А тут еще «украинское необарокко», длинное, жопастое и неприкасаемое, как РЖД. Страшно подумать — на Украине находится пять или шесть картин М.: четыре в Одессе, одна в Киеве, и еще одна, сомнительно атрибутированная, кажется, во Львове. И все в руках этих смеховиков-затейников, всех этих ройтбурдов, соловьевых, акинш. В их чмошной постмодернистской власти выдавать свою маленькую похоть за дерево, рощу.
Мы опустились до площадной брани. Зато не будем докучать вам разговорами о связях Маньяско с:
а) театром и плутовским романом;
б) обнищанием Италии;
в) национально-освободительными движениями в их гривуазном варианте от Сальваторе Розы;
г) психоделикой и т.п.
В любом случае живопись — это про то, чтобы дать волю не-происходящему.
Если представить, что вся жизнь моя — лишь блики, световые гримасы, жилы, мерцающие вокруг того, кто «вылез весь черный». Давайте все-таки заварим. Письку? Ее тоже. Может ли распределение заместить бурю? Или дружбу? Очень тонкие, змеиные вопросы. Или птичьи, птенчиковые, в одну кость толщиной.
«А он вылез весь черный» — вроде фимиама, чада СССР, сопровождающего меня всю жизнь. Я жил тогда в лазоревой Одессе, и не знал… В очередной раз пытаюсь все подсобрать. Когда уже нет даже Киева. Бляхи, балахоны. Каждую ночь и каждый вечер, когда приходят сумерки, так и не можешь определить — сгинела или не сгинела.
Топот, топот, мягкие слоновьи подошвы ставятся в пол. Мягкие, удушающие. В раджпутских подземельях, сокровищницах — лягушонок Маугли вылез весь черный. Но у него такое гладкое, греческое лицо.
Надо писать так, чтобы за воротами. А то ведь все равно получается «давай пожмем друг другу руки». Не говоря уже о заводской пропасти между Рембо и Рымбу. И как бы ни бушевало море, начинаем подсчитывать, какого оно разлива и какого вала. Потом будем смотреть еще, зачем ты понадобилась.
«Погрузка каторжников на галеры», но заметьте! — все тянут цепи, канаты в разные стороны. Даже пытки инквизиции — все в разные стороны. Главный ужас истории не в том, что она ужасна, а в том, что она вообще есть. Цветочные цепи Ямы. Тем более если на заднем плане городская ратуша или башня. Можно молиться на нее, можно с демонстрациями подходить, пинать ногами. Или требовать больше свидомости. Все равно вокруг поля стрекочущих кузнечиков. А также — волчья ягода, дурман, белладонна.
«Нападение разбойников», «Прибытие каторжников» — руки-ноги по-разному поставлены, но ты не волнуйся, все там будем, всегда будут ступни как корни, как чумовые копыта, будут руки как ветки-плети. Точные значения цифр подсчитывались много раз, однако это ничего не меняет. Все останется дружбой или воем, а пленэр — недоступен.
Я хотел бы пройти до подземных лучащихся фигурок. К сожалению, они меня не пугают. Страшно лишь то, что в своих совокупности и многообразии они действуют на всех примерно так же, как на меня, одинаково.
«Среди тюремных стен, казематов или перед фасадами разрушившихся храмов — всюду пылкие удары кисти, акцентировано выпяченная мускулатура, остроконечные шляпы, складки одежд. Нервная энергия его фигур, которые дрожат, вибрируют, но при этом всегда мрачны, сдержаны и неулыбчивы. С запавшими глазами, острыми носами, заросшими подбородками они кажутся окаменевшими, подобно головам римских фонтанов, однако, в отличие от классических гротескных орнаментов, это игроки, которым не хватает игривости» (М. Риккарди-Кубитт).
Когда у нас нет родины, мы пребываем в меланхолическом бездействии. Когда родина появляется, мы тоже рискуем оказаться в бездействии, но иного рода — неподвижно-суетливом, патетическом и неулыбчивом.
О-хо-хо! Что я вижу! Вакх пытается водрузить на себя корону — а она, сука, тяжелая, вроде самовара. Сзади — так вообще уже не люди, но клубеньки какие-то. Что же, до утра мы, конечно, протянем с этим шествием. И не знаю, стоит ли думать о «потом».
Песни папы, песни дедушки, песни девушки, песни доченьки, песни южных славян. Непонятно только, зачем еще ведем подсчет голосов, лайков, квадратных метров выставочных пространств. Все эти шубы.
Напружинившись, выставив бедра, колени. Тростник идет сквозь лес, выставив колени. Режет бутылочку и делает вид, что это правда-матка. Веселье как подсадная утка, с которой Господь охотится на нас.
Следствие ведут грибки, кочанчики. У них свадебный банкет. Они под тентом. Упираемся носом в волну. Локтями. И бежит по рядам хохолками.
Как узнать ярость мира и при этом остаться в ней, чтобы не со стороны?! Опьянение здесь не подходит — ты уже валишься с ног. Сновидение здесь не подходит — тебя же там нет. Сюрреалистические практики здесь не подходят — это завод невсамделишный, дубильня, кожевня. Дали, Танги, Миро, Мишо. Не говоря уже о Магритте — это вообще для молодежи.
Остаются любовь, мордобитие, Майдан.
вас может заинтересовать
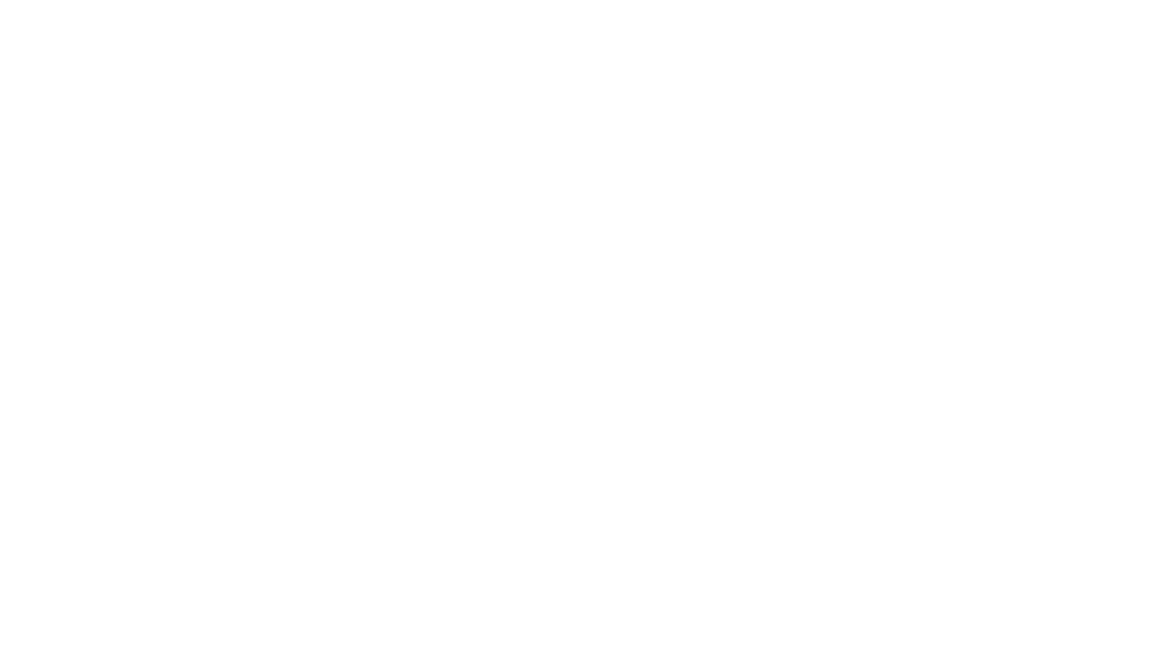
Юрий Лейдерман
Маньяско
Фрагмент
Такая живопись идет из Венеции. Потому что у них есть родина, и больше им ни до чего нет дела. Или от Эль Греко, чья родина оставлена и потеряна, но это его не волнует, потому что он пишет рот, и мускулы, и все прочее полным шорохом ангельских крыл.
А вот у Маньяско родина неподалеку, но не с ним. Он в Милане. Его Генуя становится упором вселенским. Восторги и злодеяния мира наталкиваются на него и рассыпаются ручейными искрами. Цыгане, евреи, бродяги, солдаты и инквизиторы. В одном заеме брызг.
Мускулы, напрягшиеся вспять. От уда до мизинца или затылка. Или дерева, или моря. Родина — это кора, которая в полете.
Пейзаж, расхристанный в попытке спасения. Этак нервически рвя на себе ворот.
Или стреляя в упор, чтобы упор упал. Юнгер — я помню, Франк рассказывал, — на исходе девятого десятка имел обыкновение пулять на прогулке из ружья все в один и тот же камень на утесе. День за днем. В конце концов камень упал. «Я сделал это!» — с гордостью записал Юнгер в дневнике. «Я сделал ее!» — с горечью думал Берроуз.
Кол и дхарма. Но если индийская миниатюра распускается цветами, то живопись Маньяско — мышцами-проблесками. Извилистые пути истории становятся брюшиной картины.
Когда Олимп стал небом, потом небо стало сараем (= застенком = синагогой = постоялым двором — это безразлично для сарая с колоннами, особенно когда в него попадает фугас). Летим ошметками, оставаясь на месте. Это называется пейзаж.
И все-таки мне мерещится сбоку какая-то дочерняя команда, группа, которую он щедро пропихивает к морю.
Зайти в синагогу, зайти в церковь или в сборище квакеров даже зайти, там увидеться с по-южному косноязычным лидером. Квакерша на бочке, лысина Хрущева, ее отблески в Манеже. Тысячи лет бессонницы мира. Естественно, что порой и на кочерге, похохатывая.
Или крылья артиллериста. Или дробь монетки — подкручиваешь ее и бросаешь об стол. Следишь за ней, отвлекаешься.
Я хотел бы оправдать всех и каждого. К сожалению, это слишком простая задача — зависит от направления, в котором движется кисть. Но все равно я застываю, изумленный, перед самóй поблескивающей картиной мироздания, где каждый ищет себе оправдание и находит его с такой божественной легкостью. В любой церкви, каморке, сортире, кордегардии, Генуе.
Там, где сансара равна нирване.
Там, где китобои поджаривают глаз кита. Киева, Квикега, Квакера.
Или вот, скажем, Колтрейн — не хотел он, чтобы россияне смотрели его записи на YouTube. Теперь я не знаю, что мне делать — смотреть или не смотреть.
А между тем турецкий цвет неба. Море, все время выходящее из берегов.
Новая украинская власть, она защищает указания Колтрейна и следит, чтобы россияне его не слушали, и раздувает щеки, топорщит усы… «Бродяги! Бродяги!» — кричат россияне в бессильной злобе.
В общем, как пелось в нашем фильме:
«Ну а если дулинг, что же делать нам
с этим постоянным дулинг,
коим мир размахивает пред нашими очами.
Мы разбежаться хотим,
а нам с этакой усмешкой гнусной:
— Бороните, бороните!
Что ж ты, сука, мать свою забыл?!»
Формула проваливается в рассвет, как в свою собственную тьму (ср. с Филоновым).
Ариаднино исследование связей между злодеяниями и потехами. Следует ли нам просто называть и то и другое «напасть»?
Мой первый Маньяско — черемушкинский. Мне было около семи лет, мы возвращались с родителями вечером домой. Мать тихонько рассказывала отцу про несчастье наших соседей по лестничной клетке — они ждали ребенка, но он родился мертвым. Странным образом я понял, о чем идет речь. Мне врезалась в память мамина фраза: «…а он вылез уже весь черный». На следующее утро мы уехали в отпуск — в кои-то веки родители решили провести его не на одесских пляжах. Как потом мы узнали, в тот же день в Одессе был объявлен карантин — началась эпидемия холеры (днем позже мы бы уже никуда не смогли уехать). И в моих детских размышлениях мне казалось, что этот мертворожденный ребенок был как раз предвестием холеры, источником скверны или ее первой жертвой. Что-то такое мне почудилось впервые — когда твой родной город может обернуться «напастью». Эта темная стиснутость мира, его асфиксия.
Итак, «он вылез весь черный», и люди тонут в кораблекрушениях, кишки святого Эразма накручивают на барабан, пытают узников, раввины и квакеры вещают нечто надсадное, кто-то слушает их уже голый, и все это в проблесках лазоревых, брызгах, струнах моря. Бордюры Черемушек. Поребрики. Брюшина мира рассыпающаяся фонариками, маячками. Брюшина мира не обманет. Хотя нет, она может обмануть еще как. В мире нет ничего такого, что не могло бы обмануть.
Крошащийся жест Дон Кихота (Великого Инквизитора — с изнанки лайковой). В конце концов, и тот и другой — просто идальго гордые, обедневшие.
Ласарильо с берегов Тормеса, Панчо Вилья, Гертруда Стайн — в одном плутовском романе, пионерском отряде, на одной террасе Альбаро, за которой расстилаются ремнями перехваченные поля.
Слегка олигофренная невеста, как будто с усиками, в венчике из роз,
дымящиеся отнорки волн,
движки, выкрутасы,
Его ребра,
Его сады.
Можно вспомнить Тышлера, можно вспомнить Махно, можно вспомнить даже «Свадьбу в Малиновке».
Впрочем, сам Маньяско не шел на поводу ни у какой власти и ему не надо было расставлять «правильные» акценты, его покровитель, принц Фердинандо, прекрасно понимал живопись, он был незаурядным музыкантом, мастером полифонии и настоящим либертином.
В черном мелькнули красные искры. Головешки-цыгане-солдаты. Pittura pittoresco, pittura di tocco — та самая «живопись-живопись», которую так презирал о. Павел Флоренский, называл ее «фосфоресцирующими гнилушками». Отвергал собственное свечение мира и, уж тем более, его дробность. Конечно, все хотят быть неистовыми — как капитан Ахав, и одновременно светлыми — как Рублев, национальными, в кучеряшках — как Лель или парубок. Но тогда не стоит бояться зазоров, углов, камнепада.
Царь Емельян, царь Космос, всегда в плясе. Только лицо у него мучнистое и глаза-изюминки. А также колпак.
Эйзенштейн увидел картины Маньяско в Одессе, когда снимал «Броненосец "Потемкин"», и воссоздал позже их перекрученные ракурсы в пластике своего «Ивана Грозного».
То ли поросенок, то ли волосы на груди — так, сучка, и будешь помнить меня. Ты, в малиновом веночке перед расстилающейся лагерной полумглой. А кавалер твой, в треуголке, стал комендантом лагеря. Дружка тренькает на мандолине. Давай, погладь готовую к распаду, разносу ткань Советского Союза («а он вылез весь черный» — еще в 1970-м).
Кроме того, нерушимо и дробно, как волна: Генуя — это Одесса, а Милан — имперский город на М., где я тоже прожил немало лет. Правда, Маньяско жил еще во Флоренции, именно там выховал он свой стиль. Я не знаю, что сказать. Не город же на Неве сюда тянуть. Я давно уже не играюсь в медгерменевтические игры.
Чтобы любить такую живопись, надо быть слегка близоруким (политически тоже), надо наталкиваться. Ушибленность, принуждение, сапоги с отворотами. И так ведь во всем мире, вплоть до Латинской Америки — ушибленность, принуждение, рододендрон.
Я смотрю на его «Свадебный банкет» (другие источники называют его «Цыганским застольем») — это какое-то нехотение Истории, пренебрежение, при этом полное огня, на бивуаке, под навесом, на фоне палаток-шалашей, будто сражение так и не сбылось, осталось в иной, краем грезящейся, параллельной Вселенной. Край Венеры-сопля, Сатурна-плаща…
Несостоявшееся пересечение прогрессивных муралов и свадьбы в Малиновке.
— Сколько сейчас времени? — спрашиваю. — Ну хорошо, пройдет 49 лет аренды, забудется «Норд-Ост», Россия завоюет Эстонию и вас всех. Или вы завоюете Россию. Что-то в таком роде…
Так и Маньяско — то ли показ на новогодние праздники, то ли разговор с сорокой.
А что если «Обучение сороки» — это взрывной путь, ягодицы сапера? За нитью нить, колесо — каждый момент может пропихнуть дальше. Глядишь на стену, и куришь, и надо умирать, и песни = стена = песни.
Подаренность, восхищение, гнев праведный.
— Гака! Гака! Я тебя люблю! — крик над морем. Или это крик «Гога!»? Скажем, неудачливый Гога Кизевальтер, который пишет картину в стиле Кабакова, но при этом приходит к морю бурлящему. (Впрочем, есть у Гоги и прекрасная работа, тоже в стиле Кабакова, «У Пети флюс — der Fluss» называется.)
Я знаю, я должен выбрать, показать самые лучшие, значащие куски — суды инквизиции, детские садики — но это трудно выразить словами. Настоящее, всегда возвращающееся лишь как шляпы, сапоги, капюшоны. Все натыкается на упор родины, сминается складками. Штанцы, обезьянки.
Эта беззаботная и пугающая живописность. Существа в пять-шесть мазков кистью. А мы тем временем так и не можем проникнуться, какая история происходит с ними. Даже если нечто подобное уже происходит с нами.
Хорошо быть волной, она накатывается, совершенно не ощущая боли от того, что она волна. Всем остальным — болеть до последней антоновки.
(Но не волнуйтесь! Так или иначе, каждый текст и каждая живопись — это разбор каракулей почвы и дождя.)
В любом случае, надо писать быстро, как Эль Греко, Рембрандт, Маньяско. Все отмечали поразительную скорость его письма. И это совсем не для того, чтобы приноровиться к требованиям рынка, — по теории Светланы Альперс. Писать быстро не для того, чтобы куда-то успеть, но для того, чтобы ничто не настигло тебя. Как то — солнце, харизма, правда, метод, смерть. Писать быстро, чтобы остаться в неоправданности взрывов и пятен, жмуриков, мирошек, просветов листвы, качающихся веток.
Хотя вот Сезанн писал своих яблочных арлекинов очень медленно. Однако как художники они бы чудесно поладили. Эти чересполосицы, пятнистые уравнения жизни. Или рубцовые — рубцы будущих ран.
«Только не сжата полоска одна…» Засунь ее себе сам знаешь куда!
Невеста, конечно, надулась. Все время мерещится, что она усатая. Так и пытки развеваются усато, переходят в цыганские свадьбы. Ренато Усатый, Ринальдо Ринальдини, Ласарильо с берегов Днестра… Распространено мнение, будто Маньяско писал «пикаро» — нищих плутов, обманщиков и т.д., персонажей «плутовских романов». А что, конкистадоры не были «пикаро»?! И в этот момент свободные мазки al tocco падают на бороду Энгельса. Копошатся там.
Ужин будет? Будет. Сейчас придет мужчина с револьвером. И на ночь будет лезть в постель ко всем, кого встретил в клубе. «Озаренная волосня» — это тема другого художника, близкого Маньяско. Это Миро. Опять и опять все те, кого мы любим.
Если дать мне волю-поддержку, я бы, может, записывал все мысли последовательно, листок за листком, складывал бы их в папку, пока она не стала бы на просвет чернее черного, потом относил бы ее в какое-нибудь издательство на просмотр. Но у меня нет такой возможности, поэтому рву на ходу подметки, пробиваю звездочками, компостирую мозги. Бью копытцем — как лунная вошь, возомнившая себя быком.
Господи, какая разница — мы подносим ко рту склянку правой или левой рукой?! Мы гуляем на срок вечности, срок звезды, по газетной бумаге размазанной. Знаешь это — и пошли!
Странные возгласы, загрузки, которыми я здесь делюсь. Считайте, что так разговаривают персонажи на картинах М-ко. Витиеватые приветствия, цыганский жаргон, и обязательно сплевывать.
Я как-то сравнил свой стиль с Улитиным. Но это было сказано скорее наобум. Меня не били в застенках КГБ, я родился в столице штетла на улице Пушкинской и верил в запах акаций. Холст, холстинка — всегда найдется, чем прибить, приклеить ее к стене. Эта страна, та страна, вертится… Такой вот «икс», лишенный «игрека», а оси «зет» божественной вообще никогда не было и не будет. Уля-улю! — мы в своих хатках, млинах, ставках, дерибасовских, лыщаковских… На каждой скамейке и в каждом узилище песни про наше происхождение, нашу раскраску, нашу стиснутость, которая в полете.
Так и Маньяско, он — «икс», взвихренно, барочно подкатывающийся к «игреку» (истории) — на одну толщину корабельной, скрыпковой струны (но не совпадающий!) — отсюда и напряжение: подходящий и не совпадающий! Эта близь недостигаемая, эта по**й достигнуть струна истории, — генуэзка, венецианка, миланка, флорентийка — ошалевшая, бьющаяся (в рамках европейских живописных конвенций) в своих чепчиковых обертонах, как ацтеки, африка, зюдзее. Может быть, никто из европейских художников не смог, склонившись так низко, возвыситься так высоко, как М. Он ведь просто специализировался вписывать фигурки в пейзаж, но взгляните на них — тихие, изогнутые, искореженные танки!
«Не было в мире столько любви, и столько рук до тебя! Пусть несчастное солнце сгорает дотла, по дороге идут караваны…» По дороге идут танки! О моя генуэзка!
Все это уменьшительное, танковое, артиллерийское, не прилагаемое ни к чему, самое странное, страшное, умалительное, решительное — это живопись. Это «бедные люди». А тут еще «он вылез весь черный». Доски страны, судьбы. Вой об утерянных канцеляриях (там остались полюдные, поземельные записи, которые мы никогда не прочтем). Тростник, тростничок, вечный, колышущийся. А протяни руку — обрежешься о кромку листа. По бытию, по кочану, по скоту в загонах.
Мы в плащах японских лаковых или босиком, в постыдном неглиже? Не знаю. А тут еще «украинское необарокко», длинное, жопастое и неприкасаемое, как РЖД. Страшно подумать — на Украине находится пять или шесть картин М.: четыре в Одессе, одна в Киеве, и еще одна, сомнительно атрибутированная, кажется, во Львове. И все в руках этих смеховиков-затейников, всех этих ройтбурдов, соловьевых, акинш. В их чмошной постмодернистской власти выдавать свою маленькую похоть за дерево, рощу.
Мы опустились до площадной брани. Зато не будем докучать вам разговорами о связях Маньяско с:
а) театром и плутовским романом;
б) обнищанием Италии;
в) национально-освободительными движениями в их гривуазном варианте от Сальваторе Розы;
г) психоделикой и т.п.
В любом случае живопись — это про то, чтобы дать волю не-происходящему.
Если представить, что вся жизнь моя — лишь блики, световые гримасы, жилы, мерцающие вокруг того, кто «вылез весь черный». Давайте все-таки заварим. Письку? Ее тоже. Может ли распределение заместить бурю? Или дружбу? Очень тонкие, змеиные вопросы. Или птичьи, птенчиковые, в одну кость толщиной.
«А он вылез весь черный» — вроде фимиама, чада СССР, сопровождающего меня всю жизнь. Я жил тогда в лазоревой Одессе, и не знал… В очередной раз пытаюсь все подсобрать. Когда уже нет даже Киева. Бляхи, балахоны. Каждую ночь и каждый вечер, когда приходят сумерки, так и не можешь определить — сгинела или не сгинела.
Топот, топот, мягкие слоновьи подошвы ставятся в пол. Мягкие, удушающие. В раджпутских подземельях, сокровищницах — лягушонок Маугли вылез весь черный. Но у него такое гладкое, греческое лицо.
Надо писать так, чтобы за воротами. А то ведь все равно получается «давай пожмем друг другу руки». Не говоря уже о заводской пропасти между Рембо и Рымбу. И как бы ни бушевало море, начинаем подсчитывать, какого оно разлива и какого вала. Потом будем смотреть еще, зачем ты понадобилась.
«Погрузка каторжников на галеры», но заметьте! — все тянут цепи, канаты в разные стороны. Даже пытки инквизиции — все в разные стороны. Главный ужас истории не в том, что она ужасна, а в том, что она вообще есть. Цветочные цепи Ямы. Тем более если на заднем плане городская ратуша или башня. Можно молиться на нее, можно с демонстрациями подходить, пинать ногами. Или требовать больше свидомости. Все равно вокруг поля стрекочущих кузнечиков. А также — волчья ягода, дурман, белладонна.
«Нападение разбойников», «Прибытие каторжников» — руки-ноги по-разному поставлены, но ты не волнуйся, все там будем, всегда будут ступни как корни, как чумовые копыта, будут руки как ветки-плети. Точные значения цифр подсчитывались много раз, однако это ничего не меняет. Все останется дружбой или воем, а пленэр — недоступен.
Я хотел бы пройти до подземных лучащихся фигурок. К сожалению, они меня не пугают. Страшно лишь то, что в своих совокупности и многообразии они действуют на всех примерно так же, как на меня, одинаково.
«Среди тюремных стен, казематов или перед фасадами разрушившихся храмов — всюду пылкие удары кисти, акцентировано выпяченная мускулатура, остроконечные шляпы, складки одежд. Нервная энергия его фигур, которые дрожат, вибрируют, но при этом всегда мрачны, сдержаны и неулыбчивы. С запавшими глазами, острыми носами, заросшими подбородками они кажутся окаменевшими, подобно головам римских фонтанов, однако, в отличие от классических гротескных орнаментов, это игроки, которым не хватает игривости» (М. Риккарди-Кубитт).
Когда у нас нет родины, мы пребываем в меланхолическом бездействии. Когда родина появляется, мы тоже рискуем оказаться в бездействии, но иного рода — неподвижно-суетливом, патетическом и неулыбчивом.
О-хо-хо! Что я вижу! Вакх пытается водрузить на себя корону — а она, сука, тяжелая, вроде самовара. Сзади — так вообще уже не люди, но клубеньки какие-то. Что же, до утра мы, конечно, протянем с этим шествием. И не знаю, стоит ли думать о «потом».
Песни папы, песни дедушки, песни девушки, песни доченьки, песни южных славян. Непонятно только, зачем еще ведем подсчет голосов, лайков, квадратных метров выставочных пространств. Все эти шубы.
Напружинившись, выставив бедра, колени. Тростник идет сквозь лес, выставив колени. Режет бутылочку и делает вид, что это правда-матка. Веселье как подсадная утка, с которой Господь охотится на нас.
Следствие ведут грибки, кочанчики. У них свадебный банкет. Они под тентом. Упираемся носом в волну. Локтями. И бежит по рядам хохолками.
Как узнать ярость мира и при этом остаться в ней, чтобы не со стороны?! Опьянение здесь не подходит — ты уже валишься с ног. Сновидение здесь не подходит — тебя же там нет. Сюрреалистические практики здесь не подходят — это завод невсамделишный, дубильня, кожевня. Дали, Танги, Миро, Мишо. Не говоря уже о Магритте — это вообще для молодежи.
Остаются любовь, мордобитие, Майдан.
А вот у Маньяско родина неподалеку, но не с ним. Он в Милане. Его Генуя становится упором вселенским. Восторги и злодеяния мира наталкиваются на него и рассыпаются ручейными искрами. Цыгане, евреи, бродяги, солдаты и инквизиторы. В одном заеме брызг.
Мускулы, напрягшиеся вспять. От уда до мизинца или затылка. Или дерева, или моря. Родина — это кора, которая в полете.
Пейзаж, расхристанный в попытке спасения. Этак нервически рвя на себе ворот.
Или стреляя в упор, чтобы упор упал. Юнгер — я помню, Франк рассказывал, — на исходе девятого десятка имел обыкновение пулять на прогулке из ружья все в один и тот же камень на утесе. День за днем. В конце концов камень упал. «Я сделал это!» — с гордостью записал Юнгер в дневнике. «Я сделал ее!» — с горечью думал Берроуз.
Кол и дхарма. Но если индийская миниатюра распускается цветами, то живопись Маньяско — мышцами-проблесками. Извилистые пути истории становятся брюшиной картины.
Когда Олимп стал небом, потом небо стало сараем (= застенком = синагогой = постоялым двором — это безразлично для сарая с колоннами, особенно когда в него попадает фугас). Летим ошметками, оставаясь на месте. Это называется пейзаж.
И все-таки мне мерещится сбоку какая-то дочерняя команда, группа, которую он щедро пропихивает к морю.
Зайти в синагогу, зайти в церковь или в сборище квакеров даже зайти, там увидеться с по-южному косноязычным лидером. Квакерша на бочке, лысина Хрущева, ее отблески в Манеже. Тысячи лет бессонницы мира. Естественно, что порой и на кочерге, похохатывая.
Или крылья артиллериста. Или дробь монетки — подкручиваешь ее и бросаешь об стол. Следишь за ней, отвлекаешься.
Я хотел бы оправдать всех и каждого. К сожалению, это слишком простая задача — зависит от направления, в котором движется кисть. Но все равно я застываю, изумленный, перед самóй поблескивающей картиной мироздания, где каждый ищет себе оправдание и находит его с такой божественной легкостью. В любой церкви, каморке, сортире, кордегардии, Генуе.
Там, где сансара равна нирване.
Там, где китобои поджаривают глаз кита. Киева, Квикега, Квакера.
Или вот, скажем, Колтрейн — не хотел он, чтобы россияне смотрели его записи на YouTube. Теперь я не знаю, что мне делать — смотреть или не смотреть.
А между тем турецкий цвет неба. Море, все время выходящее из берегов.
Новая украинская власть, она защищает указания Колтрейна и следит, чтобы россияне его не слушали, и раздувает щеки, топорщит усы… «Бродяги! Бродяги!» — кричат россияне в бессильной злобе.
В общем, как пелось в нашем фильме:
«Ну а если дулинг, что же делать нам
с этим постоянным дулинг,
коим мир размахивает пред нашими очами.
Мы разбежаться хотим,
а нам с этакой усмешкой гнусной:
— Бороните, бороните!
Что ж ты, сука, мать свою забыл?!»
Формула проваливается в рассвет, как в свою собственную тьму (ср. с Филоновым).
Ариаднино исследование связей между злодеяниями и потехами. Следует ли нам просто называть и то и другое «напасть»?
Мой первый Маньяско — черемушкинский. Мне было около семи лет, мы возвращались с родителями вечером домой. Мать тихонько рассказывала отцу про несчастье наших соседей по лестничной клетке — они ждали ребенка, но он родился мертвым. Странным образом я понял, о чем идет речь. Мне врезалась в память мамина фраза: «…а он вылез уже весь черный». На следующее утро мы уехали в отпуск — в кои-то веки родители решили провести его не на одесских пляжах. Как потом мы узнали, в тот же день в Одессе был объявлен карантин — началась эпидемия холеры (днем позже мы бы уже никуда не смогли уехать). И в моих детских размышлениях мне казалось, что этот мертворожденный ребенок был как раз предвестием холеры, источником скверны или ее первой жертвой. Что-то такое мне почудилось впервые — когда твой родной город может обернуться «напастью». Эта темная стиснутость мира, его асфиксия.
Итак, «он вылез весь черный», и люди тонут в кораблекрушениях, кишки святого Эразма накручивают на барабан, пытают узников, раввины и квакеры вещают нечто надсадное, кто-то слушает их уже голый, и все это в проблесках лазоревых, брызгах, струнах моря. Бордюры Черемушек. Поребрики. Брюшина мира рассыпающаяся фонариками, маячками. Брюшина мира не обманет. Хотя нет, она может обмануть еще как. В мире нет ничего такого, что не могло бы обмануть.
Крошащийся жест Дон Кихота (Великого Инквизитора — с изнанки лайковой). В конце концов, и тот и другой — просто идальго гордые, обедневшие.
Ласарильо с берегов Тормеса, Панчо Вилья, Гертруда Стайн — в одном плутовском романе, пионерском отряде, на одной террасе Альбаро, за которой расстилаются ремнями перехваченные поля.
Слегка олигофренная невеста, как будто с усиками, в венчике из роз,
дымящиеся отнорки волн,
движки, выкрутасы,
Его ребра,
Его сады.
Можно вспомнить Тышлера, можно вспомнить Махно, можно вспомнить даже «Свадьбу в Малиновке».
Впрочем, сам Маньяско не шел на поводу ни у какой власти и ему не надо было расставлять «правильные» акценты, его покровитель, принц Фердинандо, прекрасно понимал живопись, он был незаурядным музыкантом, мастером полифонии и настоящим либертином.
В черном мелькнули красные искры. Головешки-цыгане-солдаты. Pittura pittoresco, pittura di tocco — та самая «живопись-живопись», которую так презирал о. Павел Флоренский, называл ее «фосфоресцирующими гнилушками». Отвергал собственное свечение мира и, уж тем более, его дробность. Конечно, все хотят быть неистовыми — как капитан Ахав, и одновременно светлыми — как Рублев, национальными, в кучеряшках — как Лель или парубок. Но тогда не стоит бояться зазоров, углов, камнепада.
Царь Емельян, царь Космос, всегда в плясе. Только лицо у него мучнистое и глаза-изюминки. А также колпак.
Эйзенштейн увидел картины Маньяско в Одессе, когда снимал «Броненосец "Потемкин"», и воссоздал позже их перекрученные ракурсы в пластике своего «Ивана Грозного».
То ли поросенок, то ли волосы на груди — так, сучка, и будешь помнить меня. Ты, в малиновом веночке перед расстилающейся лагерной полумглой. А кавалер твой, в треуголке, стал комендантом лагеря. Дружка тренькает на мандолине. Давай, погладь готовую к распаду, разносу ткань Советского Союза («а он вылез весь черный» — еще в 1970-м).
Кроме того, нерушимо и дробно, как волна: Генуя — это Одесса, а Милан — имперский город на М., где я тоже прожил немало лет. Правда, Маньяско жил еще во Флоренции, именно там выховал он свой стиль. Я не знаю, что сказать. Не город же на Неве сюда тянуть. Я давно уже не играюсь в медгерменевтические игры.
Чтобы любить такую живопись, надо быть слегка близоруким (политически тоже), надо наталкиваться. Ушибленность, принуждение, сапоги с отворотами. И так ведь во всем мире, вплоть до Латинской Америки — ушибленность, принуждение, рододендрон.
Я смотрю на его «Свадебный банкет» (другие источники называют его «Цыганским застольем») — это какое-то нехотение Истории, пренебрежение, при этом полное огня, на бивуаке, под навесом, на фоне палаток-шалашей, будто сражение так и не сбылось, осталось в иной, краем грезящейся, параллельной Вселенной. Край Венеры-сопля, Сатурна-плаща…
Несостоявшееся пересечение прогрессивных муралов и свадьбы в Малиновке.
— Сколько сейчас времени? — спрашиваю. — Ну хорошо, пройдет 49 лет аренды, забудется «Норд-Ост», Россия завоюет Эстонию и вас всех. Или вы завоюете Россию. Что-то в таком роде…
Так и Маньяско — то ли показ на новогодние праздники, то ли разговор с сорокой.
А что если «Обучение сороки» — это взрывной путь, ягодицы сапера? За нитью нить, колесо — каждый момент может пропихнуть дальше. Глядишь на стену, и куришь, и надо умирать, и песни = стена = песни.
Подаренность, восхищение, гнев праведный.
— Гака! Гака! Я тебя люблю! — крик над морем. Или это крик «Гога!»? Скажем, неудачливый Гога Кизевальтер, который пишет картину в стиле Кабакова, но при этом приходит к морю бурлящему. (Впрочем, есть у Гоги и прекрасная работа, тоже в стиле Кабакова, «У Пети флюс — der Fluss» называется.)
Я знаю, я должен выбрать, показать самые лучшие, значащие куски — суды инквизиции, детские садики — но это трудно выразить словами. Настоящее, всегда возвращающееся лишь как шляпы, сапоги, капюшоны. Все натыкается на упор родины, сминается складками. Штанцы, обезьянки.
Эта беззаботная и пугающая живописность. Существа в пять-шесть мазков кистью. А мы тем временем так и не можем проникнуться, какая история происходит с ними. Даже если нечто подобное уже происходит с нами.
Хорошо быть волной, она накатывается, совершенно не ощущая боли от того, что она волна. Всем остальным — болеть до последней антоновки.
(Но не волнуйтесь! Так или иначе, каждый текст и каждая живопись — это разбор каракулей почвы и дождя.)
В любом случае, надо писать быстро, как Эль Греко, Рембрандт, Маньяско. Все отмечали поразительную скорость его письма. И это совсем не для того, чтобы приноровиться к требованиям рынка, — по теории Светланы Альперс. Писать быстро не для того, чтобы куда-то успеть, но для того, чтобы ничто не настигло тебя. Как то — солнце, харизма, правда, метод, смерть. Писать быстро, чтобы остаться в неоправданности взрывов и пятен, жмуриков, мирошек, просветов листвы, качающихся веток.
Хотя вот Сезанн писал своих яблочных арлекинов очень медленно. Однако как художники они бы чудесно поладили. Эти чересполосицы, пятнистые уравнения жизни. Или рубцовые — рубцы будущих ран.
«Только не сжата полоска одна…» Засунь ее себе сам знаешь куда!
Невеста, конечно, надулась. Все время мерещится, что она усатая. Так и пытки развеваются усато, переходят в цыганские свадьбы. Ренато Усатый, Ринальдо Ринальдини, Ласарильо с берегов Днестра… Распространено мнение, будто Маньяско писал «пикаро» — нищих плутов, обманщиков и т.д., персонажей «плутовских романов». А что, конкистадоры не были «пикаро»?! И в этот момент свободные мазки al tocco падают на бороду Энгельса. Копошатся там.
Ужин будет? Будет. Сейчас придет мужчина с револьвером. И на ночь будет лезть в постель ко всем, кого встретил в клубе. «Озаренная волосня» — это тема другого художника, близкого Маньяско. Это Миро. Опять и опять все те, кого мы любим.
Если дать мне волю-поддержку, я бы, может, записывал все мысли последовательно, листок за листком, складывал бы их в папку, пока она не стала бы на просвет чернее черного, потом относил бы ее в какое-нибудь издательство на просмотр. Но у меня нет такой возможности, поэтому рву на ходу подметки, пробиваю звездочками, компостирую мозги. Бью копытцем — как лунная вошь, возомнившая себя быком.
Господи, какая разница — мы подносим ко рту склянку правой или левой рукой?! Мы гуляем на срок вечности, срок звезды, по газетной бумаге размазанной. Знаешь это — и пошли!
Странные возгласы, загрузки, которыми я здесь делюсь. Считайте, что так разговаривают персонажи на картинах М-ко. Витиеватые приветствия, цыганский жаргон, и обязательно сплевывать.
Я как-то сравнил свой стиль с Улитиным. Но это было сказано скорее наобум. Меня не били в застенках КГБ, я родился в столице штетла на улице Пушкинской и верил в запах акаций. Холст, холстинка — всегда найдется, чем прибить, приклеить ее к стене. Эта страна, та страна, вертится… Такой вот «икс», лишенный «игрека», а оси «зет» божественной вообще никогда не было и не будет. Уля-улю! — мы в своих хатках, млинах, ставках, дерибасовских, лыщаковских… На каждой скамейке и в каждом узилище песни про наше происхождение, нашу раскраску, нашу стиснутость, которая в полете.
Так и Маньяско, он — «икс», взвихренно, барочно подкатывающийся к «игреку» (истории) — на одну толщину корабельной, скрыпковой струны (но не совпадающий!) — отсюда и напряжение: подходящий и не совпадающий! Эта близь недостигаемая, эта по**й достигнуть струна истории, — генуэзка, венецианка, миланка, флорентийка — ошалевшая, бьющаяся (в рамках европейских живописных конвенций) в своих чепчиковых обертонах, как ацтеки, африка, зюдзее. Может быть, никто из европейских художников не смог, склонившись так низко, возвыситься так высоко, как М. Он ведь просто специализировался вписывать фигурки в пейзаж, но взгляните на них — тихие, изогнутые, искореженные танки!
«Не было в мире столько любви, и столько рук до тебя! Пусть несчастное солнце сгорает дотла, по дороге идут караваны…» По дороге идут танки! О моя генуэзка!
Все это уменьшительное, танковое, артиллерийское, не прилагаемое ни к чему, самое странное, страшное, умалительное, решительное — это живопись. Это «бедные люди». А тут еще «он вылез весь черный». Доски страны, судьбы. Вой об утерянных канцеляриях (там остались полюдные, поземельные записи, которые мы никогда не прочтем). Тростник, тростничок, вечный, колышущийся. А протяни руку — обрежешься о кромку листа. По бытию, по кочану, по скоту в загонах.
Мы в плащах японских лаковых или босиком, в постыдном неглиже? Не знаю. А тут еще «украинское необарокко», длинное, жопастое и неприкасаемое, как РЖД. Страшно подумать — на Украине находится пять или шесть картин М.: четыре в Одессе, одна в Киеве, и еще одна, сомнительно атрибутированная, кажется, во Львове. И все в руках этих смеховиков-затейников, всех этих ройтбурдов, соловьевых, акинш. В их чмошной постмодернистской власти выдавать свою маленькую похоть за дерево, рощу.
Мы опустились до площадной брани. Зато не будем докучать вам разговорами о связях Маньяско с:
а) театром и плутовским романом;
б) обнищанием Италии;
в) национально-освободительными движениями в их гривуазном варианте от Сальваторе Розы;
г) психоделикой и т.п.
В любом случае живопись — это про то, чтобы дать волю не-происходящему.
Если представить, что вся жизнь моя — лишь блики, световые гримасы, жилы, мерцающие вокруг того, кто «вылез весь черный». Давайте все-таки заварим. Письку? Ее тоже. Может ли распределение заместить бурю? Или дружбу? Очень тонкие, змеиные вопросы. Или птичьи, птенчиковые, в одну кость толщиной.
«А он вылез весь черный» — вроде фимиама, чада СССР, сопровождающего меня всю жизнь. Я жил тогда в лазоревой Одессе, и не знал… В очередной раз пытаюсь все подсобрать. Когда уже нет даже Киева. Бляхи, балахоны. Каждую ночь и каждый вечер, когда приходят сумерки, так и не можешь определить — сгинела или не сгинела.
Топот, топот, мягкие слоновьи подошвы ставятся в пол. Мягкие, удушающие. В раджпутских подземельях, сокровищницах — лягушонок Маугли вылез весь черный. Но у него такое гладкое, греческое лицо.
Надо писать так, чтобы за воротами. А то ведь все равно получается «давай пожмем друг другу руки». Не говоря уже о заводской пропасти между Рембо и Рымбу. И как бы ни бушевало море, начинаем подсчитывать, какого оно разлива и какого вала. Потом будем смотреть еще, зачем ты понадобилась.
«Погрузка каторжников на галеры», но заметьте! — все тянут цепи, канаты в разные стороны. Даже пытки инквизиции — все в разные стороны. Главный ужас истории не в том, что она ужасна, а в том, что она вообще есть. Цветочные цепи Ямы. Тем более если на заднем плане городская ратуша или башня. Можно молиться на нее, можно с демонстрациями подходить, пинать ногами. Или требовать больше свидомости. Все равно вокруг поля стрекочущих кузнечиков. А также — волчья ягода, дурман, белладонна.
«Нападение разбойников», «Прибытие каторжников» — руки-ноги по-разному поставлены, но ты не волнуйся, все там будем, всегда будут ступни как корни, как чумовые копыта, будут руки как ветки-плети. Точные значения цифр подсчитывались много раз, однако это ничего не меняет. Все останется дружбой или воем, а пленэр — недоступен.
Я хотел бы пройти до подземных лучащихся фигурок. К сожалению, они меня не пугают. Страшно лишь то, что в своих совокупности и многообразии они действуют на всех примерно так же, как на меня, одинаково.
«Среди тюремных стен, казематов или перед фасадами разрушившихся храмов — всюду пылкие удары кисти, акцентировано выпяченная мускулатура, остроконечные шляпы, складки одежд. Нервная энергия его фигур, которые дрожат, вибрируют, но при этом всегда мрачны, сдержаны и неулыбчивы. С запавшими глазами, острыми носами, заросшими подбородками они кажутся окаменевшими, подобно головам римских фонтанов, однако, в отличие от классических гротескных орнаментов, это игроки, которым не хватает игривости» (М. Риккарди-Кубитт).
Когда у нас нет родины, мы пребываем в меланхолическом бездействии. Когда родина появляется, мы тоже рискуем оказаться в бездействии, но иного рода — неподвижно-суетливом, патетическом и неулыбчивом.
О-хо-хо! Что я вижу! Вакх пытается водрузить на себя корону — а она, сука, тяжелая, вроде самовара. Сзади — так вообще уже не люди, но клубеньки какие-то. Что же, до утра мы, конечно, протянем с этим шествием. И не знаю, стоит ли думать о «потом».
Песни папы, песни дедушки, песни девушки, песни доченьки, песни южных славян. Непонятно только, зачем еще ведем подсчет голосов, лайков, квадратных метров выставочных пространств. Все эти шубы.
Напружинившись, выставив бедра, колени. Тростник идет сквозь лес, выставив колени. Режет бутылочку и делает вид, что это правда-матка. Веселье как подсадная утка, с которой Господь охотится на нас.
Следствие ведут грибки, кочанчики. У них свадебный банкет. Они под тентом. Упираемся носом в волну. Локтями. И бежит по рядам хохолками.
Как узнать ярость мира и при этом остаться в ней, чтобы не со стороны?! Опьянение здесь не подходит — ты уже валишься с ног. Сновидение здесь не подходит — тебя же там нет. Сюрреалистические практики здесь не подходят — это завод невсамделишный, дубильня, кожевня. Дали, Танги, Миро, Мишо. Не говоря уже о Магритте — это вообще для молодежи.
Остаются любовь, мордобитие, Майдан.
вас может заинтересовать

