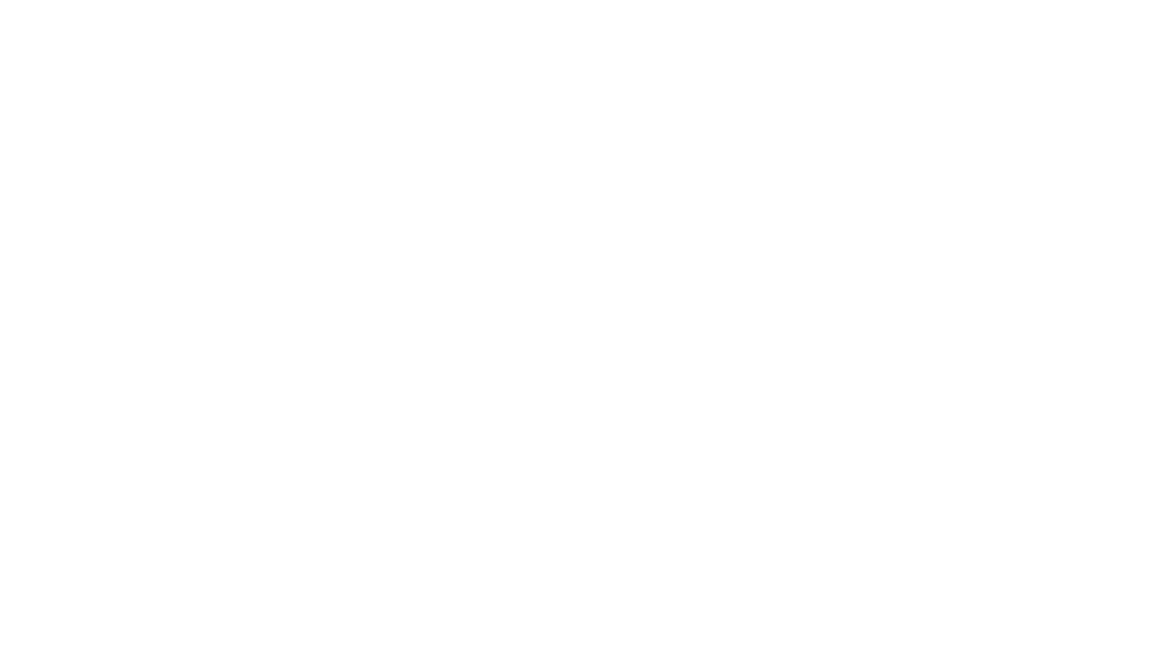
Энеа Сильвио Пикколомини
История о двух влюбленных
Фрагмент
Покинув шафранное ложе Тифона, Аврора уже рассевала желанный день[1], а вскоре Аполлон, вещам их цвет возвращая, воскрешает Эвриала, который его дожидался. Почел он себя счастливым и блаженным, увидев себя смешавшимся с толпою слуг и ни для кого не знакомым. Он принялся за дело и, войдя в дом Лукреции, взвалил на себя зерно. Сложив пшеницу в амбаре, он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой. Она его пропустила; отворив двери, он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: «Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям». Лукреция же, хотя сама все устроила, при первой встрече оцепенела, думая, что не Эвриала видит, но призрак, и не могла себя убедить, что столь великий муж пошел на такие опасности. Но когда среди объятий и поцелуев узнала она своего Эвриала: «Это ты, — говорит, — бедненький, ты здесь, Эвриал?» — и, с разлившимся по щекам румянцем, прильнула к нему теснее и, целуя в лоб, скоро начала опять: «Ох, каким опасностям ты себя подверг! Что еще сказать? Теперь знаю, сколь я тебе дорога; теперь я испытала твою любовь — но и ты найдешь меня такою же. Пусть только боги благосклонствуют нашим судьбам и любви нашей пошлют попутный ветер. Пока в сих членах правит дыханье[2], никто, кроме тебя, не будет властен над Лукрецией, даже и муж, если справедливо называть мужем того, кто был мне дан против моей воли и с кем мое сердце никогда не соглашалось. Ну же, моя отрада, моя утеха, скинь этот мешок, покажись мне, каков ты есть; сбрось обличье носильщика, избавься от этих веревок, дай мне увидеть Эвриала».
Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни». Что делать колеблющемуся Эвриалу? Подчиняется воле женщины. Она же, двери распахнув, возвращается на свой шелк. Тут Менелай входит вместе с Бертом, ища кое-какие записи, касающиеся до государственных дел. Когда же они не обнаруживаются ни в одной из шкатулок: «Может, окажутся в нашем тайнике, — говорит Менелай. — Лукреция, принеси свет, надобно поглядеть там внутри». Сими словами устрашенный, Эвриал холодеет и начинает уже ненавидеть Лукрецию. «Какой же я дурак! — говорит он сам себе. — Кто меня заставлял сюда прийти, кроме моего безрассудства? Теперь я схвачен, теперь опозорен, теперь милости Цезаря лишусь… да что там милости — хоть бы жизнь уцелела! Кто меня живого выведет отсюда? Смерть моя несомненна. Какой же сумасброд, из глупцов глупейший! По своей воле угодил я в эту яму. Что в этих радостях любви, если они такой ценой покупаются? Утеха коротка, а печали бесконечны. Если б мы претерпевали это ради царства небесного!.. Удивительна глупость людская: краткие труды не хотим сносить ради долговечных радостей, но для любви, чьи услады сходны с дымом, мы ввергаемся в несметные тяготы. Да вот и я сам — примером, притчею стану для всех! Не ведаю, есть ли тут выход. Если какой из богов вытащит меня отсюда, впредь я в силках любви не увязну. Боже, исторгни меня отсюда, пощади мою юность, не осуди моего неведения, сохрани меня, чтобы я покаялся в этих прегрешениях! Не любила меня Лукреция, но захотела поймать, как оленя в тенета. Вот пришел день мой; никто мне помочь не сможет, кроме Тебя, Боже мой. Слышал я часто о женских плутнях и не подумал, как их избегнуть. Но если в этот раз выскользну, наперед никакая женская ловушка меня не одурачит».
Не меньшие тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл».
Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать. Мы счастливее от удачи, чем от проницательности.
Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни». Что делать колеблющемуся Эвриалу? Подчиняется воле женщины. Она же, двери распахнув, возвращается на свой шелк. Тут Менелай входит вместе с Бертом, ища кое-какие записи, касающиеся до государственных дел. Когда же они не обнаруживаются ни в одной из шкатулок: «Может, окажутся в нашем тайнике, — говорит Менелай. — Лукреция, принеси свет, надобно поглядеть там внутри». Сими словами устрашенный, Эвриал холодеет и начинает уже ненавидеть Лукрецию. «Какой же я дурак! — говорит он сам себе. — Кто меня заставлял сюда прийти, кроме моего безрассудства? Теперь я схвачен, теперь опозорен, теперь милости Цезаря лишусь… да что там милости — хоть бы жизнь уцелела! Кто меня живого выведет отсюда? Смерть моя несомненна. Какой же сумасброд, из глупцов глупейший! По своей воле угодил я в эту яму. Что в этих радостях любви, если они такой ценой покупаются? Утеха коротка, а печали бесконечны. Если б мы претерпевали это ради царства небесного!.. Удивительна глупость людская: краткие труды не хотим сносить ради долговечных радостей, но для любви, чьи услады сходны с дымом, мы ввергаемся в несметные тяготы. Да вот и я сам — примером, притчею стану для всех! Не ведаю, есть ли тут выход. Если какой из богов вытащит меня отсюда, впредь я в силках любви не увязну. Боже, исторгни меня отсюда, пощади мою юность, не осуди моего неведения, сохрани меня, чтобы я покаялся в этих прегрешениях! Не любила меня Лукреция, но захотела поймать, как оленя в тенета. Вот пришел день мой; никто мне помочь не сможет, кроме Тебя, Боже мой. Слышал я часто о женских плутнях и не подумал, как их избегнуть. Но если в этот раз выскользну, наперед никакая женская ловушка меня не одурачит».
Не меньшие тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл».
Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать. Мы счастливее от удачи, чем от проницательности.
вас может заинтересовать
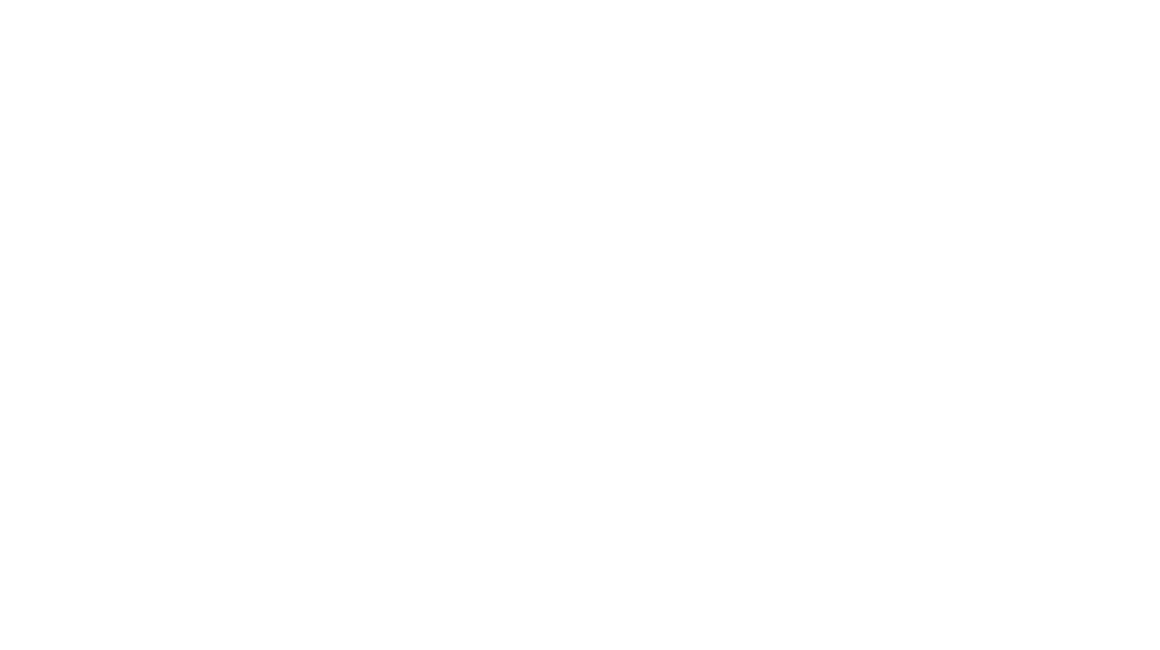
Энеа Сильвио Пикколомини
История о двух влюбленных
Фрагмент
Покинув шафранное ложе Тифона, Аврора уже рассевала желанный день[1], а вскоре Аполлон, вещам их цвет возвращая, воскрешает Эвриала, который его дожидался. Почел он себя счастливым и блаженным, увидев себя смешавшимся с толпою слуг и ни для кого не знакомым. Он принялся за дело и, войдя в дом Лукреции, взвалил на себя зерно. Сложив пшеницу в амбаре, он оказался последним из шедших вниз и, как ему было сказано, на середине лестницы толкнул дверь супружеских покоев, казавшуюся запертой. Она его пропустила; отворив двери, он видит одну Лукрецию, лежащую на шелковой ткани, и, подступив ближе: «Здравствуй, моя душа, — говорит, — здравствуй, единственный мой оплот и надежда моя! Наконец я застал тебя одну; наконец, как всегда желал, обниму тебя без свидетелей; теперь никакая стена, никакое расстояние не помеха моим поцелуям». Лукреция же, хотя сама все устроила, при первой встрече оцепенела, думая, что не Эвриала видит, но призрак, и не могла себя убедить, что столь великий муж пошел на такие опасности. Но когда среди объятий и поцелуев узнала она своего Эвриала: «Это ты, — говорит, — бедненький, ты здесь, Эвриал?» — и, с разлившимся по щекам румянцем, прильнула к нему теснее и, целуя в лоб, скоро начала опять: «Ох, каким опасностям ты себя подверг! Что еще сказать? Теперь знаю, сколь я тебе дорога; теперь я испытала твою любовь — но и ты найдешь меня такою же. Пусть только боги благосклонствуют нашим судьбам и любви нашей пошлют попутный ветер. Пока в сих членах правит дыханье[2], никто, кроме тебя, не будет властен над Лукрецией, даже и муж, если справедливо называть мужем того, кто был мне дан против моей воли и с кем мое сердце никогда не соглашалось. Ну же, моя отрада, моя утеха, скинь этот мешок, покажись мне, каков ты есть; сбрось обличье носильщика, избавься от этих веревок, дай мне увидеть Эвриала».
Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни». Что делать колеблющемуся Эвриалу? Подчиняется воле женщины. Она же, двери распахнув, возвращается на свой шелк. Тут Менелай входит вместе с Бертом, ища кое-какие записи, касающиеся до государственных дел. Когда же они не обнаруживаются ни в одной из шкатулок: «Может, окажутся в нашем тайнике, — говорит Менелай. — Лукреция, принеси свет, надобно поглядеть там внутри». Сими словами устрашенный, Эвриал холодеет и начинает уже ненавидеть Лукрецию. «Какой же я дурак! — говорит он сам себе. — Кто меня заставлял сюда прийти, кроме моего безрассудства? Теперь я схвачен, теперь опозорен, теперь милости Цезаря лишусь… да что там милости — хоть бы жизнь уцелела! Кто меня живого выведет отсюда? Смерть моя несомненна. Какой же сумасброд, из глупцов глупейший! По своей воле угодил я в эту яму. Что в этих радостях любви, если они такой ценой покупаются? Утеха коротка, а печали бесконечны. Если б мы претерпевали это ради царства небесного!.. Удивительна глупость людская: краткие труды не хотим сносить ради долговечных радостей, но для любви, чьи услады сходны с дымом, мы ввергаемся в несметные тяготы. Да вот и я сам — примером, притчею стану для всех! Не ведаю, есть ли тут выход. Если какой из богов вытащит меня отсюда, впредь я в силках любви не увязну. Боже, исторгни меня отсюда, пощади мою юность, не осуди моего неведения, сохрани меня, чтобы я покаялся в этих прегрешениях! Не любила меня Лукреция, но захотела поймать, как оленя в тенета. Вот пришел день мой; никто мне помочь не сможет, кроме Тебя, Боже мой. Слышал я часто о женских плутнях и не подумал, как их избегнуть. Но если в этот раз выскользну, наперед никакая женская ловушка меня не одурачит».
Не меньшие тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл».
Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать. Мы счастливее от удачи, чем от проницательности.
Вот уж он, скинув отрепье, блистал пурпуром и золотом, готовый к делам любви, как тут Сосия, стуча в двери: «Поберегитесь, — говорит, — любовники: спешит сюда Менелай, ища не знаю чего; скройте вашу измену, обманите мужа лукавством; нет надежды, что он выйдет». Тогда Лукреция говорит: «Есть небольшой тайник под кроватью, где наши драгоценности хранятся. Ты знаешь, что, я тебе писала, будет, коли муж застанет тебя со мною. Полезай туда, без опасностей будешь в темноте; не шевельнись, не чихни». Что делать колеблющемуся Эвриалу? Подчиняется воле женщины. Она же, двери распахнув, возвращается на свой шелк. Тут Менелай входит вместе с Бертом, ища кое-какие записи, касающиеся до государственных дел. Когда же они не обнаруживаются ни в одной из шкатулок: «Может, окажутся в нашем тайнике, — говорит Менелай. — Лукреция, принеси свет, надобно поглядеть там внутри». Сими словами устрашенный, Эвриал холодеет и начинает уже ненавидеть Лукрецию. «Какой же я дурак! — говорит он сам себе. — Кто меня заставлял сюда прийти, кроме моего безрассудства? Теперь я схвачен, теперь опозорен, теперь милости Цезаря лишусь… да что там милости — хоть бы жизнь уцелела! Кто меня живого выведет отсюда? Смерть моя несомненна. Какой же сумасброд, из глупцов глупейший! По своей воле угодил я в эту яму. Что в этих радостях любви, если они такой ценой покупаются? Утеха коротка, а печали бесконечны. Если б мы претерпевали это ради царства небесного!.. Удивительна глупость людская: краткие труды не хотим сносить ради долговечных радостей, но для любви, чьи услады сходны с дымом, мы ввергаемся в несметные тяготы. Да вот и я сам — примером, притчею стану для всех! Не ведаю, есть ли тут выход. Если какой из богов вытащит меня отсюда, впредь я в силках любви не увязну. Боже, исторгни меня отсюда, пощади мою юность, не осуди моего неведения, сохрани меня, чтобы я покаялся в этих прегрешениях! Не любила меня Лукреция, но захотела поймать, как оленя в тенета. Вот пришел день мой; никто мне помочь не сможет, кроме Тебя, Боже мой. Слышал я часто о женских плутнях и не подумал, как их избегнуть. Но если в этот раз выскользну, наперед никакая женская ловушка меня не одурачит».
Не меньшие тревоги осаждали и Лукрецию, которая не только за свое, но и за спасение возлюбленного опасалась. Поскольку, однако, в незапных опасностях у женщин изобретательность живее, чем у мужчин, обстоятельства подали ей средство. «Ну-ка, дорогой, — говорит она, — вон там, на окне, ларчик, в который, помнится мне, ты прятал какие-то бумаги: поглядим, не найдутся ли там твои записи» — и, быстро подойдя, будто с намерением открыть ларчик, она украдкой толкнула его вниз, словно он по случайности вывалился. «Ох, мой дорогой! — восклицает она: — поторопись, как бы не случилось нам вреда: ларчик выпал из окошка; поди быстрее, не то украшения или бумаги пропадут! Ступайте, ступайте оба, что стоите? Я отсюда погляжу, чтоб никто не украл».
Вот женская дерзость! Поди же верь после этого женщинам. Ни у кого нет таких острых глаз, чтобы не вдаться в обман. Тот лишь не бывал одурачен, кого жена не думала обманывать. Мы счастливее от удачи, чем от проницательности.
вас может заинтересовать

