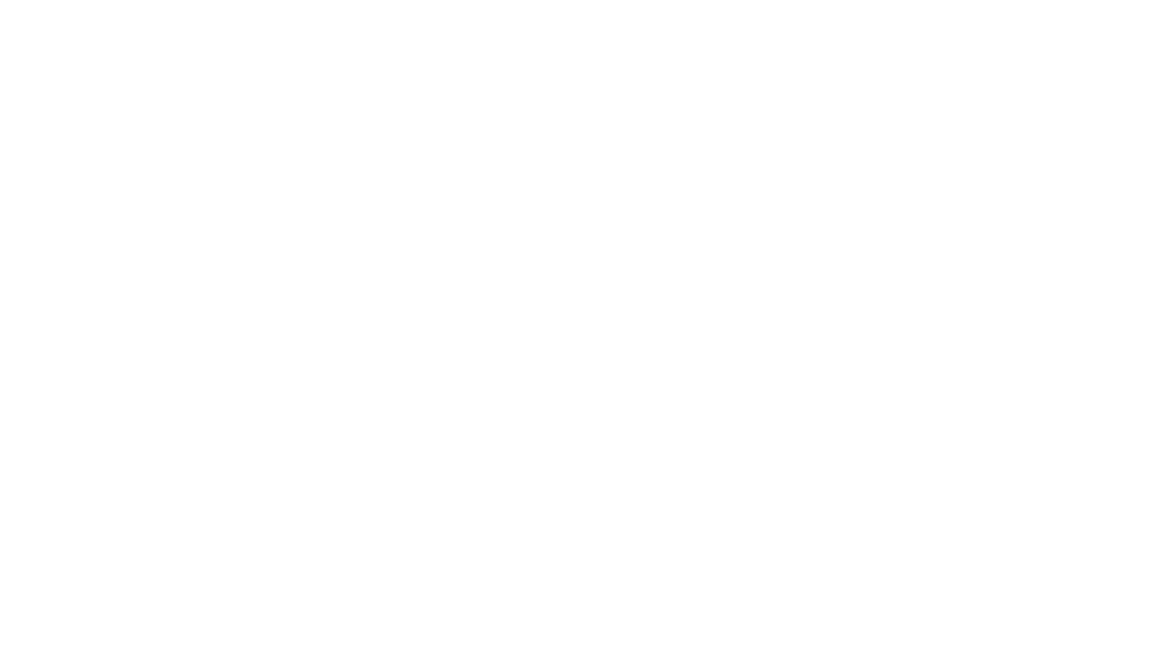
Александр Скидан
Путеводитель по N
Фрагмент
Он возвращался, возвращался опять под халкионическое небо Ниццы и снова туда, где ему впервые сверкнула молния мысли. В этом кружении было нечто от пустоты морского пейзажа ранним утром, когда разведенный хлоралгидрат преломляет свет; тогда с бесконечно ясным сознанием он начинал ощущать бесчисленное множество тонких дрожаний до самых пальцев ног: глубина счастья, которой он упивал ся снова и снова. Изматывающий сеанс. Она не видит перед собой лица, только голос. Потом они снялись в Люцерне на дагерротип. Втроем: она — с плеткой, он — впряженный в повозку (в более чем двусмысленной позе, с ослиной физиономией, которую теперь уже никогда не забыть, остается приветствовать ее как великолепную маску выкриками «И-а») и следующий за ними тенью Пауль. На его восторги по поводу Бизе она рассказала им историю табака. Она совершенно бесстыдна. Как твоя философия, твоя персонифицированная философия, и было невозможно понять, говорит ли он это серьезно или усердствует в желании показаться более льстецом, нежели то было на самом деле.
Широкие высушенные листья скручиваются вручную, тыльной стороной ладони вдоль раздвинутых бедер, вниз, к коленной чашечке (она показала жестом, не оставлявшим никаких сомнений, шорох шелка скомкал то невидимое, что еще мгновенье назад составляло незыблемую геометрию: стены меблированной комнаты медленно осыпались теперь к их ногам). Он встал, подошел к окну, потом вернулся. Это похоже на магический ритуал. За растительностью приходится следить, равно как и за чистоплотностью, для чего на фабриках проходят специальный осмотр. Во время месячных... впрочем, у него уже кружилась голова, впервые в жизни он почувствовал во рту этот несравненный солнечный вкус. То было желание. Он прикусил губу; Пауль чиркнул спичкой, и серная головка, распавшись, оставила на сетчатке слепой отпечаток. Росту волос препятствуют отвратительной гигиеной. Европа отравит себя менструальной кровью. Она будет лежать в руинах, как лежит в руинах великая империя древних ацтеков. Но у него нет никакой философии, по крайней мере в том смысле, какой придают этому слову немцы. Во время представления, под щелканье кастаньет, почувствовав жжение в животе, он устыдился своего стыда, своего испуга. Тогда-то его и прорвало. Рвота не прекращалась, он захлебывался в своих отправлениях, девственница, у которой выкидыш дымится в мокрых ногах. В нем не было ничего от Духа Святого. От нее не было никаких известий. Фрау Фогельфрай, с едва заметным акцентом произнесла она, подымаясь с кушетки.
Фрау Фогельфрай, вот как. Рояль еще глухо звучал, но где-то не здесь. Третье ухо. Ноты Брамса в шагреневом переплете. Как он вспылил, и как тот, другой, остался холодным. Она облизала губы перед зеркалом в раме орехового дерева и спрятала помаду. В Байрейте давали такие кольца, в Байрейте давали, в Трибшене — никогда. До, Рэ, Ми, Лу. С пальца на палец переметнулся электрический заряд. Верит ли он в метемпсихозу? Это Косима, его жена. Пришлось его потом снять. Между тем, между тем ничего не было между ними. Дон Гуан познания: у него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами; он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно «горькому» познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. (Вы не знаете, что такое водка; она, кажется, слушала кого-то другого; водка не бывает крепкой, она бывает в снегу, петербургские динамитчики, что вы носитесь с ними, как с белыми ночами г-на Достоевского,— все это свалилось на меня точно во сне, но я всегда догадывался, что в Петербурге у него должны быть читатели.) Так вот, в конце концов ему хочется ада, да, ада, как ей хотелось шампанского на санном бегу, с пастором, потом с сыном пастора, просто какая-то пастораль... это — последнее познание, которое его увлекает. Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное. И тогда он должен остаться навеки пригвожденным к разочарованию и превратиться даже в каменного гостя с требованием ужина познания, в котором он больше никогда не будет принимать участия. Потому что уже весь мир не в состоянии дать этому голодному ни одного куска.
Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью. На площади Св. Марка он выпил чаю (пейзаж, кажется, мог с совершенной легкостью обойтись без него) и отправился бродить по улицам. Прогулка принесла на сей раз полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее. Удушливая, нестерпимая жара нагрела воздух, он был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тротуарах изматывала, а не развлекала, итальянская речь, как никогда, казалась взбалмошной, почти инфантильной. Чем дальше он шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сирокко,— возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказываются видеть, грудь стеснило, грудь будет теснить, его бросит в жар, то в жар, то в холод, кровь стучала. Спасаясь от сутолоки, он пошел по мосткам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов. Кишечник. На тихой маленькой площади, в одном из забытых туристами, тихих уголков, он присел на край фонтана, отер пот со лба и пришел в себя: надо было уезжать. В который раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город в это время года приносит ему только вред. Упорствовать было бы неразумно, надеяться на перемену ветра — бессмысленно. Решение принято. На ближайшей стоянке он сел в гондолу и по сумрачному лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами, огибая скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными вывесками на фасадах, отражения которых колебались в густой воде, поплыл обратно. Уничтоженный, абсолютно разбитый. Он пообедал с Питером, тот был молчалив, ни один театр не принимал к постановке его «Венецианского льва»; душный вечер он провел в качалке на террасе, выходившей в сад. Прежде чем отправиться спать, упаковал вещи. Пароходик пересек лагуну. Общественные сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта и тут же исчезла, потянулся длинный ряд дворцов, а когда водная дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и стремительная. Он плакал.
Его кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у него жар. Конечно, хотя этого и нельзя доказать, его организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения он страдает крайней слабостью желудочной системы (запоры, рвота со слизью). Болезнь глаз, доводящая его подчас до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как только возрастают его жизненные силы, возвращается и зрение. Он мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского, не оседлым Буддой, но Буддой в седле. Интересно, что думает по этому поводу д-р. Лизхен была вне себя, она кричала, потом успокоилась и села писать письмо. Тесей становится абсурдным, писала она, Тесей становится добродетельным. Он лежит в детской коляске, поджав коленки до самого подбородка. Он свернулся в клубок, он тянется розовыми губками к материнской груди. Двуколка, в нее запряжены двое, Саломея, танцующая, и тот, другой. Усатый младенец, поигрывающий сабелькой. Млечный путь от соска к соску: звездная дружба. Они шепчутся. В Петербурге он бы принимал нигилин — не человек, динамит. Куда только не увлекает она своего рогоносца, вынужденного делить ее... с кем? Но если я действительно люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело мое сострадание: во мне погибель всех действующих лиц этой пасторали с привлечением мифологических персонажей. Это и есть моя последняя любовь к последнему философу: я уничтожаю его. Тринадцатого февраля, в Венеции, умер Вагнер.
Широкие высушенные листья скручиваются вручную, тыльной стороной ладони вдоль раздвинутых бедер, вниз, к коленной чашечке (она показала жестом, не оставлявшим никаких сомнений, шорох шелка скомкал то невидимое, что еще мгновенье назад составляло незыблемую геометрию: стены меблированной комнаты медленно осыпались теперь к их ногам). Он встал, подошел к окну, потом вернулся. Это похоже на магический ритуал. За растительностью приходится следить, равно как и за чистоплотностью, для чего на фабриках проходят специальный осмотр. Во время месячных... впрочем, у него уже кружилась голова, впервые в жизни он почувствовал во рту этот несравненный солнечный вкус. То было желание. Он прикусил губу; Пауль чиркнул спичкой, и серная головка, распавшись, оставила на сетчатке слепой отпечаток. Росту волос препятствуют отвратительной гигиеной. Европа отравит себя менструальной кровью. Она будет лежать в руинах, как лежит в руинах великая империя древних ацтеков. Но у него нет никакой философии, по крайней мере в том смысле, какой придают этому слову немцы. Во время представления, под щелканье кастаньет, почувствовав жжение в животе, он устыдился своего стыда, своего испуга. Тогда-то его и прорвало. Рвота не прекращалась, он захлебывался в своих отправлениях, девственница, у которой выкидыш дымится в мокрых ногах. В нем не было ничего от Духа Святого. От нее не было никаких известий. Фрау Фогельфрай, с едва заметным акцентом произнесла она, подымаясь с кушетки.
Фрау Фогельфрай, вот как. Рояль еще глухо звучал, но где-то не здесь. Третье ухо. Ноты Брамса в шагреневом переплете. Как он вспылил, и как тот, другой, остался холодным. Она облизала губы перед зеркалом в раме орехового дерева и спрятала помаду. В Байрейте давали такие кольца, в Байрейте давали, в Трибшене — никогда. До, Рэ, Ми, Лу. С пальца на палец переметнулся электрический заряд. Верит ли он в метемпсихозу? Это Косима, его жена. Пришлось его потом снять. Между тем, между тем ничего не было между ними. Дон Гуан познания: у него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами; он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно «горькому» познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. (Вы не знаете, что такое водка; она, кажется, слушала кого-то другого; водка не бывает крепкой, она бывает в снегу, петербургские динамитчики, что вы носитесь с ними, как с белыми ночами г-на Достоевского,— все это свалилось на меня точно во сне, но я всегда догадывался, что в Петербурге у него должны быть читатели.) Так вот, в конце концов ему хочется ада, да, ада, как ей хотелось шампанского на санном бегу, с пастором, потом с сыном пастора, просто какая-то пастораль... это — последнее познание, которое его увлекает. Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное. И тогда он должен остаться навеки пригвожденным к разочарованию и превратиться даже в каменного гостя с требованием ужина познания, в котором он больше никогда не будет принимать участия. Потому что уже весь мир не в состоянии дать этому голодному ни одного куска.
Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью. На площади Св. Марка он выпил чаю (пейзаж, кажется, мог с совершенной легкостью обойтись без него) и отправился бродить по улицам. Прогулка принесла на сей раз полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее. Удушливая, нестерпимая жара нагрела воздух, он был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тротуарах изматывала, а не развлекала, итальянская речь, как никогда, казалась взбалмошной, почти инфантильной. Чем дальше он шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сирокко,— возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказываются видеть, грудь стеснило, грудь будет теснить, его бросит в жар, то в жар, то в холод, кровь стучала. Спасаясь от сутолоки, он пошел по мосткам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов. Кишечник. На тихой маленькой площади, в одном из забытых туристами, тихих уголков, он присел на край фонтана, отер пот со лба и пришел в себя: надо было уезжать. В который раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город в это время года приносит ему только вред. Упорствовать было бы неразумно, надеяться на перемену ветра — бессмысленно. Решение принято. На ближайшей стоянке он сел в гондолу и по сумрачному лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами, огибая скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными вывесками на фасадах, отражения которых колебались в густой воде, поплыл обратно. Уничтоженный, абсолютно разбитый. Он пообедал с Питером, тот был молчалив, ни один театр не принимал к постановке его «Венецианского льва»; душный вечер он провел в качалке на террасе, выходившей в сад. Прежде чем отправиться спать, упаковал вещи. Пароходик пересек лагуну. Общественные сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта и тут же исчезла, потянулся длинный ряд дворцов, а когда водная дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и стремительная. Он плакал.
Его кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у него жар. Конечно, хотя этого и нельзя доказать, его организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения он страдает крайней слабостью желудочной системы (запоры, рвота со слизью). Болезнь глаз, доводящая его подчас до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как только возрастают его жизненные силы, возвращается и зрение. Он мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского, не оседлым Буддой, но Буддой в седле. Интересно, что думает по этому поводу д-р. Лизхен была вне себя, она кричала, потом успокоилась и села писать письмо. Тесей становится абсурдным, писала она, Тесей становится добродетельным. Он лежит в детской коляске, поджав коленки до самого подбородка. Он свернулся в клубок, он тянется розовыми губками к материнской груди. Двуколка, в нее запряжены двое, Саломея, танцующая, и тот, другой. Усатый младенец, поигрывающий сабелькой. Млечный путь от соска к соску: звездная дружба. Они шепчутся. В Петербурге он бы принимал нигилин — не человек, динамит. Куда только не увлекает она своего рогоносца, вынужденного делить ее... с кем? Но если я действительно люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело мое сострадание: во мне погибель всех действующих лиц этой пасторали с привлечением мифологических персонажей. Это и есть моя последняя любовь к последнему философу: я уничтожаю его. Тринадцатого февраля, в Венеции, умер Вагнер.
вас может заинтересовать
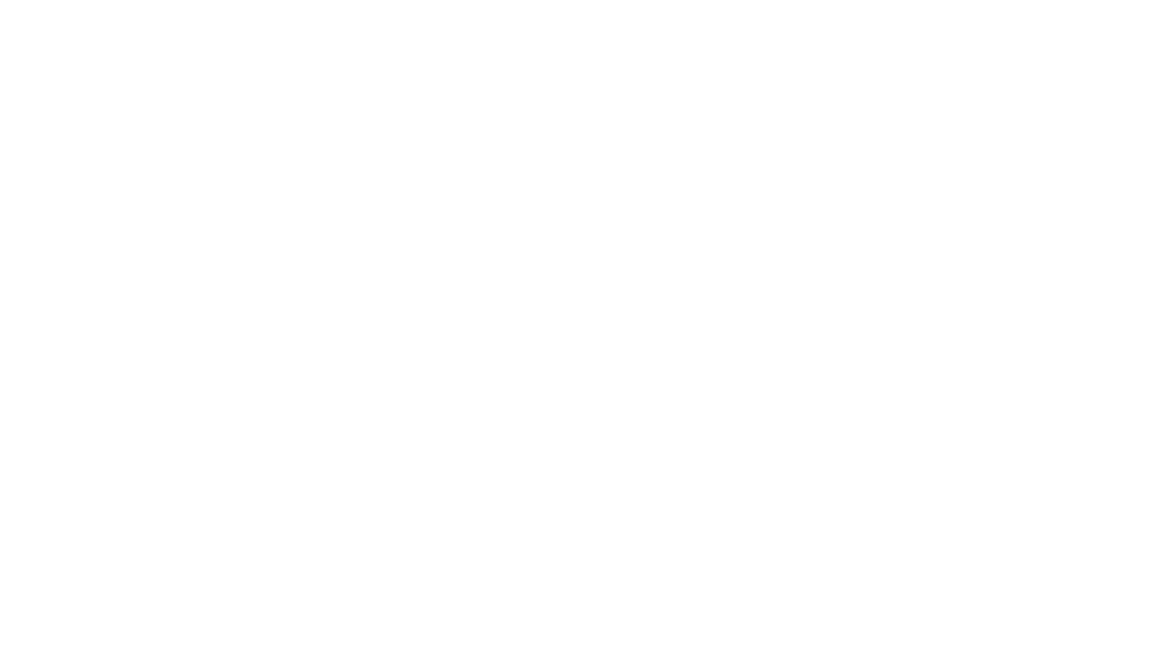
Александр Скидан
Путеводитель по N
Фрагмент
Он возвращался, возвращался опять под халкионическое небо Ниццы и снова туда, где ему впервые сверкнула молния мысли. В этом кружении было нечто от пустоты морского пейзажа ранним утром, когда разведенный хлоралгидрат преломляет свет; тогда с бесконечно ясным сознанием он начинал ощущать бесчисленное множество тонких дрожаний до самых пальцев ног: глубина счастья, которой он упивал ся снова и снова. Изматывающий сеанс. Она не видит перед собой лица, только голос. Потом они снялись в Люцерне на дагерротип. Втроем: она — с плеткой, он — впряженный в повозку (в более чем двусмысленной позе, с ослиной физиономией, которую теперь уже никогда не забыть, остается приветствовать ее как великолепную маску выкриками «И-а») и следующий за ними тенью Пауль. На его восторги по поводу Бизе она рассказала им историю табака. Она совершенно бесстыдна. Как твоя философия, твоя персонифицированная философия, и было невозможно понять, говорит ли он это серьезно или усердствует в желании показаться более льстецом, нежели то было на самом деле.
Широкие высушенные листья скручиваются вручную, тыльной стороной ладони вдоль раздвинутых бедер, вниз, к коленной чашечке (она показала жестом, не оставлявшим никаких сомнений, шорох шелка скомкал то невидимое, что еще мгновенье назад составляло незыблемую геометрию: стены меблированной комнаты медленно осыпались теперь к их ногам). Он встал, подошел к окну, потом вернулся. Это похоже на магический ритуал. За растительностью приходится следить, равно как и за чистоплотностью, для чего на фабриках проходят специальный осмотр. Во время месячных... впрочем, у него уже кружилась голова, впервые в жизни он почувствовал во рту этот несравненный солнечный вкус. То было желание. Он прикусил губу; Пауль чиркнул спичкой, и серная головка, распавшись, оставила на сетчатке слепой отпечаток. Росту волос препятствуют отвратительной гигиеной. Европа отравит себя менструальной кровью. Она будет лежать в руинах, как лежит в руинах великая империя древних ацтеков. Но у него нет никакой философии, по крайней мере в том смысле, какой придают этому слову немцы. Во время представления, под щелканье кастаньет, почувствовав жжение в животе, он устыдился своего стыда, своего испуга. Тогда-то его и прорвало. Рвота не прекращалась, он захлебывался в своих отправлениях, девственница, у которой выкидыш дымится в мокрых ногах. В нем не было ничего от Духа Святого. От нее не было никаких известий. Фрау Фогельфрай, с едва заметным акцентом произнесла она, подымаясь с кушетки.
Фрау Фогельфрай, вот как. Рояль еще глухо звучал, но где-то не здесь. Третье ухо. Ноты Брамса в шагреневом переплете. Как он вспылил, и как тот, другой, остался холодным. Она облизала губы перед зеркалом в раме орехового дерева и спрятала помаду. В Байрейте давали такие кольца, в Байрейте давали, в Трибшене — никогда. До, Рэ, Ми, Лу. С пальца на палец переметнулся электрический заряд. Верит ли он в метемпсихозу? Это Косима, его жена. Пришлось его потом снять. Между тем, между тем ничего не было между ними. Дон Гуан познания: у него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами; он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно «горькому» познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. (Вы не знаете, что такое водка; она, кажется, слушала кого-то другого; водка не бывает крепкой, она бывает в снегу, петербургские динамитчики, что вы носитесь с ними, как с белыми ночами г-на Достоевского,— все это свалилось на меня точно во сне, но я всегда догадывался, что в Петербурге у него должны быть читатели.) Так вот, в конце концов ему хочется ада, да, ада, как ей хотелось шампанского на санном бегу, с пастором, потом с сыном пастора, просто какая-то пастораль... это — последнее познание, которое его увлекает. Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное. И тогда он должен остаться навеки пригвожденным к разочарованию и превратиться даже в каменного гостя с требованием ужина познания, в котором он больше никогда не будет принимать участия. Потому что уже весь мир не в состоянии дать этому голодному ни одного куска.
Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью. На площади Св. Марка он выпил чаю (пейзаж, кажется, мог с совершенной легкостью обойтись без него) и отправился бродить по улицам. Прогулка принесла на сей раз полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее. Удушливая, нестерпимая жара нагрела воздух, он был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тротуарах изматывала, а не развлекала, итальянская речь, как никогда, казалась взбалмошной, почти инфантильной. Чем дальше он шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сирокко,— возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказываются видеть, грудь стеснило, грудь будет теснить, его бросит в жар, то в жар, то в холод, кровь стучала. Спасаясь от сутолоки, он пошел по мосткам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов. Кишечник. На тихой маленькой площади, в одном из забытых туристами, тихих уголков, он присел на край фонтана, отер пот со лба и пришел в себя: надо было уезжать. В который раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город в это время года приносит ему только вред. Упорствовать было бы неразумно, надеяться на перемену ветра — бессмысленно. Решение принято. На ближайшей стоянке он сел в гондолу и по сумрачному лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами, огибая скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными вывесками на фасадах, отражения которых колебались в густой воде, поплыл обратно. Уничтоженный, абсолютно разбитый. Он пообедал с Питером, тот был молчалив, ни один театр не принимал к постановке его «Венецианского льва»; душный вечер он провел в качалке на террасе, выходившей в сад. Прежде чем отправиться спать, упаковал вещи. Пароходик пересек лагуну. Общественные сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта и тут же исчезла, потянулся длинный ряд дворцов, а когда водная дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и стремительная. Он плакал.
Его кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у него жар. Конечно, хотя этого и нельзя доказать, его организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения он страдает крайней слабостью желудочной системы (запоры, рвота со слизью). Болезнь глаз, доводящая его подчас до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как только возрастают его жизненные силы, возвращается и зрение. Он мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского, не оседлым Буддой, но Буддой в седле. Интересно, что думает по этому поводу д-р. Лизхен была вне себя, она кричала, потом успокоилась и села писать письмо. Тесей становится абсурдным, писала она, Тесей становится добродетельным. Он лежит в детской коляске, поджав коленки до самого подбородка. Он свернулся в клубок, он тянется розовыми губками к материнской груди. Двуколка, в нее запряжены двое, Саломея, танцующая, и тот, другой. Усатый младенец, поигрывающий сабелькой. Млечный путь от соска к соску: звездная дружба. Они шепчутся. В Петербурге он бы принимал нигилин — не человек, динамит. Куда только не увлекает она своего рогоносца, вынужденного делить ее... с кем? Но если я действительно люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело мое сострадание: во мне погибель всех действующих лиц этой пасторали с привлечением мифологических персонажей. Это и есть моя последняя любовь к последнему философу: я уничтожаю его. Тринадцатого февраля, в Венеции, умер Вагнер.
Широкие высушенные листья скручиваются вручную, тыльной стороной ладони вдоль раздвинутых бедер, вниз, к коленной чашечке (она показала жестом, не оставлявшим никаких сомнений, шорох шелка скомкал то невидимое, что еще мгновенье назад составляло незыблемую геометрию: стены меблированной комнаты медленно осыпались теперь к их ногам). Он встал, подошел к окну, потом вернулся. Это похоже на магический ритуал. За растительностью приходится следить, равно как и за чистоплотностью, для чего на фабриках проходят специальный осмотр. Во время месячных... впрочем, у него уже кружилась голова, впервые в жизни он почувствовал во рту этот несравненный солнечный вкус. То было желание. Он прикусил губу; Пауль чиркнул спичкой, и серная головка, распавшись, оставила на сетчатке слепой отпечаток. Росту волос препятствуют отвратительной гигиеной. Европа отравит себя менструальной кровью. Она будет лежать в руинах, как лежит в руинах великая империя древних ацтеков. Но у него нет никакой философии, по крайней мере в том смысле, какой придают этому слову немцы. Во время представления, под щелканье кастаньет, почувствовав жжение в животе, он устыдился своего стыда, своего испуга. Тогда-то его и прорвало. Рвота не прекращалась, он захлебывался в своих отправлениях, девственница, у которой выкидыш дымится в мокрых ногах. В нем не было ничего от Духа Святого. От нее не было никаких известий. Фрау Фогельфрай, с едва заметным акцентом произнесла она, подымаясь с кушетки.
Фрау Фогельфрай, вот как. Рояль еще глухо звучал, но где-то не здесь. Третье ухо. Ноты Брамса в шагреневом переплете. Как он вспылил, и как тот, другой, остался холодным. Она облизала губы перед зеркалом в раме орехового дерева и спрятала помаду. В Байрейте давали такие кольца, в Байрейте давали, в Трибшене — никогда. До, Рэ, Ми, Лу. С пальца на палец переметнулся электрический заряд. Верит ли он в метемпсихозу? Это Косима, его жена. Пришлось его потом снять. Между тем, между тем ничего не было между ними. Дон Гуан познания: у него нет любви к вещам, которые он познает, но он имеет ум, страсть и увлечение погоней за познанием и его интригами; он способен подняться до высших и отдаленнейших звезд познания, туда, где ему уже не к чему будет стремиться, разве только к абсолютно «горькому» познанию, подобно пьянице, который в конце пьет полынную и крепкую водку. (Вы не знаете, что такое водка; она, кажется, слушала кого-то другого; водка не бывает крепкой, она бывает в снегу, петербургские динамитчики, что вы носитесь с ними, как с белыми ночами г-на Достоевского,— все это свалилось на меня точно во сне, но я всегда догадывался, что в Петербурге у него должны быть читатели.) Так вот, в конце концов ему хочется ада, да, ада, как ей хотелось шампанского на санном бегу, с пастором, потом с сыном пастора, просто какая-то пастораль... это — последнее познание, которое его увлекает. Может быть, для того, чтобы и оно разочаровало его, как все познанное. И тогда он должен остаться навеки пригвожденным к разочарованию и превратиться даже в каменного гостя с требованием ужина познания, в котором он больше никогда не будет принимать участия. Потому что уже весь мир не в состоянии дать этому голодному ни одного куска.
Два часа он провел в своей комнате, а под вечер поехал на вапоретто по лагуне, пахнувшей гнилью. На площади Св. Марка он выпил чаю (пейзаж, кажется, мог с совершенной легкостью обойтись без него) и отправился бродить по улицам. Прогулка принесла на сей раз полную перемену настроения и планов на ближайшее будущее. Удушливая, нестерпимая жара нагрела воздух, он был так плотен, что запахи, проникавшие из домов, лавок, харчевен, масляный чад, облака духов клубились в нем, не рассеиваясь. Дым от папиросы висел неподвижно и лишь долгое время спустя начинал расходиться. Толчея на тротуарах изматывала, а не развлекала, итальянская речь, как никогда, казалась взбалмошной, почти инфантильной. Чем дальше он шел, тем назойливее овладевало им то мерзкое состояние, которое может вызвать лишь морской воздух и сирокко,— возбуждение и в то же время упадок сил. Липкий пот выступил у него на теле, глаза отказываются видеть, грудь стеснило, грудь будет теснить, его бросит в жар, то в жар, то в холод, кровь стучала. Спасаясь от сутолоки, он пошел по мосткам в кварталы бедноты. Там его одолели нищие, он задыхался от тошнотворных испарений каналов. Кишечник. На тихой маленькой площади, в одном из забытых туристами, тихих уголков, он присел на край фонтана, отер пот со лба и пришел в себя: надо было уезжать. В который раз, и теперь уже неоспоримо, выяснилось, что этот город в это время года приносит ему только вред. Упорствовать было бы неразумно, надеяться на перемену ветра — бессмысленно. Решение принято. На ближайшей стоянке он сел в гондолу и по сумрачному лабиринту каналов, под изящными мраморными балконами, огибая скользкие углы зданий, мимо печальных дворцов с фирменными вывесками на фасадах, отражения которых колебались в густой воде, поплыл обратно. Уничтоженный, абсолютно разбитый. Он пообедал с Питером, тот был молчалив, ни один театр не принимал к постановке его «Венецианского льва»; душный вечер он провел в качалке на террасе, выходившей в сад. Прежде чем отправиться спать, упаковал вещи. Пароходик пересек лагуну. Общественные сады остались позади, еще раз возникла Пьяцетта и тут же исчезла, потянулся длинный ряд дворцов, а когда водная дорога повернула, показалась мраморная арка Риальто, великолепная и стремительная. Он плакал.
Его кровь бежит медленно. Никому никогда не удавалось обнаружить у него жар. Конечно, хотя этого и нельзя доказать, его организм не поражен никакой гастрической болезнью, но вследствие общего истощения он страдает крайней слабостью желудочной системы (запоры, рвота со слизью). Болезнь глаз, доводящая его подчас до слепоты, была не причиной, а только следствием; всякий раз, как только возрастают его жизненные силы, возвращается и зрение. Он мог бы стать Буддой Европы, что, конечно, было бы антиподом индийского, не оседлым Буддой, но Буддой в седле. Интересно, что думает по этому поводу д-р. Лизхен была вне себя, она кричала, потом успокоилась и села писать письмо. Тесей становится абсурдным, писала она, Тесей становится добродетельным. Он лежит в детской коляске, поджав коленки до самого подбородка. Он свернулся в клубок, он тянется розовыми губками к материнской груди. Двуколка, в нее запряжены двое, Саломея, танцующая, и тот, другой. Усатый младенец, поигрывающий сабелькой. Млечный путь от соска к соску: звездная дружба. Они шепчутся. В Петербурге он бы принимал нигилин — не человек, динамит. Куда только не увлекает она своего рогоносца, вынужденного делить ее... с кем? Но если я действительно люблю, я не хочу сострадать; мне опостылело мое сострадание: во мне погибель всех действующих лиц этой пасторали с привлечением мифологических персонажей. Это и есть моя последняя любовь к последнему философу: я уничтожаю его. Тринадцатого февраля, в Венеции, умер Вагнер.
вас может заинтересовать

