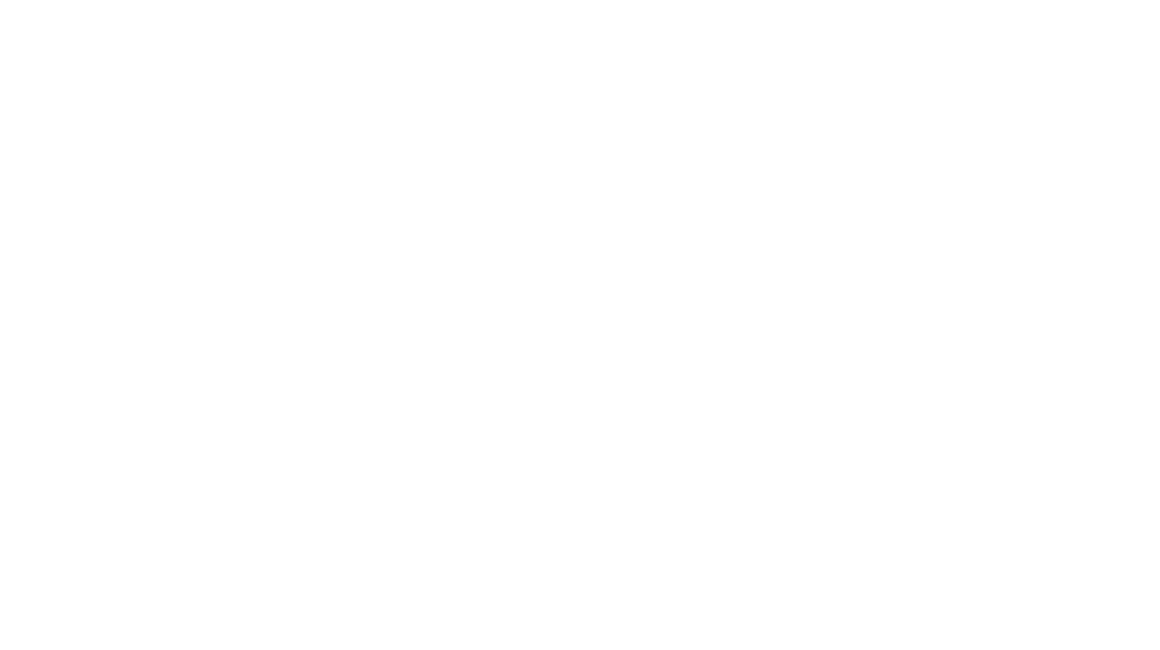
Станислав Снытко
Короткое время
***
Покинутые формы на берегу: чем и объяснялось, не взыскуя объяснения. Говорил себе: никакой истерики. Увитые каннелюры, пуля в средостении, клокочущая сердцем. «Больше никакой истории, даже если кажется, что она все еще длится, подобно позавчерашнему ожогу», — дабы сообщить тезисам убедительность, приставил ружье к виску неподсудного. Чем передать повселюдный укол, пронзивший представление об уникальности вещей, соединив эти бесполезные ожерелья в своего рода нотную карту? — С заколотыми на плечах булавками, с намертво вшитыми в оба лацкана снайперскими метками, с сомкнутыми, словно глаза, окошками фотокамер… Со сбитыми на поля страниц, отныне очищенных от слов, литерами вперемешку с едва приметными капельками детской крови и взрослых слез.
***
В разгар схватившего за горло летнего дня поднялся на верхнюю площадку башни. Что увидел? Градации синего, море и небо, пустой, без птиц или звуков, ветер. Ни кораблей, ни серой пены, ни гальки, ни смутно чернеющей полоски острова или берегов впереди, слева или справа. Камни. Море камней. Так, решил он, выглядят сгрудившиеся души. Инеем гладил их ветер днем, и стороной обходил огонь, если бы ночью не обрушивался на них криками мертвых сов, привязанных невидимыми зернистыми цепями к неподвижной зеленой воде, которой нет.
Еще немного, и вместо вида, открывшегося с верхней площадки башни, ему предстанут далекие предметы, погруженные в медленно застывающий воск времени, останавливающего себя, готового прерваться, но замирающего вполоборота, как зарапортовавшийся студент. Я вспомнил некоторые сцены, каждая из которых разом и опустошает меня — и наполняет до краев отчаянием. Трепетная псина, еженощно убегающая из дома, чтобы раз за разом возвращать себя хозяину, и далее, вновь и вновь, как ни в чем не бывало, пересекая порог…
Он встает с постели, влажный запах песка из открытого окна отзывается во рту забытым детским привкусом. Напоминающим о чем? Я закрываю глаза — и вздрагиваю от тончайшего ожога, полоснувшего внизу, по ноге, вдоль икры, — и, открыв глаза, вижу его, обнаженного, улыбающегося, с маленьким бритвенным лезвием в руке. Простыня становится красной, и я теряю сознание от вида своей крови… Криками гладил их ветер. Днем стороной обходил огонь, чтобы ночью настигнуть там, где, казалось, все напоено покоем. Вот и они, дрожащие, как песня раненого повстанца, вращающего раздираемый ветром парус.
***
Пистолетов сидел дома один, открывал окно, слушал скрипки и трубы небесного Байройта — военный самолет над крышами. Эта музыка терялась в городском шуме, нужно закрыть окно, и тогда снова в тихой комнате слышно, как гибнут боги. Пистолетов был атомной красоты, как мертвый. Песчаные вьюги десятый день подряд, птицы залипают под крышами. Ветер вперемешку с песком срывает лицо с пассажира, слишком резко выскочившего из трамвая. К истоку музыки песок взвивался широкими спиралями, затем, обрушиваясь на реку полупрозрачными траченными солнцем плащами, рассеивался над поверхностью воды и дрейфующими осколками льда; «утратив волю к работе и прогулкам, оказался в пункте, которому дано название устья переживаний: просто закрывал глаза — и следил за каждой проплывающей по реке вещью, пока та не скроется из виду; в какой-то момент, если долго стоять на мосту, глядя вниз, на опору, — начинает казаться, что вода остается на месте, а мост плывет в Балтийское море. Ты будешь писать прозу — и станешь счастлив, как крот. Газгольдеры на берегу, они приветствуют тебя». Душа Пистолетова была мертва.
***
У основания кирпичной кладки, где стены упираются в землю, среди разрывающихся от своей легкости капель, под пением цикад, прерывистым шелестом молитвенных веников и гудящим вращением древесных крыльев начинался кусок суши, своей широтой вгрызавшейся в лавины воды, шедшие из пролива в пролив. Небольшой танкер, быстрее ржавеющий, нежели идущий из пункта X в. пункт Y, скрыт стеной дождя до тех пор, когда погода проясняется и все возникает, высвобождаясь из водяных нитей: пустой корабль продолжает медленное плавание, а двое идущих по берегу, шевеля изорванными в кровь губами, силятся перекричать ветер, несущий сухой весенний порох из заживо зияющих рвов, откуда черная почва весны глядела в глаза идущим.
Сквозь тонкие ветви облюбованного птицами кустарника, куда в тщетной надежде найти прибежище сползался ночной туман, можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать гулявших по отмели, чья прогулка напоминала игру, правила которой неизвестны: во всяком случае, никто не предполагал, что уже через минуту оба будут растерзаны в клочья береговыми котами, скрывавшимися до времени в ямах, среди острых камней, на деревьях, под ржавыми якорными цепями и даже там, откуда ветер приносил городскую копоть, и только тупой звякающий звук неизвестного происхождения уносился в ответ.
Как часто бывает во сне, надо было спастись от преследования, чтобы не стать жертвой расправы. Но после пробуждения стало ясно, что это, во-первых, не сон. Во-вторых — не погоня, а последняя встреча. Свет сбивал с ног с той же безоглядной силой, что и ветер, скатывавший утреннюю воду в антрацитовый войлок.
***
Утром, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, он сознается, что незавершенный текст, как и влекущий образ готового, дает призрачную возможность обладать оружием, способным подчинить само стремление к обладанию. Она остается одна — и чувствует, что песок времени пронизывает ее тело. Что ночью с привычным рвением ветер терзает волчью песню, а вечером над пустыми туманами поднимается далекое солнце. Светлая (два свекольных кресла, голландская печь, платяной шкаф с сорванным замком, качели для куклы) комната с видом на запасные вокзальные пути, где поезда, замедляясь, не прекращают движение; стаи псов, замирая на прибрежных песках, всматриваются в черный дым над морем, задирая острые морды к неверному небу, не отвечающему ни музыкой, ни бессмысленными фигурами облаков.
В городе, где за полночь стреляют ядовитыми иглами в прохожих, он оказался светлой ночью мая, заставив увидеть все это; как пыль на плечах повешенного, время никуда не пропадет — стоит на песке, вырвав из глаз неподвижное сияние зрения. Вечером, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, гладя бескостные укрепления расстилающихся сумерек, от единого прикосновения распадаясь на вихрящиеся столбы сухой пыли. Внезапно оказался в магазине — и вспомнил абсолютно все. Обернувшись, как наводнение.
***
Стихотворение из книги с английской булавкой на обложке, сидя на гранитных парапетах набережной, читали вдвоем. Голые ноги над речной водой, потрясение, похожее на счастье, хотя внутри что-то необратимо оборвалось. Наконец, пронзившее обыкновенное вожделение — солнце, взорвавшееся над крепостью.
Воспоминанию потребовалось время — наполниться черной водой, бессловной жесткостью. Раз за разом оно становилось непреклоннее: ты цепенел, как персонаж Беккета, захвачен своим внутренним кино. Стихотворение из книги с английской булавкой, обнаженные ноги, плеск воды.
Влажный рассвет слишком рано; пропасть расколоченных окон, забитых солнцем. Еще минута, S. щелкнет хирургическими пальцами — и широкие улицы заполнятся собой, как опущенный театральный занавес. С верхней площадки собора сын самоубийцы пересчитал животных (скорее кошки, чем волки), растаскивающих, поедая, багровые фрагменты по убежищам, вылепленным тенями среди камней. Чтобы высохли слезы, достаточно назвать число.
Покинутые формы на берегу: чем и объяснялось, не взыскуя объяснения. Говорил себе: никакой истерики. Увитые каннелюры, пуля в средостении, клокочущая сердцем. «Больше никакой истории, даже если кажется, что она все еще длится, подобно позавчерашнему ожогу», — дабы сообщить тезисам убедительность, приставил ружье к виску неподсудного. Чем передать повселюдный укол, пронзивший представление об уникальности вещей, соединив эти бесполезные ожерелья в своего рода нотную карту? — С заколотыми на плечах булавками, с намертво вшитыми в оба лацкана снайперскими метками, с сомкнутыми, словно глаза, окошками фотокамер… Со сбитыми на поля страниц, отныне очищенных от слов, литерами вперемешку с едва приметными капельками детской крови и взрослых слез.
***
В разгар схватившего за горло летнего дня поднялся на верхнюю площадку башни. Что увидел? Градации синего, море и небо, пустой, без птиц или звуков, ветер. Ни кораблей, ни серой пены, ни гальки, ни смутно чернеющей полоски острова или берегов впереди, слева или справа. Камни. Море камней. Так, решил он, выглядят сгрудившиеся души. Инеем гладил их ветер днем, и стороной обходил огонь, если бы ночью не обрушивался на них криками мертвых сов, привязанных невидимыми зернистыми цепями к неподвижной зеленой воде, которой нет.
Еще немного, и вместо вида, открывшегося с верхней площадки башни, ему предстанут далекие предметы, погруженные в медленно застывающий воск времени, останавливающего себя, готового прерваться, но замирающего вполоборота, как зарапортовавшийся студент. Я вспомнил некоторые сцены, каждая из которых разом и опустошает меня — и наполняет до краев отчаянием. Трепетная псина, еженощно убегающая из дома, чтобы раз за разом возвращать себя хозяину, и далее, вновь и вновь, как ни в чем не бывало, пересекая порог…
Он встает с постели, влажный запах песка из открытого окна отзывается во рту забытым детским привкусом. Напоминающим о чем? Я закрываю глаза — и вздрагиваю от тончайшего ожога, полоснувшего внизу, по ноге, вдоль икры, — и, открыв глаза, вижу его, обнаженного, улыбающегося, с маленьким бритвенным лезвием в руке. Простыня становится красной, и я теряю сознание от вида своей крови… Криками гладил их ветер. Днем стороной обходил огонь, чтобы ночью настигнуть там, где, казалось, все напоено покоем. Вот и они, дрожащие, как песня раненого повстанца, вращающего раздираемый ветром парус.
***
Пистолетов сидел дома один, открывал окно, слушал скрипки и трубы небесного Байройта — военный самолет над крышами. Эта музыка терялась в городском шуме, нужно закрыть окно, и тогда снова в тихой комнате слышно, как гибнут боги. Пистолетов был атомной красоты, как мертвый. Песчаные вьюги десятый день подряд, птицы залипают под крышами. Ветер вперемешку с песком срывает лицо с пассажира, слишком резко выскочившего из трамвая. К истоку музыки песок взвивался широкими спиралями, затем, обрушиваясь на реку полупрозрачными траченными солнцем плащами, рассеивался над поверхностью воды и дрейфующими осколками льда; «утратив волю к работе и прогулкам, оказался в пункте, которому дано название устья переживаний: просто закрывал глаза — и следил за каждой проплывающей по реке вещью, пока та не скроется из виду; в какой-то момент, если долго стоять на мосту, глядя вниз, на опору, — начинает казаться, что вода остается на месте, а мост плывет в Балтийское море. Ты будешь писать прозу — и станешь счастлив, как крот. Газгольдеры на берегу, они приветствуют тебя». Душа Пистолетова была мертва.
***
У основания кирпичной кладки, где стены упираются в землю, среди разрывающихся от своей легкости капель, под пением цикад, прерывистым шелестом молитвенных веников и гудящим вращением древесных крыльев начинался кусок суши, своей широтой вгрызавшейся в лавины воды, шедшие из пролива в пролив. Небольшой танкер, быстрее ржавеющий, нежели идущий из пункта X в. пункт Y, скрыт стеной дождя до тех пор, когда погода проясняется и все возникает, высвобождаясь из водяных нитей: пустой корабль продолжает медленное плавание, а двое идущих по берегу, шевеля изорванными в кровь губами, силятся перекричать ветер, несущий сухой весенний порох из заживо зияющих рвов, откуда черная почва весны глядела в глаза идущим.
Сквозь тонкие ветви облюбованного птицами кустарника, куда в тщетной надежде найти прибежище сползался ночной туман, можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать гулявших по отмели, чья прогулка напоминала игру, правила которой неизвестны: во всяком случае, никто не предполагал, что уже через минуту оба будут растерзаны в клочья береговыми котами, скрывавшимися до времени в ямах, среди острых камней, на деревьях, под ржавыми якорными цепями и даже там, откуда ветер приносил городскую копоть, и только тупой звякающий звук неизвестного происхождения уносился в ответ.
Как часто бывает во сне, надо было спастись от преследования, чтобы не стать жертвой расправы. Но после пробуждения стало ясно, что это, во-первых, не сон. Во-вторых — не погоня, а последняя встреча. Свет сбивал с ног с той же безоглядной силой, что и ветер, скатывавший утреннюю воду в антрацитовый войлок.
***
Утром, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, он сознается, что незавершенный текст, как и влекущий образ готового, дает призрачную возможность обладать оружием, способным подчинить само стремление к обладанию. Она остается одна — и чувствует, что песок времени пронизывает ее тело. Что ночью с привычным рвением ветер терзает волчью песню, а вечером над пустыми туманами поднимается далекое солнце. Светлая (два свекольных кресла, голландская печь, платяной шкаф с сорванным замком, качели для куклы) комната с видом на запасные вокзальные пути, где поезда, замедляясь, не прекращают движение; стаи псов, замирая на прибрежных песках, всматриваются в черный дым над морем, задирая острые морды к неверному небу, не отвечающему ни музыкой, ни бессмысленными фигурами облаков.
В городе, где за полночь стреляют ядовитыми иглами в прохожих, он оказался светлой ночью мая, заставив увидеть все это; как пыль на плечах повешенного, время никуда не пропадет — стоит на песке, вырвав из глаз неподвижное сияние зрения. Вечером, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, гладя бескостные укрепления расстилающихся сумерек, от единого прикосновения распадаясь на вихрящиеся столбы сухой пыли. Внезапно оказался в магазине — и вспомнил абсолютно все. Обернувшись, как наводнение.
***
Стихотворение из книги с английской булавкой на обложке, сидя на гранитных парапетах набережной, читали вдвоем. Голые ноги над речной водой, потрясение, похожее на счастье, хотя внутри что-то необратимо оборвалось. Наконец, пронзившее обыкновенное вожделение — солнце, взорвавшееся над крепостью.
Воспоминанию потребовалось время — наполниться черной водой, бессловной жесткостью. Раз за разом оно становилось непреклоннее: ты цепенел, как персонаж Беккета, захвачен своим внутренним кино. Стихотворение из книги с английской булавкой, обнаженные ноги, плеск воды.
Влажный рассвет слишком рано; пропасть расколоченных окон, забитых солнцем. Еще минута, S. щелкнет хирургическими пальцами — и широкие улицы заполнятся собой, как опущенный театральный занавес. С верхней площадки собора сын самоубийцы пересчитал животных (скорее кошки, чем волки), растаскивающих, поедая, багровые фрагменты по убежищам, вылепленным тенями среди камней. Чтобы высохли слезы, достаточно назвать число.
вас может заинтересовать
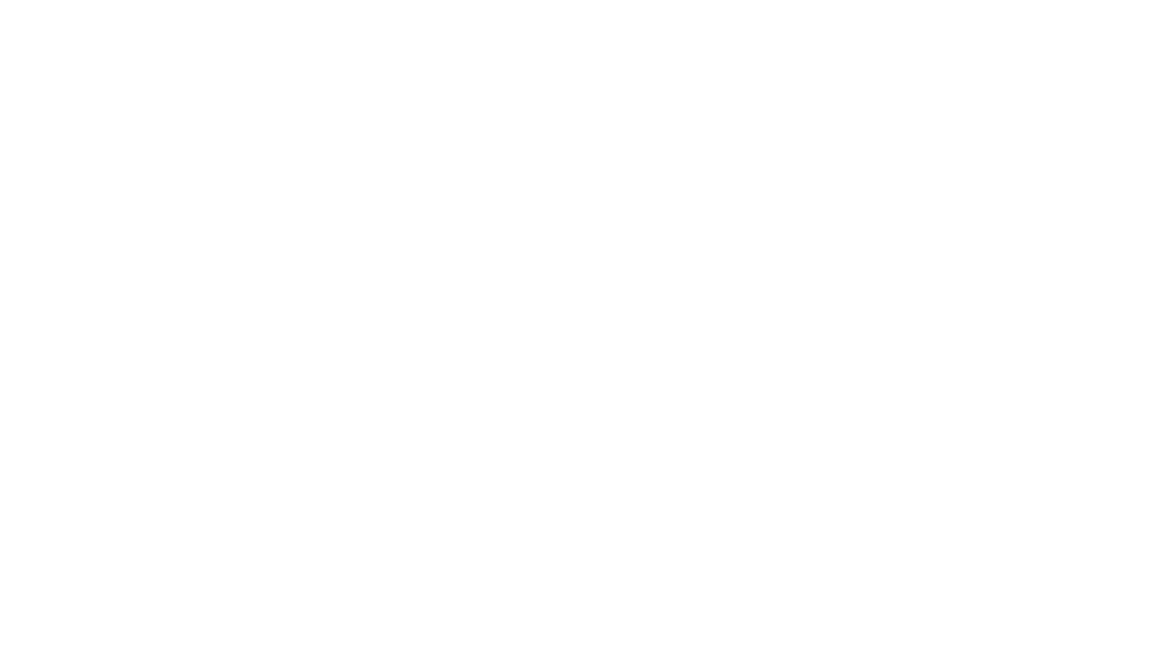
Станислав Снытко
Короткое время
***
Покинутые формы на берегу: чем и объяснялось, не взыскуя объяснения. Говорил себе: никакой истерики. Увитые каннелюры, пуля в средостении, клокочущая сердцем. «Больше никакой истории, даже если кажется, что она все еще длится, подобно позавчерашнему ожогу», — дабы сообщить тезисам убедительность, приставил ружье к виску неподсудного. Чем передать повселюдный укол, пронзивший представление об уникальности вещей, соединив эти бесполезные ожерелья в своего рода нотную карту? — С заколотыми на плечах булавками, с намертво вшитыми в оба лацкана снайперскими метками, с сомкнутыми, словно глаза, окошками фотокамер… Со сбитыми на поля страниц, отныне очищенных от слов, литерами вперемешку с едва приметными капельками детской крови и взрослых слез.
***
В разгар схватившего за горло летнего дня поднялся на верхнюю площадку башни. Что увидел? Градации синего, море и небо, пустой, без птиц или звуков, ветер. Ни кораблей, ни серой пены, ни гальки, ни смутно чернеющей полоски острова или берегов впереди, слева или справа. Камни. Море камней. Так, решил он, выглядят сгрудившиеся души. Инеем гладил их ветер днем, и стороной обходил огонь, если бы ночью не обрушивался на них криками мертвых сов, привязанных невидимыми зернистыми цепями к неподвижной зеленой воде, которой нет.
Еще немного, и вместо вида, открывшегося с верхней площадки башни, ему предстанут далекие предметы, погруженные в медленно застывающий воск времени, останавливающего себя, готового прерваться, но замирающего вполоборота, как зарапортовавшийся студент. Я вспомнил некоторые сцены, каждая из которых разом и опустошает меня — и наполняет до краев отчаянием. Трепетная псина, еженощно убегающая из дома, чтобы раз за разом возвращать себя хозяину, и далее, вновь и вновь, как ни в чем не бывало, пересекая порог…
Он встает с постели, влажный запах песка из открытого окна отзывается во рту забытым детским привкусом. Напоминающим о чем? Я закрываю глаза — и вздрагиваю от тончайшего ожога, полоснувшего внизу, по ноге, вдоль икры, — и, открыв глаза, вижу его, обнаженного, улыбающегося, с маленьким бритвенным лезвием в руке. Простыня становится красной, и я теряю сознание от вида своей крови… Криками гладил их ветер. Днем стороной обходил огонь, чтобы ночью настигнуть там, где, казалось, все напоено покоем. Вот и они, дрожащие, как песня раненого повстанца, вращающего раздираемый ветром парус.
***
Пистолетов сидел дома один, открывал окно, слушал скрипки и трубы небесного Байройта — военный самолет над крышами. Эта музыка терялась в городском шуме, нужно закрыть окно, и тогда снова в тихой комнате слышно, как гибнут боги. Пистолетов был атомной красоты, как мертвый. Песчаные вьюги десятый день подряд, птицы залипают под крышами. Ветер вперемешку с песком срывает лицо с пассажира, слишком резко выскочившего из трамвая. К истоку музыки песок взвивался широкими спиралями, затем, обрушиваясь на реку полупрозрачными траченными солнцем плащами, рассеивался над поверхностью воды и дрейфующими осколками льда; «утратив волю к работе и прогулкам, оказался в пункте, которому дано название устья переживаний: просто закрывал глаза — и следил за каждой проплывающей по реке вещью, пока та не скроется из виду; в какой-то момент, если долго стоять на мосту, глядя вниз, на опору, — начинает казаться, что вода остается на месте, а мост плывет в Балтийское море. Ты будешь писать прозу — и станешь счастлив, как крот. Газгольдеры на берегу, они приветствуют тебя». Душа Пистолетова была мертва.
***
У основания кирпичной кладки, где стены упираются в землю, среди разрывающихся от своей легкости капель, под пением цикад, прерывистым шелестом молитвенных веников и гудящим вращением древесных крыльев начинался кусок суши, своей широтой вгрызавшейся в лавины воды, шедшие из пролива в пролив. Небольшой танкер, быстрее ржавеющий, нежели идущий из пункта X в. пункт Y, скрыт стеной дождя до тех пор, когда погода проясняется и все возникает, высвобождаясь из водяных нитей: пустой корабль продолжает медленное плавание, а двое идущих по берегу, шевеля изорванными в кровь губами, силятся перекричать ветер, несущий сухой весенний порох из заживо зияющих рвов, откуда черная почва весны глядела в глаза идущим.
Сквозь тонкие ветви облюбованного птицами кустарника, куда в тщетной надежде найти прибежище сползался ночной туман, можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать гулявших по отмели, чья прогулка напоминала игру, правила которой неизвестны: во всяком случае, никто не предполагал, что уже через минуту оба будут растерзаны в клочья береговыми котами, скрывавшимися до времени в ямах, среди острых камней, на деревьях, под ржавыми якорными цепями и даже там, откуда ветер приносил городскую копоть, и только тупой звякающий звук неизвестного происхождения уносился в ответ.
Как часто бывает во сне, надо было спастись от преследования, чтобы не стать жертвой расправы. Но после пробуждения стало ясно, что это, во-первых, не сон. Во-вторых — не погоня, а последняя встреча. Свет сбивал с ног с той же безоглядной силой, что и ветер, скатывавший утреннюю воду в антрацитовый войлок.
***
Утром, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, он сознается, что незавершенный текст, как и влекущий образ готового, дает призрачную возможность обладать оружием, способным подчинить само стремление к обладанию. Она остается одна — и чувствует, что песок времени пронизывает ее тело. Что ночью с привычным рвением ветер терзает волчью песню, а вечером над пустыми туманами поднимается далекое солнце. Светлая (два свекольных кресла, голландская печь, платяной шкаф с сорванным замком, качели для куклы) комната с видом на запасные вокзальные пути, где поезда, замедляясь, не прекращают движение; стаи псов, замирая на прибрежных песках, всматриваются в черный дым над морем, задирая острые морды к неверному небу, не отвечающему ни музыкой, ни бессмысленными фигурами облаков.
В городе, где за полночь стреляют ядовитыми иглами в прохожих, он оказался светлой ночью мая, заставив увидеть все это; как пыль на плечах повешенного, время никуда не пропадет — стоит на песке, вырвав из глаз неподвижное сияние зрения. Вечером, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, гладя бескостные укрепления расстилающихся сумерек, от единого прикосновения распадаясь на вихрящиеся столбы сухой пыли. Внезапно оказался в магазине — и вспомнил абсолютно все. Обернувшись, как наводнение.
***
Стихотворение из книги с английской булавкой на обложке, сидя на гранитных парапетах набережной, читали вдвоем. Голые ноги над речной водой, потрясение, похожее на счастье, хотя внутри что-то необратимо оборвалось. Наконец, пронзившее обыкновенное вожделение — солнце, взорвавшееся над крепостью.
Воспоминанию потребовалось время — наполниться черной водой, бессловной жесткостью. Раз за разом оно становилось непреклоннее: ты цепенел, как персонаж Беккета, захвачен своим внутренним кино. Стихотворение из книги с английской булавкой, обнаженные ноги, плеск воды.
Влажный рассвет слишком рано; пропасть расколоченных окон, забитых солнцем. Еще минута, S. щелкнет хирургическими пальцами — и широкие улицы заполнятся собой, как опущенный театральный занавес. С верхней площадки собора сын самоубийцы пересчитал животных (скорее кошки, чем волки), растаскивающих, поедая, багровые фрагменты по убежищам, вылепленным тенями среди камней. Чтобы высохли слезы, достаточно назвать число.
Покинутые формы на берегу: чем и объяснялось, не взыскуя объяснения. Говорил себе: никакой истерики. Увитые каннелюры, пуля в средостении, клокочущая сердцем. «Больше никакой истории, даже если кажется, что она все еще длится, подобно позавчерашнему ожогу», — дабы сообщить тезисам убедительность, приставил ружье к виску неподсудного. Чем передать повселюдный укол, пронзивший представление об уникальности вещей, соединив эти бесполезные ожерелья в своего рода нотную карту? — С заколотыми на плечах булавками, с намертво вшитыми в оба лацкана снайперскими метками, с сомкнутыми, словно глаза, окошками фотокамер… Со сбитыми на поля страниц, отныне очищенных от слов, литерами вперемешку с едва приметными капельками детской крови и взрослых слез.
***
В разгар схватившего за горло летнего дня поднялся на верхнюю площадку башни. Что увидел? Градации синего, море и небо, пустой, без птиц или звуков, ветер. Ни кораблей, ни серой пены, ни гальки, ни смутно чернеющей полоски острова или берегов впереди, слева или справа. Камни. Море камней. Так, решил он, выглядят сгрудившиеся души. Инеем гладил их ветер днем, и стороной обходил огонь, если бы ночью не обрушивался на них криками мертвых сов, привязанных невидимыми зернистыми цепями к неподвижной зеленой воде, которой нет.
Еще немного, и вместо вида, открывшегося с верхней площадки башни, ему предстанут далекие предметы, погруженные в медленно застывающий воск времени, останавливающего себя, готового прерваться, но замирающего вполоборота, как зарапортовавшийся студент. Я вспомнил некоторые сцены, каждая из которых разом и опустошает меня — и наполняет до краев отчаянием. Трепетная псина, еженощно убегающая из дома, чтобы раз за разом возвращать себя хозяину, и далее, вновь и вновь, как ни в чем не бывало, пересекая порог…
Он встает с постели, влажный запах песка из открытого окна отзывается во рту забытым детским привкусом. Напоминающим о чем? Я закрываю глаза — и вздрагиваю от тончайшего ожога, полоснувшего внизу, по ноге, вдоль икры, — и, открыв глаза, вижу его, обнаженного, улыбающегося, с маленьким бритвенным лезвием в руке. Простыня становится красной, и я теряю сознание от вида своей крови… Криками гладил их ветер. Днем стороной обходил огонь, чтобы ночью настигнуть там, где, казалось, все напоено покоем. Вот и они, дрожащие, как песня раненого повстанца, вращающего раздираемый ветром парус.
***
Пистолетов сидел дома один, открывал окно, слушал скрипки и трубы небесного Байройта — военный самолет над крышами. Эта музыка терялась в городском шуме, нужно закрыть окно, и тогда снова в тихой комнате слышно, как гибнут боги. Пистолетов был атомной красоты, как мертвый. Песчаные вьюги десятый день подряд, птицы залипают под крышами. Ветер вперемешку с песком срывает лицо с пассажира, слишком резко выскочившего из трамвая. К истоку музыки песок взвивался широкими спиралями, затем, обрушиваясь на реку полупрозрачными траченными солнцем плащами, рассеивался над поверхностью воды и дрейфующими осколками льда; «утратив волю к работе и прогулкам, оказался в пункте, которому дано название устья переживаний: просто закрывал глаза — и следил за каждой проплывающей по реке вещью, пока та не скроется из виду; в какой-то момент, если долго стоять на мосту, глядя вниз, на опору, — начинает казаться, что вода остается на месте, а мост плывет в Балтийское море. Ты будешь писать прозу — и станешь счастлив, как крот. Газгольдеры на берегу, они приветствуют тебя». Душа Пистолетова была мертва.
***
У основания кирпичной кладки, где стены упираются в землю, среди разрывающихся от своей легкости капель, под пением цикад, прерывистым шелестом молитвенных веников и гудящим вращением древесных крыльев начинался кусок суши, своей широтой вгрызавшейся в лавины воды, шедшие из пролива в пролив. Небольшой танкер, быстрее ржавеющий, нежели идущий из пункта X в. пункт Y, скрыт стеной дождя до тех пор, когда погода проясняется и все возникает, высвобождаясь из водяных нитей: пустой корабль продолжает медленное плавание, а двое идущих по берегу, шевеля изорванными в кровь губами, силятся перекричать ветер, несущий сухой весенний порох из заживо зияющих рвов, откуда черная почва весны глядела в глаза идущим.
Сквозь тонкие ветви облюбованного птицами кустарника, куда в тщетной надежде найти прибежище сползался ночной туман, можно было, оставаясь незамеченным, наблюдать гулявших по отмели, чья прогулка напоминала игру, правила которой неизвестны: во всяком случае, никто не предполагал, что уже через минуту оба будут растерзаны в клочья береговыми котами, скрывавшимися до времени в ямах, среди острых камней, на деревьях, под ржавыми якорными цепями и даже там, откуда ветер приносил городскую копоть, и только тупой звякающий звук неизвестного происхождения уносился в ответ.
Как часто бывает во сне, надо было спастись от преследования, чтобы не стать жертвой расправы. Но после пробуждения стало ясно, что это, во-первых, не сон. Во-вторых — не погоня, а последняя встреча. Свет сбивал с ног с той же безоглядной силой, что и ветер, скатывавший утреннюю воду в антрацитовый войлок.
***
Утром, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, он сознается, что незавершенный текст, как и влекущий образ готового, дает призрачную возможность обладать оружием, способным подчинить само стремление к обладанию. Она остается одна — и чувствует, что песок времени пронизывает ее тело. Что ночью с привычным рвением ветер терзает волчью песню, а вечером над пустыми туманами поднимается далекое солнце. Светлая (два свекольных кресла, голландская печь, платяной шкаф с сорванным замком, качели для куклы) комната с видом на запасные вокзальные пути, где поезда, замедляясь, не прекращают движение; стаи псов, замирая на прибрежных песках, всматриваются в черный дым над морем, задирая острые морды к неверному небу, не отвечающему ни музыкой, ни бессмысленными фигурами облаков.
В городе, где за полночь стреляют ядовитыми иглами в прохожих, он оказался светлой ночью мая, заставив увидеть все это; как пыль на плечах повешенного, время никуда не пропадет — стоит на песке, вырвав из глаз неподвижное сияние зрения. Вечером, прощаясь на некое короткое время, которое будто бы не было вечностью, гладя бескостные укрепления расстилающихся сумерек, от единого прикосновения распадаясь на вихрящиеся столбы сухой пыли. Внезапно оказался в магазине — и вспомнил абсолютно все. Обернувшись, как наводнение.
***
Стихотворение из книги с английской булавкой на обложке, сидя на гранитных парапетах набережной, читали вдвоем. Голые ноги над речной водой, потрясение, похожее на счастье, хотя внутри что-то необратимо оборвалось. Наконец, пронзившее обыкновенное вожделение — солнце, взорвавшееся над крепостью.
Воспоминанию потребовалось время — наполниться черной водой, бессловной жесткостью. Раз за разом оно становилось непреклоннее: ты цепенел, как персонаж Беккета, захвачен своим внутренним кино. Стихотворение из книги с английской булавкой, обнаженные ноги, плеск воды.
Влажный рассвет слишком рано; пропасть расколоченных окон, забитых солнцем. Еще минута, S. щелкнет хирургическими пальцами — и широкие улицы заполнятся собой, как опущенный театральный занавес. С верхней площадки собора сын самоубийцы пересчитал животных (скорее кошки, чем волки), растаскивающих, поедая, багровые фрагменты по убежищам, вылепленным тенями среди камней. Чтобы высохли слезы, достаточно назвать число.
вас может заинтересовать

