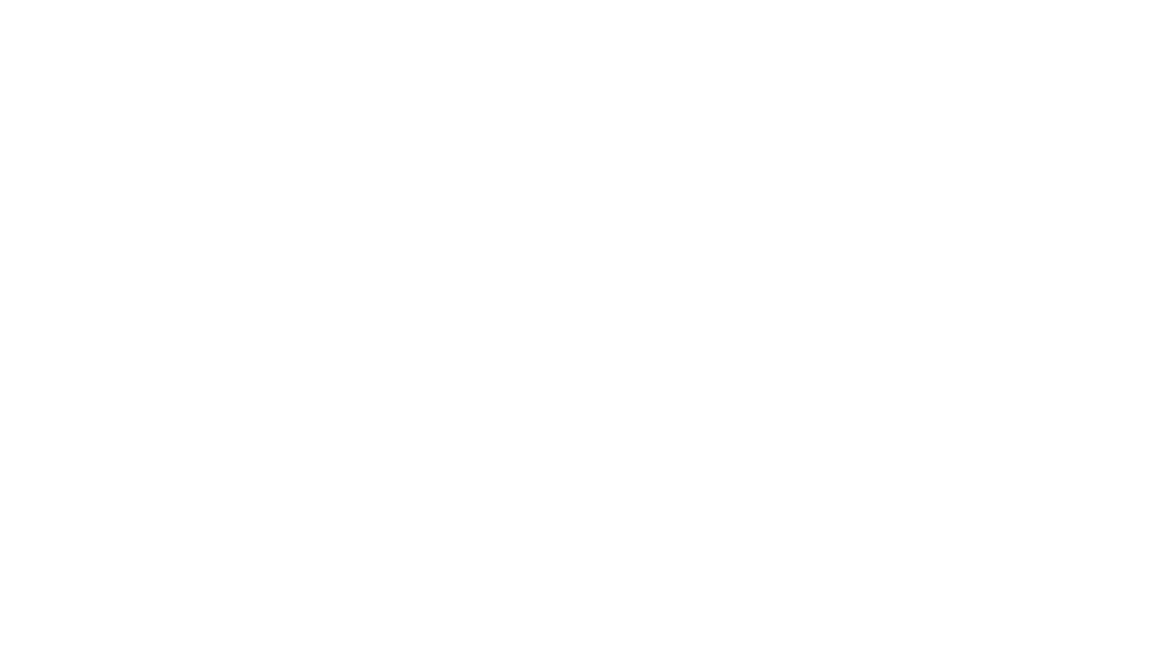
Андрей Иванов
Untermensch: моя разорванная часть
Фрагмент
Untermensch — жалкий человек, который страдает от бессонницы, выгуливает свои слабости, как питомцев, торопит события, слоняется между домами, в которых живут персонажи его книг; мой призрак в разрезе, он рассказывает о том, как болел и воздерживался от публикации своих видений. Тени крадутся в его строке, ощетинившись каждой веточкой, встает дрожащий колючий куст барбариса, скользит по черной поверхности льда двойник, посвистывает какая-то птица… Что это за птичка? А черт его знает… Написав фрагмент, он выходит на балкон с чашкой чая, закуривает, устало смотрит на пачки книг: безнадежность и опустошение — да, ты почувствовал себя оскорбленным, ты устал идти в этом направлении, устал писать вопреки «кому это надо?»; ты томишься по какой-то другой жизни, ты вспоминаешь писателей, с которыми встречался в Финляндии, Бельгии, Швеции, Франции… Ты вспоминаешь француза с рюкзаком, набитым экземплярами своих книг, ты вспоминаешь молодого финского писателя, который делился с тобой замыслом — роман о дауншифтере, с сожалением признался, что вряд ли напишет: такое будет трудно напечатать (у него тоже на спине был рюкзак). Ты мысленно совершаешь прогулки по улицам Харькова, читаешь настенные надписи Митасова, которые видел только на фотографиях (я хотел о нем писать, но теперь уж вряд ли). Ты сочиняешь эссе о Пшемеке Качмареке, мысленно шагаешь по Копенгагену вместе с ним, куришь на мосту и смотришь в канал… Ты пьешь чай и думаешь о Руперте, который признался, что события своих последних лет рубит, как мясо, и нанизывает разрубленные части на сверлом извивающийся сюжет какой-нибудь детективной истории, изредка позволяя себе отступления, дабы «выпустить пар». Вспоминаешь прогулки с Валерой Стекловым: он хотел все бросить, начать что-то новое, выкинуть паспорт, уехать в Мексику или просто покончить с собой. Ты стоишь на балконе, тянешь чай, куришь и не чувствуешь холода, ты опустошен, выветрен, обложен изморозью изнутри и снаружи, пар из кружки вырывается такой белый, узоры на стеклах тоже белые, твое дыхание саднит хрипотцой, ты хочешь отправиться в трип, но в этом городе, говорят дилеры, достать можно что угодно, кроме хороших грибов, — а те, что растут у Кости в аквариумах, ждать и ждать.
Романа нет. Я вращаюсь в пустоте. Дни мои — палая листва…
Я бы хотел ничего не писать, но мое воображение продолжает работать; какой-то орган судорожно сокращается, память стравливает бессмысленные переживания, воображение ткет бинты.
Встаю, прохаживаюсь. В этой комнате, к которой я прикован двенадцатью цепями. Я не знаю, как изменить нашу жизнь; я не могу изменить даже роман. Я не могу покинуть мою Каменоломню. Я не могу выйти из комнаты. Снег будет вечно лететь и перечеркивать написанное. За окном будет стоять минивэн. В домах будут гаснуть и загораться окна, снова гаснуть и загораться, а я буду здесь, прыгать по клавишам ночи, скрести черным по белому. Я запечатан в этой комнате, как послание в бутылке.
Бывают воздушные яркие романы, бывают совершенно распадающиеся на части, некоторые пишутся легко — ты словно летишь на воздушном шаре или едешь в поезде: вошел и поехал, билет куплен, торопиться не надо, выйдешь вместе с прочими, когда поезд встанет, можно даже вздремнуть — кондуктор поднимет; есть романы, похожие на внезапно прибывших старых друзей, они приезжают — вот как Штольц к Обломову — и ты им радуешься, хмелеешь от счастья, друг тебя ведет куда-то, распахивает двери, знакомит с людьми, все кажется интересным, и ты даже знакомишься заново с теми, кого знал давно, и ты рад этому, такие романы ты пьешь, как вино, как эфир, и читатели, как правило, любят такое, но кто ж виноват, что старые друзья приезжают редко, кто ж виноват в том, что они не едут вообще, или если нет их совсем, друзей, что делать, писать про негодяев? Таких полно, бродят по Каменоломне, выискивая жертву. Не лежит сердце, устал от этой романтики. Есть чудесные романы, что пишутся как бы сами собой, — это мечта, о которой говорил Пашка в середине девяностых… Мы тогда читали Кэндзи Маруяму, и кто-то писал, будто он больше не пишет романы, не сочиняет их, а в день записывает страничку, если пишется, каких-нибудь мыслей, впечатлений, какой-нибудь набросок напишет и оставит лежать, и так переходит изо дня в день, а в конце тысячи дней он соберет их все и — будет роман, и хотя я в это не верю, в такой роман я не могу поверить, но я понимаю, почему так радовался этой стратегии Пашка, он восхищался: «Уж в конце тысячи дней и ночей точно что-нибудь будет», — так просто, думал я, лежа на песке, жарясь на солнце, его восхищает необремененность чем-либо, мучиться не надо — кто сказал, что художник обязан страдать? — написал, отложил, прошла тысяча дней, собрал в коробку, вытряхнул под станок, вот тебе и книга, нет, не верю, думал я, но ничего ему не говорил, не хотел спорить, в жаркий летний день (пляж Пирита, 1994 год) мы пили синебрюховский джин, праздно убивали время, даже играли в карты; я слыхал о романах, написанных за месяц, надиктованных стенографке, это не мой путь, мой путь — Каменоломня, «Унтерменш» — роман-преграда, — страты, которые складывались не один год; стены, решетки, паутина, кокон. Я должен пробить в нем дыру, чтобы выйти к следующему, в котором, кто знает, что там — другой мир, другой роман, другое. Если бы я мог найти выход в анфилады комнат-дней, где можно спокойно жить и не писать, не сочинять, не иметь этой потребности. Жить под гнетом (как в железной маске) — что может быть страшнее? Но если это гнет, растущий изнутри… Что они знают об этом? Те, кто пишут и болтают про меня… шлепанцы, шепелявые шерстяные носки, зависть и злоба, старушки в вязаных кофточках — чужие мельницы, мельницы…
Ты наливаешь себе чай, закуриваешь сигарету, стоишь на балконе, ты измучился… ты себя ненавидишь, и книги, можно было бы их все вынести…
Ты их получил из типографии, триста экземпляров, в прошлом месяце прибыли, ты сам их разгружал из багажника машины и запрещал тестю прикасаться к пачкам, потому что у него опять воспалились суставы (ему бы вообще за руль не садиться). Большие крепкие белые пачки. Ладные, как нарвские блоки. Из восемнадцати остается одиннадцать. Ну и что с ними делать? С позапрошлого года остается семь, скоро из них на твоем балконе вырастет пирамида. Пока они не занимают слишком много места, но время идет… Еще через год, если все будет хорошо, здесь появятся пачки следующей книги, такие же невостребованные — опустошенность с каждой книгой растет: вынимаешь из себя, не успевая заполнять пустоты. С каждым годом они будут тяжелей. Не сдвинешь. Ухнешь с этого балкона однажды.
В какой колодец или котел броситься, чтобы зачерпнуть сил, чтобы заставить себя читать на людях? А через пять лет… сможешь ли ты встречаться с читателями через пять лет? Будут ли тебя помнить и приглашать? Если экземпляры книг будут лежать на твоем балконе пять лет, сможешь ли ты жить с этим? Или ты будешь выходить на балкон, делая вид, будто их там нет? Куда ты их денешь? Буду сжигать потихоньку, носить в лес, к «локаторам», по одной пачке, и там сжигать… там бомжи костры разводят, пьют одеколон и жарят что-то… хер знает что они жарят… я принесу им пачку, пусть делают что хотят… можно выбрасывать в море… тоже выход: море — достойно, красиво… оставлять в будках на остановках, забывать в транспорте, кинотеатрах, кафе… дарить первым встречным… раздать себя миру до нитки…
Романа нет. Я вращаюсь в пустоте. Дни мои — палая листва…
Я бы хотел ничего не писать, но мое воображение продолжает работать; какой-то орган судорожно сокращается, память стравливает бессмысленные переживания, воображение ткет бинты.
Встаю, прохаживаюсь. В этой комнате, к которой я прикован двенадцатью цепями. Я не знаю, как изменить нашу жизнь; я не могу изменить даже роман. Я не могу покинуть мою Каменоломню. Я не могу выйти из комнаты. Снег будет вечно лететь и перечеркивать написанное. За окном будет стоять минивэн. В домах будут гаснуть и загораться окна, снова гаснуть и загораться, а я буду здесь, прыгать по клавишам ночи, скрести черным по белому. Я запечатан в этой комнате, как послание в бутылке.
Бывают воздушные яркие романы, бывают совершенно распадающиеся на части, некоторые пишутся легко — ты словно летишь на воздушном шаре или едешь в поезде: вошел и поехал, билет куплен, торопиться не надо, выйдешь вместе с прочими, когда поезд встанет, можно даже вздремнуть — кондуктор поднимет; есть романы, похожие на внезапно прибывших старых друзей, они приезжают — вот как Штольц к Обломову — и ты им радуешься, хмелеешь от счастья, друг тебя ведет куда-то, распахивает двери, знакомит с людьми, все кажется интересным, и ты даже знакомишься заново с теми, кого знал давно, и ты рад этому, такие романы ты пьешь, как вино, как эфир, и читатели, как правило, любят такое, но кто ж виноват, что старые друзья приезжают редко, кто ж виноват в том, что они не едут вообще, или если нет их совсем, друзей, что делать, писать про негодяев? Таких полно, бродят по Каменоломне, выискивая жертву. Не лежит сердце, устал от этой романтики. Есть чудесные романы, что пишутся как бы сами собой, — это мечта, о которой говорил Пашка в середине девяностых… Мы тогда читали Кэндзи Маруяму, и кто-то писал, будто он больше не пишет романы, не сочиняет их, а в день записывает страничку, если пишется, каких-нибудь мыслей, впечатлений, какой-нибудь набросок напишет и оставит лежать, и так переходит изо дня в день, а в конце тысячи дней он соберет их все и — будет роман, и хотя я в это не верю, в такой роман я не могу поверить, но я понимаю, почему так радовался этой стратегии Пашка, он восхищался: «Уж в конце тысячи дней и ночей точно что-нибудь будет», — так просто, думал я, лежа на песке, жарясь на солнце, его восхищает необремененность чем-либо, мучиться не надо — кто сказал, что художник обязан страдать? — написал, отложил, прошла тысяча дней, собрал в коробку, вытряхнул под станок, вот тебе и книга, нет, не верю, думал я, но ничего ему не говорил, не хотел спорить, в жаркий летний день (пляж Пирита, 1994 год) мы пили синебрюховский джин, праздно убивали время, даже играли в карты; я слыхал о романах, написанных за месяц, надиктованных стенографке, это не мой путь, мой путь — Каменоломня, «Унтерменш» — роман-преграда, — страты, которые складывались не один год; стены, решетки, паутина, кокон. Я должен пробить в нем дыру, чтобы выйти к следующему, в котором, кто знает, что там — другой мир, другой роман, другое. Если бы я мог найти выход в анфилады комнат-дней, где можно спокойно жить и не писать, не сочинять, не иметь этой потребности. Жить под гнетом (как в железной маске) — что может быть страшнее? Но если это гнет, растущий изнутри… Что они знают об этом? Те, кто пишут и болтают про меня… шлепанцы, шепелявые шерстяные носки, зависть и злоба, старушки в вязаных кофточках — чужие мельницы, мельницы…
Ты наливаешь себе чай, закуриваешь сигарету, стоишь на балконе, ты измучился… ты себя ненавидишь, и книги, можно было бы их все вынести…
Ты их получил из типографии, триста экземпляров, в прошлом месяце прибыли, ты сам их разгружал из багажника машины и запрещал тестю прикасаться к пачкам, потому что у него опять воспалились суставы (ему бы вообще за руль не садиться). Большие крепкие белые пачки. Ладные, как нарвские блоки. Из восемнадцати остается одиннадцать. Ну и что с ними делать? С позапрошлого года остается семь, скоро из них на твоем балконе вырастет пирамида. Пока они не занимают слишком много места, но время идет… Еще через год, если все будет хорошо, здесь появятся пачки следующей книги, такие же невостребованные — опустошенность с каждой книгой растет: вынимаешь из себя, не успевая заполнять пустоты. С каждым годом они будут тяжелей. Не сдвинешь. Ухнешь с этого балкона однажды.
В какой колодец или котел броситься, чтобы зачерпнуть сил, чтобы заставить себя читать на людях? А через пять лет… сможешь ли ты встречаться с читателями через пять лет? Будут ли тебя помнить и приглашать? Если экземпляры книг будут лежать на твоем балконе пять лет, сможешь ли ты жить с этим? Или ты будешь выходить на балкон, делая вид, будто их там нет? Куда ты их денешь? Буду сжигать потихоньку, носить в лес, к «локаторам», по одной пачке, и там сжигать… там бомжи костры разводят, пьют одеколон и жарят что-то… хер знает что они жарят… я принесу им пачку, пусть делают что хотят… можно выбрасывать в море… тоже выход: море — достойно, красиво… оставлять в будках на остановках, забывать в транспорте, кинотеатрах, кафе… дарить первым встречным… раздать себя миру до нитки…
вас может заинтересовать
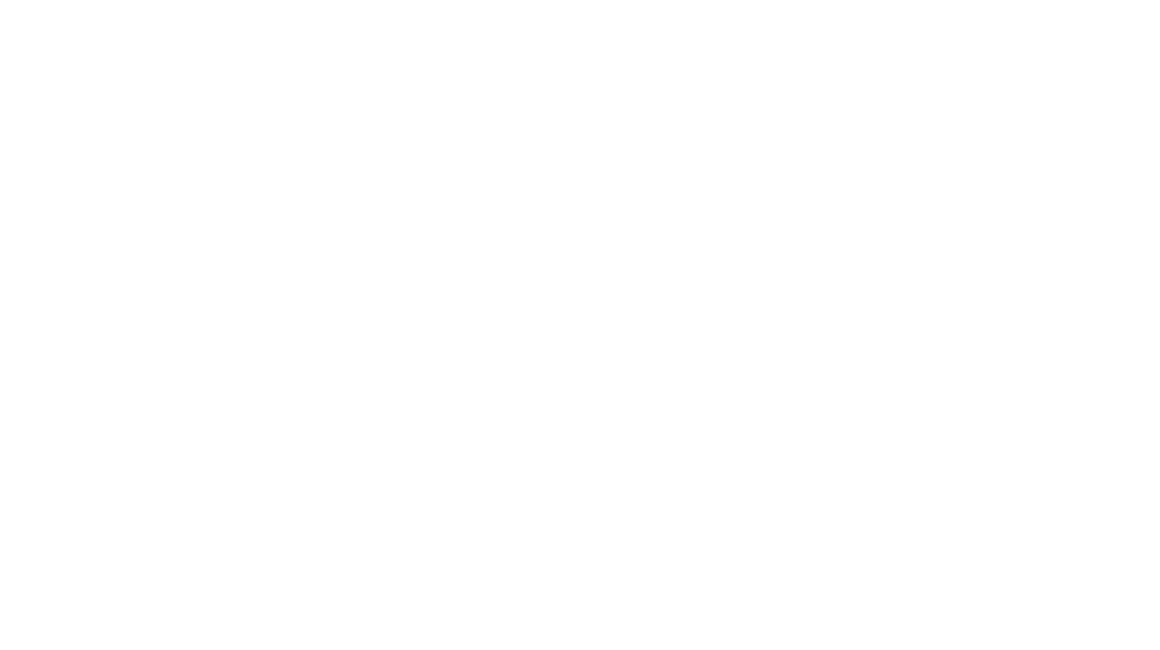
Андрей Иванов
Untermensch: моя разорванная часть
Фрагмент
Untermensch — жалкий человек, который страдает от бессонницы, выгуливает свои слабости, как питомцев, торопит события, слоняется между домами, в которых живут персонажи его книг; мой призрак в разрезе, он рассказывает о том, как болел и воздерживался от публикации своих видений. Тени крадутся в его строке, ощетинившись каждой веточкой, встает дрожащий колючий куст барбариса, скользит по черной поверхности льда двойник, посвистывает какая-то птица… Что это за птичка? А черт его знает… Написав фрагмент, он выходит на балкон с чашкой чая, закуривает, устало смотрит на пачки книг: безнадежность и опустошение — да, ты почувствовал себя оскорбленным, ты устал идти в этом направлении, устал писать вопреки «кому это надо?»; ты томишься по какой-то другой жизни, ты вспоминаешь писателей, с которыми встречался в Финляндии, Бельгии, Швеции, Франции… Ты вспоминаешь француза с рюкзаком, набитым экземплярами своих книг, ты вспоминаешь молодого финского писателя, который делился с тобой замыслом — роман о дауншифтере, с сожалением признался, что вряд ли напишет: такое будет трудно напечатать (у него тоже на спине был рюкзак). Ты мысленно совершаешь прогулки по улицам Харькова, читаешь настенные надписи Митасова, которые видел только на фотографиях (я хотел о нем писать, но теперь уж вряд ли). Ты сочиняешь эссе о Пшемеке Качмареке, мысленно шагаешь по Копенгагену вместе с ним, куришь на мосту и смотришь в канал… Ты пьешь чай и думаешь о Руперте, который признался, что события своих последних лет рубит, как мясо, и нанизывает разрубленные части на сверлом извивающийся сюжет какой-нибудь детективной истории, изредка позволяя себе отступления, дабы «выпустить пар». Вспоминаешь прогулки с Валерой Стекловым: он хотел все бросить, начать что-то новое, выкинуть паспорт, уехать в Мексику или просто покончить с собой. Ты стоишь на балконе, тянешь чай, куришь и не чувствуешь холода, ты опустошен, выветрен, обложен изморозью изнутри и снаружи, пар из кружки вырывается такой белый, узоры на стеклах тоже белые, твое дыхание саднит хрипотцой, ты хочешь отправиться в трип, но в этом городе, говорят дилеры, достать можно что угодно, кроме хороших грибов, — а те, что растут у Кости в аквариумах, ждать и ждать.
Романа нет. Я вращаюсь в пустоте. Дни мои — палая листва…
Я бы хотел ничего не писать, но мое воображение продолжает работать; какой-то орган судорожно сокращается, память стравливает бессмысленные переживания, воображение ткет бинты.
Встаю, прохаживаюсь. В этой комнате, к которой я прикован двенадцатью цепями. Я не знаю, как изменить нашу жизнь; я не могу изменить даже роман. Я не могу покинуть мою Каменоломню. Я не могу выйти из комнаты. Снег будет вечно лететь и перечеркивать написанное. За окном будет стоять минивэн. В домах будут гаснуть и загораться окна, снова гаснуть и загораться, а я буду здесь, прыгать по клавишам ночи, скрести черным по белому. Я запечатан в этой комнате, как послание в бутылке.
Бывают воздушные яркие романы, бывают совершенно распадающиеся на части, некоторые пишутся легко — ты словно летишь на воздушном шаре или едешь в поезде: вошел и поехал, билет куплен, торопиться не надо, выйдешь вместе с прочими, когда поезд встанет, можно даже вздремнуть — кондуктор поднимет; есть романы, похожие на внезапно прибывших старых друзей, они приезжают — вот как Штольц к Обломову — и ты им радуешься, хмелеешь от счастья, друг тебя ведет куда-то, распахивает двери, знакомит с людьми, все кажется интересным, и ты даже знакомишься заново с теми, кого знал давно, и ты рад этому, такие романы ты пьешь, как вино, как эфир, и читатели, как правило, любят такое, но кто ж виноват, что старые друзья приезжают редко, кто ж виноват в том, что они не едут вообще, или если нет их совсем, друзей, что делать, писать про негодяев? Таких полно, бродят по Каменоломне, выискивая жертву. Не лежит сердце, устал от этой романтики. Есть чудесные романы, что пишутся как бы сами собой, — это мечта, о которой говорил Пашка в середине девяностых… Мы тогда читали Кэндзи Маруяму, и кто-то писал, будто он больше не пишет романы, не сочиняет их, а в день записывает страничку, если пишется, каких-нибудь мыслей, впечатлений, какой-нибудь набросок напишет и оставит лежать, и так переходит изо дня в день, а в конце тысячи дней он соберет их все и — будет роман, и хотя я в это не верю, в такой роман я не могу поверить, но я понимаю, почему так радовался этой стратегии Пашка, он восхищался: «Уж в конце тысячи дней и ночей точно что-нибудь будет», — так просто, думал я, лежа на песке, жарясь на солнце, его восхищает необремененность чем-либо, мучиться не надо — кто сказал, что художник обязан страдать? — написал, отложил, прошла тысяча дней, собрал в коробку, вытряхнул под станок, вот тебе и книга, нет, не верю, думал я, но ничего ему не говорил, не хотел спорить, в жаркий летний день (пляж Пирита, 1994 год) мы пили синебрюховский джин, праздно убивали время, даже играли в карты; я слыхал о романах, написанных за месяц, надиктованных стенографке, это не мой путь, мой путь — Каменоломня, «Унтерменш» — роман-преграда, — страты, которые складывались не один год; стены, решетки, паутина, кокон. Я должен пробить в нем дыру, чтобы выйти к следующему, в котором, кто знает, что там — другой мир, другой роман, другое. Если бы я мог найти выход в анфилады комнат-дней, где можно спокойно жить и не писать, не сочинять, не иметь этой потребности. Жить под гнетом (как в железной маске) — что может быть страшнее? Но если это гнет, растущий изнутри… Что они знают об этом? Те, кто пишут и болтают про меня… шлепанцы, шепелявые шерстяные носки, зависть и злоба, старушки в вязаных кофточках — чужие мельницы, мельницы…
Ты наливаешь себе чай, закуриваешь сигарету, стоишь на балконе, ты измучился… ты себя ненавидишь, и книги, можно было бы их все вынести…
Ты их получил из типографии, триста экземпляров, в прошлом месяце прибыли, ты сам их разгружал из багажника машины и запрещал тестю прикасаться к пачкам, потому что у него опять воспалились суставы (ему бы вообще за руль не садиться). Большие крепкие белые пачки. Ладные, как нарвские блоки. Из восемнадцати остается одиннадцать. Ну и что с ними делать? С позапрошлого года остается семь, скоро из них на твоем балконе вырастет пирамида. Пока они не занимают слишком много места, но время идет… Еще через год, если все будет хорошо, здесь появятся пачки следующей книги, такие же невостребованные — опустошенность с каждой книгой растет: вынимаешь из себя, не успевая заполнять пустоты. С каждым годом они будут тяжелей. Не сдвинешь. Ухнешь с этого балкона однажды.
В какой колодец или котел броситься, чтобы зачерпнуть сил, чтобы заставить себя читать на людях? А через пять лет… сможешь ли ты встречаться с читателями через пять лет? Будут ли тебя помнить и приглашать? Если экземпляры книг будут лежать на твоем балконе пять лет, сможешь ли ты жить с этим? Или ты будешь выходить на балкон, делая вид, будто их там нет? Куда ты их денешь? Буду сжигать потихоньку, носить в лес, к «локаторам», по одной пачке, и там сжигать… там бомжи костры разводят, пьют одеколон и жарят что-то… хер знает что они жарят… я принесу им пачку, пусть делают что хотят… можно выбрасывать в море… тоже выход: море — достойно, красиво… оставлять в будках на остановках, забывать в транспорте, кинотеатрах, кафе… дарить первым встречным… раздать себя миру до нитки…
Романа нет. Я вращаюсь в пустоте. Дни мои — палая листва…
Я бы хотел ничего не писать, но мое воображение продолжает работать; какой-то орган судорожно сокращается, память стравливает бессмысленные переживания, воображение ткет бинты.
Встаю, прохаживаюсь. В этой комнате, к которой я прикован двенадцатью цепями. Я не знаю, как изменить нашу жизнь; я не могу изменить даже роман. Я не могу покинуть мою Каменоломню. Я не могу выйти из комнаты. Снег будет вечно лететь и перечеркивать написанное. За окном будет стоять минивэн. В домах будут гаснуть и загораться окна, снова гаснуть и загораться, а я буду здесь, прыгать по клавишам ночи, скрести черным по белому. Я запечатан в этой комнате, как послание в бутылке.
Бывают воздушные яркие романы, бывают совершенно распадающиеся на части, некоторые пишутся легко — ты словно летишь на воздушном шаре или едешь в поезде: вошел и поехал, билет куплен, торопиться не надо, выйдешь вместе с прочими, когда поезд встанет, можно даже вздремнуть — кондуктор поднимет; есть романы, похожие на внезапно прибывших старых друзей, они приезжают — вот как Штольц к Обломову — и ты им радуешься, хмелеешь от счастья, друг тебя ведет куда-то, распахивает двери, знакомит с людьми, все кажется интересным, и ты даже знакомишься заново с теми, кого знал давно, и ты рад этому, такие романы ты пьешь, как вино, как эфир, и читатели, как правило, любят такое, но кто ж виноват, что старые друзья приезжают редко, кто ж виноват в том, что они не едут вообще, или если нет их совсем, друзей, что делать, писать про негодяев? Таких полно, бродят по Каменоломне, выискивая жертву. Не лежит сердце, устал от этой романтики. Есть чудесные романы, что пишутся как бы сами собой, — это мечта, о которой говорил Пашка в середине девяностых… Мы тогда читали Кэндзи Маруяму, и кто-то писал, будто он больше не пишет романы, не сочиняет их, а в день записывает страничку, если пишется, каких-нибудь мыслей, впечатлений, какой-нибудь набросок напишет и оставит лежать, и так переходит изо дня в день, а в конце тысячи дней он соберет их все и — будет роман, и хотя я в это не верю, в такой роман я не могу поверить, но я понимаю, почему так радовался этой стратегии Пашка, он восхищался: «Уж в конце тысячи дней и ночей точно что-нибудь будет», — так просто, думал я, лежа на песке, жарясь на солнце, его восхищает необремененность чем-либо, мучиться не надо — кто сказал, что художник обязан страдать? — написал, отложил, прошла тысяча дней, собрал в коробку, вытряхнул под станок, вот тебе и книга, нет, не верю, думал я, но ничего ему не говорил, не хотел спорить, в жаркий летний день (пляж Пирита, 1994 год) мы пили синебрюховский джин, праздно убивали время, даже играли в карты; я слыхал о романах, написанных за месяц, надиктованных стенографке, это не мой путь, мой путь — Каменоломня, «Унтерменш» — роман-преграда, — страты, которые складывались не один год; стены, решетки, паутина, кокон. Я должен пробить в нем дыру, чтобы выйти к следующему, в котором, кто знает, что там — другой мир, другой роман, другое. Если бы я мог найти выход в анфилады комнат-дней, где можно спокойно жить и не писать, не сочинять, не иметь этой потребности. Жить под гнетом (как в железной маске) — что может быть страшнее? Но если это гнет, растущий изнутри… Что они знают об этом? Те, кто пишут и болтают про меня… шлепанцы, шепелявые шерстяные носки, зависть и злоба, старушки в вязаных кофточках — чужие мельницы, мельницы…
Ты наливаешь себе чай, закуриваешь сигарету, стоишь на балконе, ты измучился… ты себя ненавидишь, и книги, можно было бы их все вынести…
Ты их получил из типографии, триста экземпляров, в прошлом месяце прибыли, ты сам их разгружал из багажника машины и запрещал тестю прикасаться к пачкам, потому что у него опять воспалились суставы (ему бы вообще за руль не садиться). Большие крепкие белые пачки. Ладные, как нарвские блоки. Из восемнадцати остается одиннадцать. Ну и что с ними делать? С позапрошлого года остается семь, скоро из них на твоем балконе вырастет пирамида. Пока они не занимают слишком много места, но время идет… Еще через год, если все будет хорошо, здесь появятся пачки следующей книги, такие же невостребованные — опустошенность с каждой книгой растет: вынимаешь из себя, не успевая заполнять пустоты. С каждым годом они будут тяжелей. Не сдвинешь. Ухнешь с этого балкона однажды.
В какой колодец или котел броситься, чтобы зачерпнуть сил, чтобы заставить себя читать на людях? А через пять лет… сможешь ли ты встречаться с читателями через пять лет? Будут ли тебя помнить и приглашать? Если экземпляры книг будут лежать на твоем балконе пять лет, сможешь ли ты жить с этим? Или ты будешь выходить на балкон, делая вид, будто их там нет? Куда ты их денешь? Буду сжигать потихоньку, носить в лес, к «локаторам», по одной пачке, и там сжигать… там бомжи костры разводят, пьют одеколон и жарят что-то… хер знает что они жарят… я принесу им пачку, пусть делают что хотят… можно выбрасывать в море… тоже выход: море — достойно, красиво… оставлять в будках на остановках, забывать в транспорте, кинотеатрах, кафе… дарить первым встречным… раздать себя миру до нитки…
вас может заинтересовать

