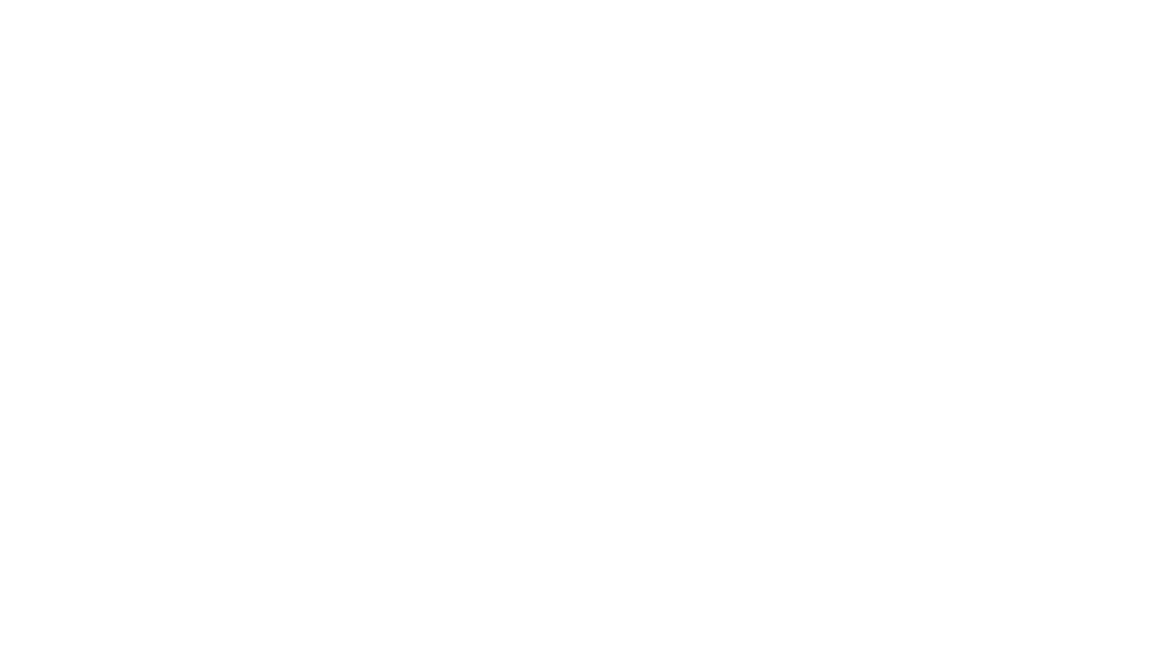
Биеннале стихий
В начале мая в Венеции открылась 58-я биеннале современного искусства. Публикуем беседу Кати Морозовой и художника Арсения Жиляева, посвященную множественным интерпретациям основного проекта и ощущениям неопределенности как главной тенденции современности.
Катя Морозова: Биеннале этого года озаглавлена May you live in interesting time, что переводят как «Чтоб вам жить в эпоху перемен / в интересные времена». В англоязычном мире считается, что это древнекитайское изречение, но в Китае о нем ничего не знают. Таким образом, уже в названии куратор Ральф Ругофф показывает, как фикция может быть полезна в интерпретации реальности. Это псевдокитайское изречение иронично предостерегает нас от «интересных времен». Название двусмысленно, и одной из главных движущих сил биеннале становятся колебания внутри дилеммы: пропагандируется ли, условно говоря, стабильность и застой, или куратор все же иронизирует над страхами «перемен». Основной проект получился, скорее, консервативным в том смысле, что отстраняется от четких политических высказываний и не делает никаких громких выводов о современности. При этом сама структура выставки указывает на тот факт, что Ругофф очень внимателен в том числе к политическому вопросу представленности женщин (их точно не меньше 50 %) и темнокожих художников. Россиян, напротив, впервые за постсоветскую историю в списке участников нет, и, похоже, это тоже сознательный политический выбор. Другими словами, вопрос в том, как нам смотреть на эту биеннале. Действительно ли в ней нет громкого высказывания или же речь о какой-то иной форме высказывания, отличающейся от программного, «парадного» кураторского заявления? Ты уже работал с Ральфом для его проекта на Лионской биеннале в 2015 году, поэтому, возможно, понимаешь его метод изнутри.
Арсений Жиляев: Да, мне кажется, Ральф открыто говорит, что не является сторонником биеннале как формата, но при этом готов честно и старательно выполнить возложенные на него обязанности. Более-менее все согласны с тем, что биеннале изжили себя, хотя при этом никакого иного сопоставимого по значимости формата на данный момент не видно. Плюс институциональная инерция прошлого века, который закончился своеобразным биеннальным бумом, продолжает худо-бедно подпитывать карусель мирового арт-туризма. Еще десять-пятнадцать лет назад каждый уголок мира хотел обозначить себя на карте современности посредством биеннале. Для каждого художника было жизненно важно оказаться в обойме художников, кочующих по всему миру вслед за сбивчивым стаккато двухгодичных мегавыставок.
Сегодня же стало очевидно, что биеннале, с одной стороны, все еще претендует на то, чтобы заявлять прогрессивную социальную и эстетическую повестку, с другой — платить по счетам уже давно нечем. Причем платить как в прямом, так и в переносном смысле. Да, искусство никогда не выполняет своих обещаний, и к этому все более-менее привыкли, считая частью устройства нашего нелинейного мира. Но ведь и в прямом смысле за биеннале должны платить. Если раньше, в эпоху высоких цен на нефть и экспорта демократии, финансовые вопросы разрешались довольно легко, то сегодня в условиях cultural cuts, санкций, торговых войн, всеобщей автономизации, суверенных интернетов, скреп, новой реакции и прочих примет времени цены за интернациональные форумы стали слишком высоки. В полной мере их могут оплачивать — чего уж душой кривить — люди, которые зачастую находятся в санкционных списках или же рано или поздно могут в них оказаться. И речь не только о российских членах рейтинга Forbes. Ведь не случайно в числе модных течений последнего времени были Gulf Futurism (арабский, стран Персидского залива) и Sinofuturism (его китайский собрат). Впрочем, и «добропорядочные» европейцы, и американцы все чаще сомневаются в необходимости оплаты собственной критики посредством высоких художественных технологий.
И все это лишь верхушка айсберга, лишь карта подводных течений, оформляющих биеннале. А ведь есть чисто структурные особенности работы кураторских коллективов, которые должны в сверхсжатые сроки придумать и реализовать порой гигантских размеров проект. Часто все это делается в перерывах на основную работу или же урывками между многочасовыми перелетами. В общем, биеннале и раньше всегда были компромиссом, а теперь тем более. И в этой ситуации трезвая оценка куратором собственных возможностей кажется мне более чем убедительным высказыванием.
В прессе применительно к биеннале в Венеции звучали темы постправды, да и само название дает много поводов для спекуляций. Здесь много стихий (будь то стихии природные или же стихийность времени), а также желания найти свое отношение к этому. Но, как я понял, Ральф решил, что навязывать выставке нечто сверху будет не совсем правильным шагом, и ушел от четкой тематизации. В Лионе было примерно то же самое с поправкой на спущенную от руководства тему про модернизм, современность. Такой подход дает высказываниям художников большую автономность и в целом смещает акценты на композицию выставочного проекта, делая ее более «естественной», что ли. На мой вкус, такой подход ближе к позиции журнала «Носорог», нет?
Арсений Жиляев: Да, мне кажется, Ральф открыто говорит, что не является сторонником биеннале как формата, но при этом готов честно и старательно выполнить возложенные на него обязанности. Более-менее все согласны с тем, что биеннале изжили себя, хотя при этом никакого иного сопоставимого по значимости формата на данный момент не видно. Плюс институциональная инерция прошлого века, который закончился своеобразным биеннальным бумом, продолжает худо-бедно подпитывать карусель мирового арт-туризма. Еще десять-пятнадцать лет назад каждый уголок мира хотел обозначить себя на карте современности посредством биеннале. Для каждого художника было жизненно важно оказаться в обойме художников, кочующих по всему миру вслед за сбивчивым стаккато двухгодичных мегавыставок.
Сегодня же стало очевидно, что биеннале, с одной стороны, все еще претендует на то, чтобы заявлять прогрессивную социальную и эстетическую повестку, с другой — платить по счетам уже давно нечем. Причем платить как в прямом, так и в переносном смысле. Да, искусство никогда не выполняет своих обещаний, и к этому все более-менее привыкли, считая частью устройства нашего нелинейного мира. Но ведь и в прямом смысле за биеннале должны платить. Если раньше, в эпоху высоких цен на нефть и экспорта демократии, финансовые вопросы разрешались довольно легко, то сегодня в условиях cultural cuts, санкций, торговых войн, всеобщей автономизации, суверенных интернетов, скреп, новой реакции и прочих примет времени цены за интернациональные форумы стали слишком высоки. В полной мере их могут оплачивать — чего уж душой кривить — люди, которые зачастую находятся в санкционных списках или же рано или поздно могут в них оказаться. И речь не только о российских членах рейтинга Forbes. Ведь не случайно в числе модных течений последнего времени были Gulf Futurism (арабский, стран Персидского залива) и Sinofuturism (его китайский собрат). Впрочем, и «добропорядочные» европейцы, и американцы все чаще сомневаются в необходимости оплаты собственной критики посредством высоких художественных технологий.
И все это лишь верхушка айсберга, лишь карта подводных течений, оформляющих биеннале. А ведь есть чисто структурные особенности работы кураторских коллективов, которые должны в сверхсжатые сроки придумать и реализовать порой гигантских размеров проект. Часто все это делается в перерывах на основную работу или же урывками между многочасовыми перелетами. В общем, биеннале и раньше всегда были компромиссом, а теперь тем более. И в этой ситуации трезвая оценка куратором собственных возможностей кажется мне более чем убедительным высказыванием.
В прессе применительно к биеннале в Венеции звучали темы постправды, да и само название дает много поводов для спекуляций. Здесь много стихий (будь то стихии природные или же стихийность времени), а также желания найти свое отношение к этому. Но, как я понял, Ральф решил, что навязывать выставке нечто сверху будет не совсем правильным шагом, и ушел от четкой тематизации. В Лионе было примерно то же самое с поправкой на спущенную от руководства тему про модернизм, современность. Такой подход дает высказываниям художников большую автономность и в целом смещает акценты на композицию выставочного проекта, делая ее более «естественной», что ли. На мой вкус, такой подход ближе к позиции журнала «Носорог», нет?
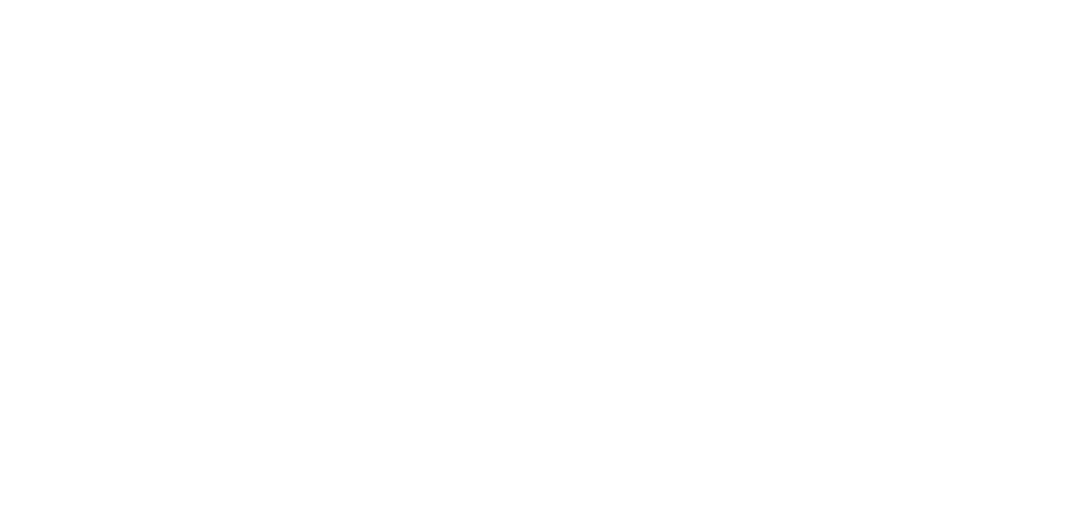
КМ: Да, метод «Носорога» в целом можно обозначить как свободное сосуществование слов и образов, совсем не обязательно складывающихся в четкую форму некоего заявления. Нам важнее удержать внимание читателя, оставленного один на один с художественными высказываниями, практически без помощи каких-либо проводников или указателей.
Можно с уверенность говорить, что Ральф сознательно заботился об экономике зрительского восприятия и внимания. Так, например, он модернизировал структуру биеннале: единый основной проект, по традиции разделенный между пространствами Арсенале и Джардини, у него состоит как бы из двух разных выставок, но каждая из них — с одним и тем же составом художников. Идея была в том, чтобы сместить акценты с отдельного произведения на творческий поиск, показать художника, его метод в целом, желательно даже — очень разные работы одного и того же автора. Интересно, что этот способ «высвечивания» фигуры автора, а не отдельного произведения становится у куратора частью обращения к «Открытому произведению» Умберто Эко, сборнику очерков, вышедшему в 1962 году и посвященному критике представлений о произведении искусства как о замкнутом на себе целом. Ответом на двусмысленность и хаотичность современной эпохи (в противовес классической) может быть только открытое произведение, которое задает вопросы и предлагает множественные интерпретации. В одном интервью Ругофф говорит, что его «библия — это мысль Эко о том, что искусство должно задавать вопросы, а не находить ответы». Но работая таким образом с выстраиванием экспозиции, куратор очень «уплотняет» содержание отдельных составляющих композиции. Мы действительно с интересом наблюдаем за изменениями того или иного художника (по сравнению с его же высказыванием в другой части проекта), но при этом отвлекаемся от какого-то общего нарратива.
АЖ: Ну, во-первых, если речь в каком-то смысле идет о биеннале стихий, то нарратив не очень подходящая форма для выражения. Во-вторых, я все же не соглашусь с тем, что у Ральфа совсем нет нарратива. Он прослеживается ровно настолько, насколько это возможно для такой выставки, как биеннале. Например, по просьбе куратора в этому году зашили два ряда колонн Арсенале в фанеру, чтобы уйти от четкого деления пространства на три зоны, как в большинстве христианских храмов и одновременно с тем — ярмарок современного искусства. Зачастую попытки дистанцироваться от ненужных ассоциаций приводили к неутешительным результатам. Так было четыре года назад с биеннале Окви Энвезора, который сделал очень чопорный и во многом консервативный проект, по моему мнению. Отдельным произведениям давалось много пространства, они чувствовали себя вольготно, думаю, художники были довольны. Но в итоге работы не взаимодействовали друг с другом, никакого диалога между ними не было. По ощущениям это напоминало именно что просмотр престижной арт-ярмарки, где ведь тоже зачастую представлены те же самые художники. Ругофф говорил, что сознательно хотел избежать этого, апеллируя к структуре лабиринта. Не скажу, что получилось на все сто процентов, но, как кажется, публика в целом довольна дизайнерскими и архитектурными решениями основного проекта. Впрочем, были шутки на тему, что нам теперь стоит ждать ярмарки с архитектурой лабиринта и зашитыми в фанеру стенами.
В Джардини выставка начинается с искусственного тумана Лары Фаваретто, и это на самом деле неплохое начало для проекта, посвященного рассуждениям о переменах, страхах перед ними. Впрочем, нечто подобное было на эмблематической «Документе 13» под кураторством Каролин Кристов-Бакарджиев в 2012 году. Тогда экспозиция в Фридерициануме начиналась с почти пустого зала, где зритель мог почувствовать ветер, сгенерированный художником Райаном Гандером. Работа называлась I Need Some Meaning I Can Memorise (The Invisible Pull). В контексте истории кассельской «Документы» (выставки, инициированной после Второй мировой войны, чтобы изжить травмы нацизма, вернувшись к экспериментам модернизма) первое, что приходило на ум при столкновении с бризом в пустой комнате, — беньяминовский ангел истории, которого ветер толкает вперед, хотя обращен он назад и видит только катастрофы и смерть. В этом смысле туман венецианской выставки, ее неопределенность, застойность довольно четко противопоставлены более заряженной историческими коннотациями и в целом более амбициозной кассельской экспозиции.
Кстати, выставки Ругоффа и Кристов-Бакарджиев роднит еще отказ от программного кураторского высказывания, хотя шесть лет назад это был лишь тактический ход. По мнению Кристов-Бакарджиев, в стремлении придумывать выставкам концепции отражается патриархальность больших проектов, а ее выставка исходила из экофеминистического отношения к миру. Но формальный отказ от высказывания на словах далеко не всегда означает его отсутствие на деле. Как и с политикой, подчеркнутая аполитичность может быть сильным политическим жестом.
Нарратив у Ругоффа строится через структуру самой экспозиции. Да, он местами пунктирный, но все же логика присутствует как в целом, так и в отдельных залах. Кстати, можно заметить, что в этом году есть любопытный резонанс главного проекта и отдельных национальных павильонов. В частности, критики шутили, что главный вопрос биеннале — это вопрос частоты появления туманов. Лор Пруво создает облако тумана у фасада французского павильона, Лара Фаваретто открывает туманом главный проект. Можно ли сказать, что облака тумана — это тренд?
Лабиринт, помимо пространства Арсенале, возник еще и в итальянском павильоне. В этом году он был хорош, как никогда. Обычно здесь можно встретить те же самые проблемы, что и с российским представительством: государственное финансирование и неумелая организация, консервативность, художники-академисты, проблемы с трактовкой современности и пр. Но, похоже, — не в пример России — от политических противоречий, захлестнувших Италию в последнее время, искусство только выигрывает.
Главная идея павильона в этом году — выставка-лабиринт под кураторством Милона Фарранато. «Ни то, ни это: вызов лабиринту» наполнена мистическими артефактами Энрико Дэвида, пространствами Лилианы Моро, инфографикой и звуковыми работами Кьяры Фумаи (легендарная фигура местного контекста, участница «Документы 13», лауреат многочисленных премий, радикальная феминистка-ведьма, которая умерла летом 2017-го на 39-м году жизни, повесившись после принятия ударной дозы наркотиков в галерее Doppelgaenger в южном итальянском городе Бари, куда прилетела из Нью-Йорка, чтобы справится с продолжительной депрессией). В качестве референсов лондонский куратор указал на эссе Итало Кальвино, как раз и давшее название павильону (La sfida al labirinto — «Вызов лабиринту», эссе не переведено на русский. — Примеч. ред.), и тексты Хорхе Луиса Борхеса.
Релиз уверяет, что не существует «правильного» способа осмотреть выставку, которая имеет два зеркальных входа и несколько тупиков и «трещин». «Лабиринт — это наш постамент, цоколь, удерживающий конструкцию», — объясняет Фарронато. «Существует три разных пути, разные интерпретации и перспективы. Вы должны быть свободны выбирать, не боясь что-то упустить». Обычно так говорят людям, в первый раз приезжающим в Венецию или начинающим эксперименты с психогеографией: попробуйте потеряться. Кажется, у итальянцев, как и у Ругоффа, получилось передать это ощущение зрителям. Наверное, для такого города, как Венеция, структура лабиринта, как и туманы, оправдана. А если так, можно говорить о более зарифмованной, более поэтичной выставке в целом. Тебе не показалось, что поэзия в этом году победила прозу?
Можно с уверенность говорить, что Ральф сознательно заботился об экономике зрительского восприятия и внимания. Так, например, он модернизировал структуру биеннале: единый основной проект, по традиции разделенный между пространствами Арсенале и Джардини, у него состоит как бы из двух разных выставок, но каждая из них — с одним и тем же составом художников. Идея была в том, чтобы сместить акценты с отдельного произведения на творческий поиск, показать художника, его метод в целом, желательно даже — очень разные работы одного и того же автора. Интересно, что этот способ «высвечивания» фигуры автора, а не отдельного произведения становится у куратора частью обращения к «Открытому произведению» Умберто Эко, сборнику очерков, вышедшему в 1962 году и посвященному критике представлений о произведении искусства как о замкнутом на себе целом. Ответом на двусмысленность и хаотичность современной эпохи (в противовес классической) может быть только открытое произведение, которое задает вопросы и предлагает множественные интерпретации. В одном интервью Ругофф говорит, что его «библия — это мысль Эко о том, что искусство должно задавать вопросы, а не находить ответы». Но работая таким образом с выстраиванием экспозиции, куратор очень «уплотняет» содержание отдельных составляющих композиции. Мы действительно с интересом наблюдаем за изменениями того или иного художника (по сравнению с его же высказыванием в другой части проекта), но при этом отвлекаемся от какого-то общего нарратива.
АЖ: Ну, во-первых, если речь в каком-то смысле идет о биеннале стихий, то нарратив не очень подходящая форма для выражения. Во-вторых, я все же не соглашусь с тем, что у Ральфа совсем нет нарратива. Он прослеживается ровно настолько, насколько это возможно для такой выставки, как биеннале. Например, по просьбе куратора в этому году зашили два ряда колонн Арсенале в фанеру, чтобы уйти от четкого деления пространства на три зоны, как в большинстве христианских храмов и одновременно с тем — ярмарок современного искусства. Зачастую попытки дистанцироваться от ненужных ассоциаций приводили к неутешительным результатам. Так было четыре года назад с биеннале Окви Энвезора, который сделал очень чопорный и во многом консервативный проект, по моему мнению. Отдельным произведениям давалось много пространства, они чувствовали себя вольготно, думаю, художники были довольны. Но в итоге работы не взаимодействовали друг с другом, никакого диалога между ними не было. По ощущениям это напоминало именно что просмотр престижной арт-ярмарки, где ведь тоже зачастую представлены те же самые художники. Ругофф говорил, что сознательно хотел избежать этого, апеллируя к структуре лабиринта. Не скажу, что получилось на все сто процентов, но, как кажется, публика в целом довольна дизайнерскими и архитектурными решениями основного проекта. Впрочем, были шутки на тему, что нам теперь стоит ждать ярмарки с архитектурой лабиринта и зашитыми в фанеру стенами.
В Джардини выставка начинается с искусственного тумана Лары Фаваретто, и это на самом деле неплохое начало для проекта, посвященного рассуждениям о переменах, страхах перед ними. Впрочем, нечто подобное было на эмблематической «Документе 13» под кураторством Каролин Кристов-Бакарджиев в 2012 году. Тогда экспозиция в Фридерициануме начиналась с почти пустого зала, где зритель мог почувствовать ветер, сгенерированный художником Райаном Гандером. Работа называлась I Need Some Meaning I Can Memorise (The Invisible Pull). В контексте истории кассельской «Документы» (выставки, инициированной после Второй мировой войны, чтобы изжить травмы нацизма, вернувшись к экспериментам модернизма) первое, что приходило на ум при столкновении с бризом в пустой комнате, — беньяминовский ангел истории, которого ветер толкает вперед, хотя обращен он назад и видит только катастрофы и смерть. В этом смысле туман венецианской выставки, ее неопределенность, застойность довольно четко противопоставлены более заряженной историческими коннотациями и в целом более амбициозной кассельской экспозиции.
Кстати, выставки Ругоффа и Кристов-Бакарджиев роднит еще отказ от программного кураторского высказывания, хотя шесть лет назад это был лишь тактический ход. По мнению Кристов-Бакарджиев, в стремлении придумывать выставкам концепции отражается патриархальность больших проектов, а ее выставка исходила из экофеминистического отношения к миру. Но формальный отказ от высказывания на словах далеко не всегда означает его отсутствие на деле. Как и с политикой, подчеркнутая аполитичность может быть сильным политическим жестом.
Нарратив у Ругоффа строится через структуру самой экспозиции. Да, он местами пунктирный, но все же логика присутствует как в целом, так и в отдельных залах. Кстати, можно заметить, что в этом году есть любопытный резонанс главного проекта и отдельных национальных павильонов. В частности, критики шутили, что главный вопрос биеннале — это вопрос частоты появления туманов. Лор Пруво создает облако тумана у фасада французского павильона, Лара Фаваретто открывает туманом главный проект. Можно ли сказать, что облака тумана — это тренд?
Лабиринт, помимо пространства Арсенале, возник еще и в итальянском павильоне. В этом году он был хорош, как никогда. Обычно здесь можно встретить те же самые проблемы, что и с российским представительством: государственное финансирование и неумелая организация, консервативность, художники-академисты, проблемы с трактовкой современности и пр. Но, похоже, — не в пример России — от политических противоречий, захлестнувших Италию в последнее время, искусство только выигрывает.
Главная идея павильона в этом году — выставка-лабиринт под кураторством Милона Фарранато. «Ни то, ни это: вызов лабиринту» наполнена мистическими артефактами Энрико Дэвида, пространствами Лилианы Моро, инфографикой и звуковыми работами Кьяры Фумаи (легендарная фигура местного контекста, участница «Документы 13», лауреат многочисленных премий, радикальная феминистка-ведьма, которая умерла летом 2017-го на 39-м году жизни, повесившись после принятия ударной дозы наркотиков в галерее Doppelgaenger в южном итальянском городе Бари, куда прилетела из Нью-Йорка, чтобы справится с продолжительной депрессией). В качестве референсов лондонский куратор указал на эссе Итало Кальвино, как раз и давшее название павильону (La sfida al labirinto — «Вызов лабиринту», эссе не переведено на русский. — Примеч. ред.), и тексты Хорхе Луиса Борхеса.
Релиз уверяет, что не существует «правильного» способа осмотреть выставку, которая имеет два зеркальных входа и несколько тупиков и «трещин». «Лабиринт — это наш постамент, цоколь, удерживающий конструкцию», — объясняет Фарронато. «Существует три разных пути, разные интерпретации и перспективы. Вы должны быть свободны выбирать, не боясь что-то упустить». Обычно так говорят людям, в первый раз приезжающим в Венецию или начинающим эксперименты с психогеографией: попробуйте потеряться. Кажется, у итальянцев, как и у Ругоффа, получилось передать это ощущение зрителям. Наверное, для такого города, как Венеция, структура лабиринта, как и туманы, оправдана. А если так, можно говорить о более зарифмованной, более поэтичной выставке в целом. Тебе не показалось, что поэзия в этом году победила прозу?
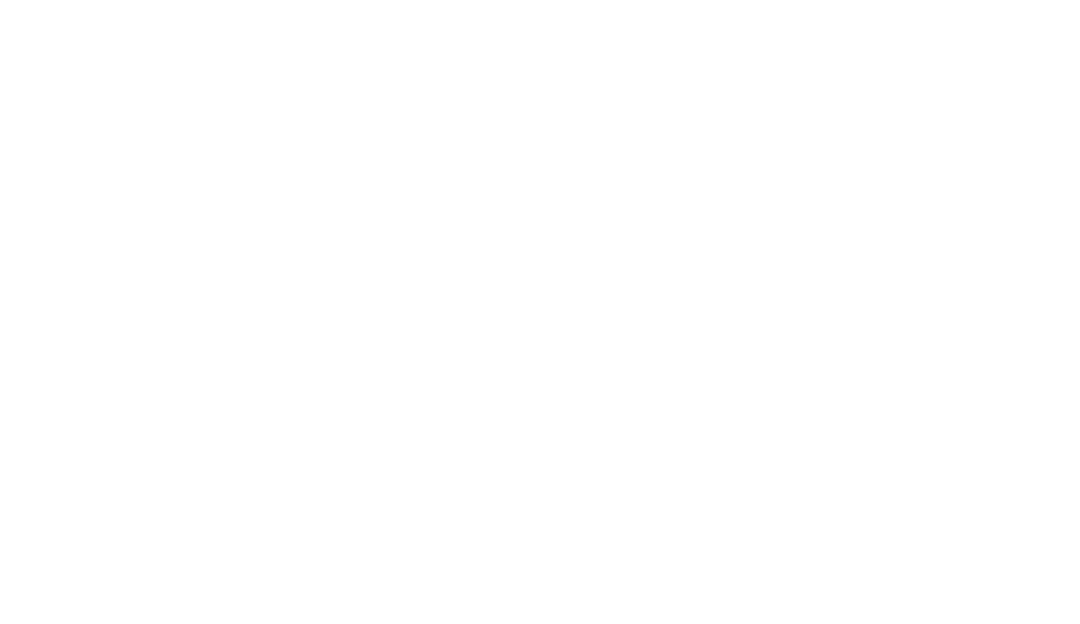
КМ: Туман — это вечный венецианский тренд, а поэзия действительно победила! По крайней мере в официальном конкурсе. «Золотого льва» за вклад в искусство вручили скульптору и поэту Джимми Дарему, который известен переосмыслением и переоткрыванием образов коренных жителей Америки. Всегда самый ожидаемый приз — «Золотой лев» за лучший павильон — получила работа Sun & Sea (Marina) из Литвы (коллектив из режиссера Ругиле Барзджюкайте, литератора Вайвы Грайните и композитора Лины Лапелите). Их медиум — это опера, и, соответственно, неотъемлемая часть проекта — либретто. Вообще в этом году очень много отдельных работ и целых выставок (не только в официальной части), так или иначе работающих с поэзией. Иногда даже начинает казаться, что поэзия стала прислужницей современного искусства в том его виде, в котором оно существует на крупных международных смотрах.
Если же говорить о заметных поэтических работах этого года, то я для себя тоже выделила упомянутый тобой итальянский павильон-лабиринт. Интересно, что эссе Кальвино, на которое он опирается, написано в том же, 1962 году, что и столь важное для Ругоффа «Открытое произведение» Эко, и напечатано в журнале Il Menabo di letteratura — там же, где Эко опубликовал своеобразное продолжение своих размышлений. Кальвино, как заметил позже Эко, как будто с ним полемизировал, но по сути соглашался. Эссе Кальвино — о поисках выхода из мира современного лабиринта с помощью в том числе искусства, которое не довольствуется простой репрезентацией реальности.
Еще я бы отметила павильон Японии Сosmo-Eggs. В нем представлена довольно сложно устроенная история о мифологическом и природном, о воображаемом сосуществовании человека и объектов, музыки и слова. Отдельное произведение — их книга-каталог, повествующая о создании проекта, с музыкальными нотами и поэтической легендой о сотворении мира, созданной на основе мифов о цунами тех народов Азии, которые постоянно живут под угрозой стихии.
Туман — тоже проявление особой стихии, венецианской, и его включение в выставочное пространство, возможно, лучшая иллюстрация к тезисам Эко об открытом произведении и «произведении-в-движении» с необходимыми неопределенностью и недосказанностью, дающими зрителю бесчисленное множество интерпретаций.
В этом смысле гораздо более «закрытым» получился проект-победитель. Его экологический посыл весьма однозначен и ясен для зрителя. Однако это очень и очень удачная работа, заслуженно пользующаяся сейчас в Венеции большой популярностью и из-за статуса победителя, и из-за перформативного и в какой-то мере развлекательного характера. Интересно, что лучшим павильоном вторую биеннале подряд становится live show с расписанием, очередями на вход и прочими ритуальными особенностями. Напомню, что год назад «Льва» за лучший павильон взяла Германия, которую представлял «Фауст» Анны Имхов. Можно ли поэтому сказать, возвращая тебе твой же вопрос, что победила даже не поэзия, а музыкально-перформативные действа? Если это, скорее, совпадение, то что тогда можно назвать трендами в искусстве по итогам этой биеннале?
Если же говорить о заметных поэтических работах этого года, то я для себя тоже выделила упомянутый тобой итальянский павильон-лабиринт. Интересно, что эссе Кальвино, на которое он опирается, написано в том же, 1962 году, что и столь важное для Ругоффа «Открытое произведение» Эко, и напечатано в журнале Il Menabo di letteratura — там же, где Эко опубликовал своеобразное продолжение своих размышлений. Кальвино, как заметил позже Эко, как будто с ним полемизировал, но по сути соглашался. Эссе Кальвино — о поисках выхода из мира современного лабиринта с помощью в том числе искусства, которое не довольствуется простой репрезентацией реальности.
Еще я бы отметила павильон Японии Сosmo-Eggs. В нем представлена довольно сложно устроенная история о мифологическом и природном, о воображаемом сосуществовании человека и объектов, музыки и слова. Отдельное произведение — их книга-каталог, повествующая о создании проекта, с музыкальными нотами и поэтической легендой о сотворении мира, созданной на основе мифов о цунами тех народов Азии, которые постоянно живут под угрозой стихии.
Туман — тоже проявление особой стихии, венецианской, и его включение в выставочное пространство, возможно, лучшая иллюстрация к тезисам Эко об открытом произведении и «произведении-в-движении» с необходимыми неопределенностью и недосказанностью, дающими зрителю бесчисленное множество интерпретаций.
В этом смысле гораздо более «закрытым» получился проект-победитель. Его экологический посыл весьма однозначен и ясен для зрителя. Однако это очень и очень удачная работа, заслуженно пользующаяся сейчас в Венеции большой популярностью и из-за статуса победителя, и из-за перформативного и в какой-то мере развлекательного характера. Интересно, что лучшим павильоном вторую биеннале подряд становится live show с расписанием, очередями на вход и прочими ритуальными особенностями. Напомню, что год назад «Льва» за лучший павильон взяла Германия, которую представлял «Фауст» Анны Имхов. Можно ли поэтому сказать, возвращая тебе твой же вопрос, что победила даже не поэзия, а музыкально-перформативные действа? Если это, скорее, совпадение, то что тогда можно назвать трендами в искусстве по итогам этой биеннале?
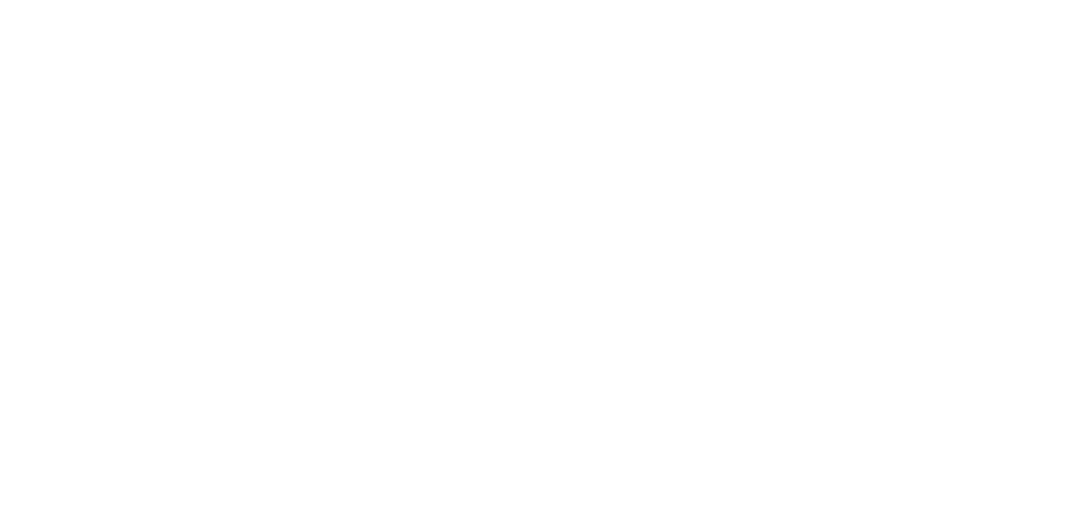
АЖ: Да, действительно, в искусстве, наверное, с начала 2010-х годов существует сильная перформативная тенденция. Возможно, это был ответ на консервативный поворот после 11 сентября, который вернул все традиционные медиумы, порой в самом их пошлом виде. Потом, нельзя забывать, что начало десятилетия совпало с волной политических потрясений, ростом активности уличных движений, новыми революционными надеждами — это было время «арабской весны», Occupy Wall Street, уличных протестов и революций в странах постсоветского пространства. Хотя рассвет спекулятивных реалистов начался в середине 2000-х и совпал с новым интересом к объекту в искусстве, конец прошлой декады был бенефисом марксистов в виде итальянского постопераизма, который как раз анализировал специфику новых типов труда через его перформативность, виртуозность и прочее. В России выражением этой тенденции были брехтианские оперы питерской группы «Что делать?» или же музыкальные перформансы философа Кети Чухров, в каком-то смысле даже Pussy Riot или же положенные на музыку тексты Александра Бренера в исполнении группы «Аркадий Коц». Все это — пример марксистской критики, воплощенной на территории искусства посредством музыки и исполнительского мастерства.
Можно говорить, что Имхов и нынешний победитель — продолжение начатого около десяти лет назад. Но сейчас на место политических надежд пришло полное разочарование, и это сильно смещает акценты. Имхов в среднем убедила всех своим проектом, но многими она воспринимается в качестве современной Лени Рифеншталь. И здесь уже надо разбираться. Для кого-то это движение в правильном направлении, так как эстетика, работающая с телесностью, не должна однозначно маркироваться как обязательно фашистская, нацистская. Но для кого-то все же деполитизированные, фетишистские в отношении молодости перформансы Имхов — признак упадка.
Возможно, проблема в том, что без подпитки со стороны освободительных движений политизированное искусство довольно быстро теряет свою энергию. А в сухом остатке перформативности остается шуточность, трагикомичность, очень остроумная пассивность, как в случае с Sun & Sea (Marina), или же эстетизация тела, как у Имхов, которая перекидывает мостик к эстетическим опытам адептов ООО (Объектно-ориентированная онтология. — Примеч. ред.). В данном контексте можно вспомнить и цирк от группы Alternatizioni Video, устроенный фондом V-A-C на набережной у своего палаццо Дзаттере. Здесь вроде бы все очевидно. Речь про виртуозность со ссылками на Ленина: цирк как самое главное из советских искусств. То есть мы имеем дело со сложно организованным высказыванием левого толка. Но с послевкусием приходит осознание, что надрывный хохот стал нашим прожиточным минимумом и ни на что большее мы претендовать сегодня не можем.
Я думаю, что на главный вопрос биеннале касательно тумана можно ответить утвердительно. Да, туман, застой, неопределенность, растерянность — это основная тенденция современности. Хотя «тенденция» предполагает большую целеустремленность и подвижность, она ближе к ветру. В случае с неопределенностью тумана можно говорить о состоянии, о стабильной нестабильности, о чем-то таком.
Если мы посмотрим на литовскую оперу, то поймем, что она ведь тоже о погоде, о климатических изменениях. Минувшей весной в Венеции (да и в целом в Европе), в отличие от Москвы, было очень прохладно и дождливо. Обычно о погоде вспоминают, когда больше не о чем вспомнить. Или когда в принципе не знаешь, о чем поговорить. И это состояние я бы и назвал главным ощущением от биеннале. Мы растеряны, сказать по существу происходящего нам нечего, особых надежд и планов на будущее нет. А еще непогода. Впрочем, можно «спеть» на тему или же просто молча наблюдать и не навязывать увиденному свою антропоцентричную позицию. Ведь, как говорит Гройс, «в будущем только снег, дождь, солнечный свет и некоторые другие, абсолютно некоммерческие, кстати, природные феномены и будут восприниматься эстетически, а все, что делает человек, окончательно уйдет в область прагматики».
Можно говорить, что Имхов и нынешний победитель — продолжение начатого около десяти лет назад. Но сейчас на место политических надежд пришло полное разочарование, и это сильно смещает акценты. Имхов в среднем убедила всех своим проектом, но многими она воспринимается в качестве современной Лени Рифеншталь. И здесь уже надо разбираться. Для кого-то это движение в правильном направлении, так как эстетика, работающая с телесностью, не должна однозначно маркироваться как обязательно фашистская, нацистская. Но для кого-то все же деполитизированные, фетишистские в отношении молодости перформансы Имхов — признак упадка.
Возможно, проблема в том, что без подпитки со стороны освободительных движений политизированное искусство довольно быстро теряет свою энергию. А в сухом остатке перформативности остается шуточность, трагикомичность, очень остроумная пассивность, как в случае с Sun & Sea (Marina), или же эстетизация тела, как у Имхов, которая перекидывает мостик к эстетическим опытам адептов ООО (Объектно-ориентированная онтология. — Примеч. ред.). В данном контексте можно вспомнить и цирк от группы Alternatizioni Video, устроенный фондом V-A-C на набережной у своего палаццо Дзаттере. Здесь вроде бы все очевидно. Речь про виртуозность со ссылками на Ленина: цирк как самое главное из советских искусств. То есть мы имеем дело со сложно организованным высказыванием левого толка. Но с послевкусием приходит осознание, что надрывный хохот стал нашим прожиточным минимумом и ни на что большее мы претендовать сегодня не можем.
Я думаю, что на главный вопрос биеннале касательно тумана можно ответить утвердительно. Да, туман, застой, неопределенность, растерянность — это основная тенденция современности. Хотя «тенденция» предполагает большую целеустремленность и подвижность, она ближе к ветру. В случае с неопределенностью тумана можно говорить о состоянии, о стабильной нестабильности, о чем-то таком.
Если мы посмотрим на литовскую оперу, то поймем, что она ведь тоже о погоде, о климатических изменениях. Минувшей весной в Венеции (да и в целом в Европе), в отличие от Москвы, было очень прохладно и дождливо. Обычно о погоде вспоминают, когда больше не о чем вспомнить. Или когда в принципе не знаешь, о чем поговорить. И это состояние я бы и назвал главным ощущением от биеннале. Мы растеряны, сказать по существу происходящего нам нечего, особых надежд и планов на будущее нет. А еще непогода. Впрочем, можно «спеть» на тему или же просто молча наблюдать и не навязывать увиденному свою антропоцентричную позицию. Ведь, как говорит Гройс, «в будущем только снег, дождь, солнечный свет и некоторые другие, абсолютно некоммерческие, кстати, природные феномены и будут восприниматься эстетически, а все, что делает человек, окончательно уйдет в область прагматики».
вас может заинтересовать
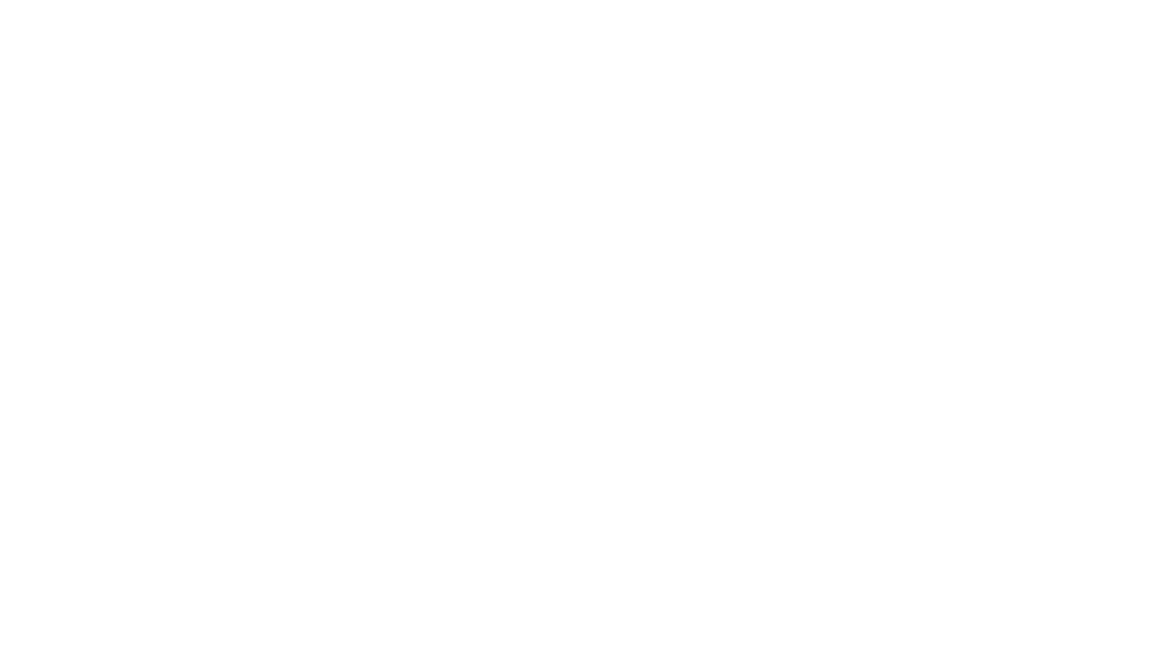
Биеннале стихий
В начале мая в Венеции открылась 58-я биеннале современного искусства. Публикуем беседу Кати Морозовой и художника Арсения Жиляева, посвященную множественным интерпретациям основного проекта и ощущениям неопределенности как главной тенденции современности.
Катя Морозова: Биеннале этого года озаглавлена May you live in interesting time, что переводят как «Чтоб вам жить в эпоху перемен / в интересные времена». В англоязычном мире считается, что это древнекитайское изречение, но в Китае о нем ничего не знают. Таким образом, уже в названии куратор Ральф Ругофф показывает, как фикция может быть полезна в интерпретации реальности. Это псевдокитайское изречение иронично предостерегает нас от «интересных времен». Название двусмысленно, и одной из главных движущих сил биеннале становятся колебания внутри дилеммы: пропагандируется ли, условно говоря, стабильность и застой, или куратор все же иронизирует над страхами «перемен». Основной проект получился, скорее, консервативным в том смысле, что отстраняется от четких политических высказываний и не делает никаких громких выводов о современности. При этом сама структура выставки указывает на тот факт, что Ругофф очень внимателен в том числе к политическому вопросу представленности женщин (их точно не меньше 50 %) и темнокожих художников. Россиян, напротив, впервые за постсоветскую историю в списке участников нет, и, похоже, это тоже сознательный политический выбор. Другими словами, вопрос в том, как нам смотреть на эту биеннале. Действительно ли в ней нет громкого высказывания или же речь о какой-то иной форме высказывания, отличающейся от программного, «парадного» кураторского заявления? Ты уже работал с Ральфом для его проекта на Лионской биеннале в 2015 году, поэтому, возможно, понимаешь его метод изнутри.
Арсений Жиляев: Да, мне кажется, Ральф открыто говорит, что не является сторонником биеннале как формата, но при этом готов честно и старательно выполнить возложенные на него обязанности. Более-менее все согласны с тем, что биеннале изжили себя, хотя при этом никакого иного сопоставимого по значимости формата на данный момент не видно. Плюс институциональная инерция прошлого века, который закончился своеобразным биеннальным бумом, продолжает худо-бедно подпитывать карусель мирового арт-туризма. Еще десять-пятнадцать лет назад каждый уголок мира хотел обозначить себя на карте современности посредством биеннале. Для каждого художника было жизненно важно оказаться в обойме художников, кочующих по всему миру вслед за сбивчивым стаккато двухгодичных мегавыставок.
Сегодня же стало очевидно, что биеннале, с одной стороны, все еще претендует на то, чтобы заявлять прогрессивную социальную и эстетическую повестку, с другой — платить по счетам уже давно нечем. Причем платить как в прямом, так и в переносном смысле. Да, искусство никогда не выполняет своих обещаний, и к этому все более-менее привыкли, считая частью устройства нашего нелинейного мира. Но ведь и в прямом смысле за биеннале должны платить. Если раньше, в эпоху высоких цен на нефть и экспорта демократии, финансовые вопросы разрешались довольно легко, то сегодня в условиях cultural cuts, санкций, торговых войн, всеобщей автономизации, суверенных интернетов, скреп, новой реакции и прочих примет времени цены за интернациональные форумы стали слишком высоки. В полной мере их могут оплачивать — чего уж душой кривить — люди, которые зачастую находятся в санкционных списках или же рано или поздно могут в них оказаться. И речь не только о российских членах рейтинга Forbes. Ведь не случайно в числе модных течений последнего времени были Gulf Futurism (арабский, стран Персидского залива) и Sinofuturism (его китайский собрат). Впрочем, и «добропорядочные» европейцы, и американцы все чаще сомневаются в необходимости оплаты собственной критики посредством высоких художественных технологий.
И все это лишь верхушка айсберга, лишь карта подводных течений, оформляющих биеннале. А ведь есть чисто структурные особенности работы кураторских коллективов, которые должны в сверхсжатые сроки придумать и реализовать порой гигантских размеров проект. Часто все это делается в перерывах на основную работу или же урывками между многочасовыми перелетами. В общем, биеннале и раньше всегда были компромиссом, а теперь тем более. И в этой ситуации трезвая оценка куратором собственных возможностей кажется мне более чем убедительным высказыванием.
В прессе применительно к биеннале в Венеции звучали темы постправды, да и само название дает много поводов для спекуляций. Здесь много стихий (будь то стихии природные или же стихийность времени), а также желания найти свое отношение к этому. Но, как я понял, Ральф решил, что навязывать выставке нечто сверху будет не совсем правильным шагом, и ушел от четкой тематизации. В Лионе было примерно то же самое с поправкой на спущенную от руководства тему про модернизм, современность. Такой подход дает высказываниям художников большую автономность и в целом смещает акценты на композицию выставочного проекта, делая ее более «естественной», что ли. На мой вкус, такой подход ближе к позиции журнала «Носорог», нет?
Арсений Жиляев: Да, мне кажется, Ральф открыто говорит, что не является сторонником биеннале как формата, но при этом готов честно и старательно выполнить возложенные на него обязанности. Более-менее все согласны с тем, что биеннале изжили себя, хотя при этом никакого иного сопоставимого по значимости формата на данный момент не видно. Плюс институциональная инерция прошлого века, который закончился своеобразным биеннальным бумом, продолжает худо-бедно подпитывать карусель мирового арт-туризма. Еще десять-пятнадцать лет назад каждый уголок мира хотел обозначить себя на карте современности посредством биеннале. Для каждого художника было жизненно важно оказаться в обойме художников, кочующих по всему миру вслед за сбивчивым стаккато двухгодичных мегавыставок.
Сегодня же стало очевидно, что биеннале, с одной стороны, все еще претендует на то, чтобы заявлять прогрессивную социальную и эстетическую повестку, с другой — платить по счетам уже давно нечем. Причем платить как в прямом, так и в переносном смысле. Да, искусство никогда не выполняет своих обещаний, и к этому все более-менее привыкли, считая частью устройства нашего нелинейного мира. Но ведь и в прямом смысле за биеннале должны платить. Если раньше, в эпоху высоких цен на нефть и экспорта демократии, финансовые вопросы разрешались довольно легко, то сегодня в условиях cultural cuts, санкций, торговых войн, всеобщей автономизации, суверенных интернетов, скреп, новой реакции и прочих примет времени цены за интернациональные форумы стали слишком высоки. В полной мере их могут оплачивать — чего уж душой кривить — люди, которые зачастую находятся в санкционных списках или же рано или поздно могут в них оказаться. И речь не только о российских членах рейтинга Forbes. Ведь не случайно в числе модных течений последнего времени были Gulf Futurism (арабский, стран Персидского залива) и Sinofuturism (его китайский собрат). Впрочем, и «добропорядочные» европейцы, и американцы все чаще сомневаются в необходимости оплаты собственной критики посредством высоких художественных технологий.
И все это лишь верхушка айсберга, лишь карта подводных течений, оформляющих биеннале. А ведь есть чисто структурные особенности работы кураторских коллективов, которые должны в сверхсжатые сроки придумать и реализовать порой гигантских размеров проект. Часто все это делается в перерывах на основную работу или же урывками между многочасовыми перелетами. В общем, биеннале и раньше всегда были компромиссом, а теперь тем более. И в этой ситуации трезвая оценка куратором собственных возможностей кажется мне более чем убедительным высказыванием.
В прессе применительно к биеннале в Венеции звучали темы постправды, да и само название дает много поводов для спекуляций. Здесь много стихий (будь то стихии природные или же стихийность времени), а также желания найти свое отношение к этому. Но, как я понял, Ральф решил, что навязывать выставке нечто сверху будет не совсем правильным шагом, и ушел от четкой тематизации. В Лионе было примерно то же самое с поправкой на спущенную от руководства тему про модернизм, современность. Такой подход дает высказываниям художников большую автономность и в целом смещает акценты на композицию выставочного проекта, делая ее более «естественной», что ли. На мой вкус, такой подход ближе к позиции журнала «Носорог», нет?
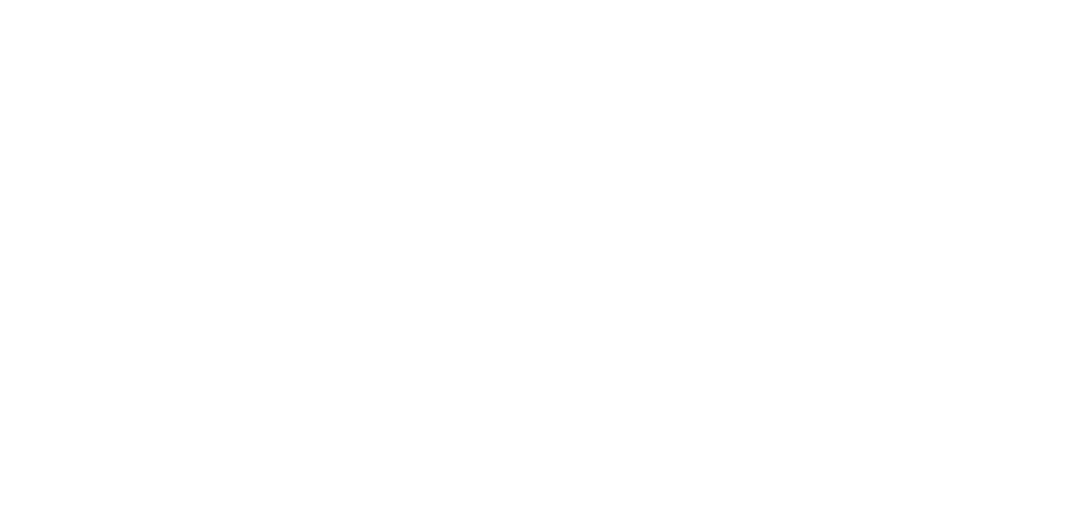
КМ: Да, метод «Носорога» в целом можно обозначить как свободное сосуществование слов и образов, совсем не обязательно складывающихся в четкую форму некоего заявления. Нам важнее удержать внимание читателя, оставленного один на один с художественными высказываниями, практически без помощи каких-либо проводников или указателей.
Можно с уверенность говорить, что Ральф сознательно заботился об экономике зрительского восприятия и внимания. Так, например, он модернизировал структуру биеннале: единый основной проект, по традиции разделенный между пространствами Арсенале и Джардини, у него состоит как бы из двух разных выставок, но каждая из них — с одним и тем же составом художников. Идея была в том, чтобы сместить акценты с отдельного произведения на творческий поиск, показать художника, его метод в целом, желательно даже — очень разные работы одного и того же автора. Интересно, что этот способ «высвечивания» фигуры автора, а не отдельного произведения становится у куратора частью обращения к «Открытому произведению» Умберто Эко, сборнику очерков, вышедшему в 1962 году и посвященному критике представлений о произведении искусства как о замкнутом на себе целом. Ответом на двусмысленность и хаотичность современной эпохи (в противовес классической) может быть только открытое произведение, которое задает вопросы и предлагает множественные интерпретации. В одном интервью Ругофф говорит, что его «библия — это мысль Эко о том, что искусство должно задавать вопросы, а не находить ответы». Но работая таким образом с выстраиванием экспозиции, куратор очень «уплотняет» содержание отдельных составляющих композиции. Мы действительно с интересом наблюдаем за изменениями того или иного художника (по сравнению с его же высказыванием в другой части проекта), но при этом отвлекаемся от какого-то общего нарратива.
АЖ: Ну, во-первых, если речь в каком-то смысле идет о биеннале стихий, то нарратив не очень подходящая форма для выражения. Во-вторых, я все же не соглашусь с тем, что у Ральфа совсем нет нарратива. Он прослеживается ровно настолько, насколько это возможно для такой выставки, как биеннале. Например, по просьбе куратора в этому году зашили два ряда колонн Арсенале в фанеру, чтобы уйти от четкого деления пространства на три зоны, как в большинстве христианских храмов и одновременно с тем — ярмарок современного искусства. Зачастую попытки дистанцироваться от ненужных ассоциаций приводили к неутешительным результатам. Так было четыре года назад с биеннале Окви Энвезора, который сделал очень чопорный и во многом консервативный проект, по моему мнению. Отдельным произведениям давалось много пространства, они чувствовали себя вольготно, думаю, художники были довольны. Но в итоге работы не взаимодействовали друг с другом, никакого диалога между ними не было. По ощущениям это напоминало именно что просмотр престижной арт-ярмарки, где ведь тоже зачастую представлены те же самые художники. Ругофф говорил, что сознательно хотел избежать этого, апеллируя к структуре лабиринта. Не скажу, что получилось на все сто процентов, но, как кажется, публика в целом довольна дизайнерскими и архитектурными решениями основного проекта. Впрочем, были шутки на тему, что нам теперь стоит ждать ярмарки с архитектурой лабиринта и зашитыми в фанеру стенами.
В Джардини выставка начинается с искусственного тумана Лары Фаваретто, и это на самом деле неплохое начало для проекта, посвященного рассуждениям о переменах, страхах перед ними. Впрочем, нечто подобное было на эмблематической «Документе 13» под кураторством Каролин Кристов-Бакарджиев в 2012 году. Тогда экспозиция в Фридерициануме начиналась с почти пустого зала, где зритель мог почувствовать ветер, сгенерированный художником Райаном Гандером. Работа называлась I Need Some Meaning I Can Memorise (The Invisible Pull). В контексте истории кассельской «Документы» (выставки, инициированной после Второй мировой войны, чтобы изжить травмы нацизма, вернувшись к экспериментам модернизма) первое, что приходило на ум при столкновении с бризом в пустой комнате, — беньяминовский ангел истории, которого ветер толкает вперед, хотя обращен он назад и видит только катастрофы и смерть. В этом смысле туман венецианской выставки, ее неопределенность, застойность довольно четко противопоставлены более заряженной историческими коннотациями и в целом более амбициозной кассельской экспозиции.
Кстати, выставки Ругоффа и Кристов-Бакарджиев роднит еще отказ от программного кураторского высказывания, хотя шесть лет назад это был лишь тактический ход. По мнению Кристов-Бакарджиев, в стремлении придумывать выставкам концепции отражается патриархальность больших проектов, а ее выставка исходила из экофеминистического отношения к миру. Но формальный отказ от высказывания на словах далеко не всегда означает его отсутствие на деле. Как и с политикой, подчеркнутая аполитичность может быть сильным политическим жестом.
Нарратив у Ругоффа строится через структуру самой экспозиции. Да, он местами пунктирный, но все же логика присутствует как в целом, так и в отдельных залах. Кстати, можно заметить, что в этом году есть любопытный резонанс главного проекта и отдельных национальных павильонов. В частности, критики шутили, что главный вопрос биеннале — это вопрос частоты появления туманов. Лор Пруво создает облако тумана у фасада французского павильона, Лара Фаваретто открывает туманом главный проект. Можно ли сказать, что облака тумана — это тренд?
Лабиринт, помимо пространства Арсенале, возник еще и в итальянском павильоне. В этом году он был хорош, как никогда. Обычно здесь можно встретить те же самые проблемы, что и с российским представительством: государственное финансирование и неумелая организация, консервативность, художники-академисты, проблемы с трактовкой современности и пр. Но, похоже, — не в пример России — от политических противоречий, захлестнувших Италию в последнее время, искусство только выигрывает.
Главная идея павильона в этом году — выставка-лабиринт под кураторством Милона Фарранато. «Ни то, ни это: вызов лабиринту» наполнена мистическими артефактами Энрико Дэвида, пространствами Лилианы Моро, инфографикой и звуковыми работами Кьяры Фумаи (легендарная фигура местного контекста, участница «Документы 13», лауреат многочисленных премий, радикальная феминистка-ведьма, которая умерла летом 2017-го на 39-м году жизни, повесившись после принятия ударной дозы наркотиков в галерее Doppelgaenger в южном итальянском городе Бари, куда прилетела из Нью-Йорка, чтобы справится с продолжительной депрессией). В качестве референсов лондонский куратор указал на эссе Итало Кальвино, как раз и давшее название павильону (La sfida al labirinto — «Вызов лабиринту», эссе не переведено на русский. — Примеч. ред.), и тексты Хорхе Луиса Борхеса.
Релиз уверяет, что не существует «правильного» способа осмотреть выставку, которая имеет два зеркальных входа и несколько тупиков и «трещин». «Лабиринт — это наш постамент, цоколь, удерживающий конструкцию», — объясняет Фарронато. «Существует три разных пути, разные интерпретации и перспективы. Вы должны быть свободны выбирать, не боясь что-то упустить». Обычно так говорят людям, в первый раз приезжающим в Венецию или начинающим эксперименты с психогеографией: попробуйте потеряться. Кажется, у итальянцев, как и у Ругоффа, получилось передать это ощущение зрителям. Наверное, для такого города, как Венеция, структура лабиринта, как и туманы, оправдана. А если так, можно говорить о более зарифмованной, более поэтичной выставке в целом. Тебе не показалось, что поэзия в этом году победила прозу?
Можно с уверенность говорить, что Ральф сознательно заботился об экономике зрительского восприятия и внимания. Так, например, он модернизировал структуру биеннале: единый основной проект, по традиции разделенный между пространствами Арсенале и Джардини, у него состоит как бы из двух разных выставок, но каждая из них — с одним и тем же составом художников. Идея была в том, чтобы сместить акценты с отдельного произведения на творческий поиск, показать художника, его метод в целом, желательно даже — очень разные работы одного и того же автора. Интересно, что этот способ «высвечивания» фигуры автора, а не отдельного произведения становится у куратора частью обращения к «Открытому произведению» Умберто Эко, сборнику очерков, вышедшему в 1962 году и посвященному критике представлений о произведении искусства как о замкнутом на себе целом. Ответом на двусмысленность и хаотичность современной эпохи (в противовес классической) может быть только открытое произведение, которое задает вопросы и предлагает множественные интерпретации. В одном интервью Ругофф говорит, что его «библия — это мысль Эко о том, что искусство должно задавать вопросы, а не находить ответы». Но работая таким образом с выстраиванием экспозиции, куратор очень «уплотняет» содержание отдельных составляющих композиции. Мы действительно с интересом наблюдаем за изменениями того или иного художника (по сравнению с его же высказыванием в другой части проекта), но при этом отвлекаемся от какого-то общего нарратива.
АЖ: Ну, во-первых, если речь в каком-то смысле идет о биеннале стихий, то нарратив не очень подходящая форма для выражения. Во-вторых, я все же не соглашусь с тем, что у Ральфа совсем нет нарратива. Он прослеживается ровно настолько, насколько это возможно для такой выставки, как биеннале. Например, по просьбе куратора в этому году зашили два ряда колонн Арсенале в фанеру, чтобы уйти от четкого деления пространства на три зоны, как в большинстве христианских храмов и одновременно с тем — ярмарок современного искусства. Зачастую попытки дистанцироваться от ненужных ассоциаций приводили к неутешительным результатам. Так было четыре года назад с биеннале Окви Энвезора, который сделал очень чопорный и во многом консервативный проект, по моему мнению. Отдельным произведениям давалось много пространства, они чувствовали себя вольготно, думаю, художники были довольны. Но в итоге работы не взаимодействовали друг с другом, никакого диалога между ними не было. По ощущениям это напоминало именно что просмотр престижной арт-ярмарки, где ведь тоже зачастую представлены те же самые художники. Ругофф говорил, что сознательно хотел избежать этого, апеллируя к структуре лабиринта. Не скажу, что получилось на все сто процентов, но, как кажется, публика в целом довольна дизайнерскими и архитектурными решениями основного проекта. Впрочем, были шутки на тему, что нам теперь стоит ждать ярмарки с архитектурой лабиринта и зашитыми в фанеру стенами.
В Джардини выставка начинается с искусственного тумана Лары Фаваретто, и это на самом деле неплохое начало для проекта, посвященного рассуждениям о переменах, страхах перед ними. Впрочем, нечто подобное было на эмблематической «Документе 13» под кураторством Каролин Кристов-Бакарджиев в 2012 году. Тогда экспозиция в Фридерициануме начиналась с почти пустого зала, где зритель мог почувствовать ветер, сгенерированный художником Райаном Гандером. Работа называлась I Need Some Meaning I Can Memorise (The Invisible Pull). В контексте истории кассельской «Документы» (выставки, инициированной после Второй мировой войны, чтобы изжить травмы нацизма, вернувшись к экспериментам модернизма) первое, что приходило на ум при столкновении с бризом в пустой комнате, — беньяминовский ангел истории, которого ветер толкает вперед, хотя обращен он назад и видит только катастрофы и смерть. В этом смысле туман венецианской выставки, ее неопределенность, застойность довольно четко противопоставлены более заряженной историческими коннотациями и в целом более амбициозной кассельской экспозиции.
Кстати, выставки Ругоффа и Кристов-Бакарджиев роднит еще отказ от программного кураторского высказывания, хотя шесть лет назад это был лишь тактический ход. По мнению Кристов-Бакарджиев, в стремлении придумывать выставкам концепции отражается патриархальность больших проектов, а ее выставка исходила из экофеминистического отношения к миру. Но формальный отказ от высказывания на словах далеко не всегда означает его отсутствие на деле. Как и с политикой, подчеркнутая аполитичность может быть сильным политическим жестом.
Нарратив у Ругоффа строится через структуру самой экспозиции. Да, он местами пунктирный, но все же логика присутствует как в целом, так и в отдельных залах. Кстати, можно заметить, что в этом году есть любопытный резонанс главного проекта и отдельных национальных павильонов. В частности, критики шутили, что главный вопрос биеннале — это вопрос частоты появления туманов. Лор Пруво создает облако тумана у фасада французского павильона, Лара Фаваретто открывает туманом главный проект. Можно ли сказать, что облака тумана — это тренд?
Лабиринт, помимо пространства Арсенале, возник еще и в итальянском павильоне. В этом году он был хорош, как никогда. Обычно здесь можно встретить те же самые проблемы, что и с российским представительством: государственное финансирование и неумелая организация, консервативность, художники-академисты, проблемы с трактовкой современности и пр. Но, похоже, — не в пример России — от политических противоречий, захлестнувших Италию в последнее время, искусство только выигрывает.
Главная идея павильона в этом году — выставка-лабиринт под кураторством Милона Фарранато. «Ни то, ни это: вызов лабиринту» наполнена мистическими артефактами Энрико Дэвида, пространствами Лилианы Моро, инфографикой и звуковыми работами Кьяры Фумаи (легендарная фигура местного контекста, участница «Документы 13», лауреат многочисленных премий, радикальная феминистка-ведьма, которая умерла летом 2017-го на 39-м году жизни, повесившись после принятия ударной дозы наркотиков в галерее Doppelgaenger в южном итальянском городе Бари, куда прилетела из Нью-Йорка, чтобы справится с продолжительной депрессией). В качестве референсов лондонский куратор указал на эссе Итало Кальвино, как раз и давшее название павильону (La sfida al labirinto — «Вызов лабиринту», эссе не переведено на русский. — Примеч. ред.), и тексты Хорхе Луиса Борхеса.
Релиз уверяет, что не существует «правильного» способа осмотреть выставку, которая имеет два зеркальных входа и несколько тупиков и «трещин». «Лабиринт — это наш постамент, цоколь, удерживающий конструкцию», — объясняет Фарронато. «Существует три разных пути, разные интерпретации и перспективы. Вы должны быть свободны выбирать, не боясь что-то упустить». Обычно так говорят людям, в первый раз приезжающим в Венецию или начинающим эксперименты с психогеографией: попробуйте потеряться. Кажется, у итальянцев, как и у Ругоффа, получилось передать это ощущение зрителям. Наверное, для такого города, как Венеция, структура лабиринта, как и туманы, оправдана. А если так, можно говорить о более зарифмованной, более поэтичной выставке в целом. Тебе не показалось, что поэзия в этом году победила прозу?
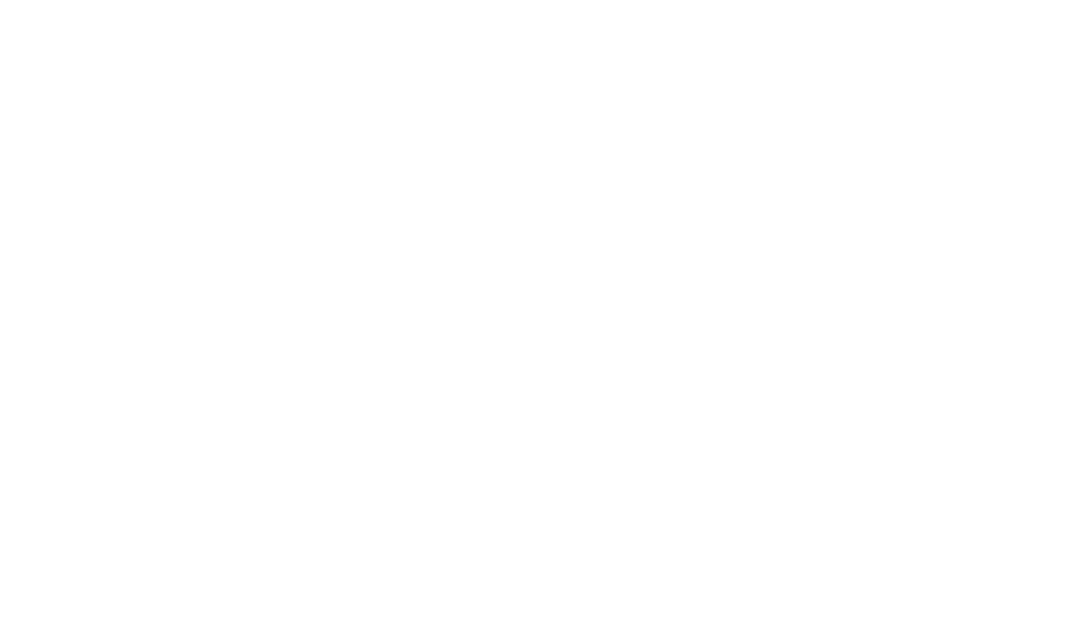
КМ: Туман — это вечный венецианский тренд, а поэзия действительно победила! По крайней мере в официальном конкурсе. «Золотого льва» за вклад в искусство вручили скульптору и поэту Джимми Дарему, который известен переосмыслением и переоткрыванием образов коренных жителей Америки. Всегда самый ожидаемый приз — «Золотой лев» за лучший павильон — получила работа Sun & Sea (Marina) из Литвы (коллектив из режиссера Ругиле Барзджюкайте, литератора Вайвы Грайните и композитора Лины Лапелите). Их медиум — это опера, и, соответственно, неотъемлемая часть проекта — либретто. Вообще в этом году очень много отдельных работ и целых выставок (не только в официальной части), так или иначе работающих с поэзией. Иногда даже начинает казаться, что поэзия стала прислужницей современного искусства в том его виде, в котором оно существует на крупных международных смотрах.
Если же говорить о заметных поэтических работах этого года, то я для себя тоже выделила упомянутый тобой итальянский павильон-лабиринт. Интересно, что эссе Кальвино, на которое он опирается, написано в том же, 1962 году, что и столь важное для Ругоффа «Открытое произведение» Эко, и напечатано в журнале Il Menabo di letteratura — там же, где Эко опубликовал своеобразное продолжение своих размышлений. Кальвино, как заметил позже Эко, как будто с ним полемизировал, но по сути соглашался. Эссе Кальвино — о поисках выхода из мира современного лабиринта с помощью в том числе искусства, которое не довольствуется простой репрезентацией реальности.
Еще я бы отметила павильон Японии Сosmo-Eggs. В нем представлена довольно сложно устроенная история о мифологическом и природном, о воображаемом сосуществовании человека и объектов, музыки и слова. Отдельное произведение — их книга-каталог, повествующая о создании проекта, с музыкальными нотами и поэтической легендой о сотворении мира, созданной на основе мифов о цунами тех народов Азии, которые постоянно живут под угрозой стихии.
Туман — тоже проявление особой стихии, венецианской, и его включение в выставочное пространство, возможно, лучшая иллюстрация к тезисам Эко об открытом произведении и «произведении-в-движении» с необходимыми неопределенностью и недосказанностью, дающими зрителю бесчисленное множество интерпретаций.
В этом смысле гораздо более «закрытым» получился проект-победитель. Его экологический посыл весьма однозначен и ясен для зрителя. Однако это очень и очень удачная работа, заслуженно пользующаяся сейчас в Венеции большой популярностью и из-за статуса победителя, и из-за перформативного и в какой-то мере развлекательного характера. Интересно, что лучшим павильоном вторую биеннале подряд становится live show с расписанием, очередями на вход и прочими ритуальными особенностями. Напомню, что год назад «Льва» за лучший павильон взяла Германия, которую представлял «Фауст» Анны Имхов. Можно ли поэтому сказать, возвращая тебе твой же вопрос, что победила даже не поэзия, а музыкально-перформативные действа? Если это, скорее, совпадение, то что тогда можно назвать трендами в искусстве по итогам этой биеннале?
Если же говорить о заметных поэтических работах этого года, то я для себя тоже выделила упомянутый тобой итальянский павильон-лабиринт. Интересно, что эссе Кальвино, на которое он опирается, написано в том же, 1962 году, что и столь важное для Ругоффа «Открытое произведение» Эко, и напечатано в журнале Il Menabo di letteratura — там же, где Эко опубликовал своеобразное продолжение своих размышлений. Кальвино, как заметил позже Эко, как будто с ним полемизировал, но по сути соглашался. Эссе Кальвино — о поисках выхода из мира современного лабиринта с помощью в том числе искусства, которое не довольствуется простой репрезентацией реальности.
Еще я бы отметила павильон Японии Сosmo-Eggs. В нем представлена довольно сложно устроенная история о мифологическом и природном, о воображаемом сосуществовании человека и объектов, музыки и слова. Отдельное произведение — их книга-каталог, повествующая о создании проекта, с музыкальными нотами и поэтической легендой о сотворении мира, созданной на основе мифов о цунами тех народов Азии, которые постоянно живут под угрозой стихии.
Туман — тоже проявление особой стихии, венецианской, и его включение в выставочное пространство, возможно, лучшая иллюстрация к тезисам Эко об открытом произведении и «произведении-в-движении» с необходимыми неопределенностью и недосказанностью, дающими зрителю бесчисленное множество интерпретаций.
В этом смысле гораздо более «закрытым» получился проект-победитель. Его экологический посыл весьма однозначен и ясен для зрителя. Однако это очень и очень удачная работа, заслуженно пользующаяся сейчас в Венеции большой популярностью и из-за статуса победителя, и из-за перформативного и в какой-то мере развлекательного характера. Интересно, что лучшим павильоном вторую биеннале подряд становится live show с расписанием, очередями на вход и прочими ритуальными особенностями. Напомню, что год назад «Льва» за лучший павильон взяла Германия, которую представлял «Фауст» Анны Имхов. Можно ли поэтому сказать, возвращая тебе твой же вопрос, что победила даже не поэзия, а музыкально-перформативные действа? Если это, скорее, совпадение, то что тогда можно назвать трендами в искусстве по итогам этой биеннале?
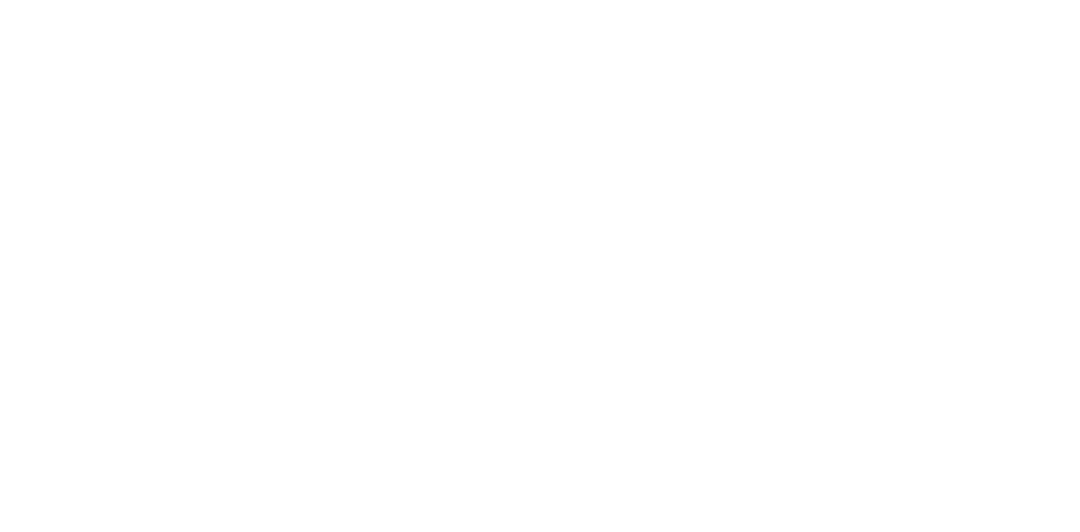
АЖ: Да, действительно, в искусстве, наверное, с начала 2010-х годов существует сильная перформативная тенденция. Возможно, это был ответ на консервативный поворот после 11 сентября, который вернул все традиционные медиумы, порой в самом их пошлом виде. Потом, нельзя забывать, что начало десятилетия совпало с волной политических потрясений, ростом активности уличных движений, новыми революционными надеждами — это было время «арабской весны», Occupy Wall Street, уличных протестов и революций в странах постсоветского пространства. Хотя рассвет спекулятивных реалистов начался в середине 2000-х и совпал с новым интересом к объекту в искусстве, конец прошлой декады был бенефисом марксистов в виде итальянского постопераизма, который как раз анализировал специфику новых типов труда через его перформативность, виртуозность и прочее. В России выражением этой тенденции были брехтианские оперы питерской группы «Что делать?» или же музыкальные перформансы философа Кети Чухров, в каком-то смысле даже Pussy Riot или же положенные на музыку тексты Александра Бренера в исполнении группы «Аркадий Коц». Все это — пример марксистской критики, воплощенной на территории искусства посредством музыки и исполнительского мастерства.
Можно говорить, что Имхов и нынешний победитель — продолжение начатого около десяти лет назад. Но сейчас на место политических надежд пришло полное разочарование, и это сильно смещает акценты. Имхов в среднем убедила всех своим проектом, но многими она воспринимается в качестве современной Лени Рифеншталь. И здесь уже надо разбираться. Для кого-то это движение в правильном направлении, так как эстетика, работающая с телесностью, не должна однозначно маркироваться как обязательно фашистская, нацистская. Но для кого-то все же деполитизированные, фетишистские в отношении молодости перформансы Имхов — признак упадка.
Возможно, проблема в том, что без подпитки со стороны освободительных движений политизированное искусство довольно быстро теряет свою энергию. А в сухом остатке перформативности остается шуточность, трагикомичность, очень остроумная пассивность, как в случае с Sun & Sea (Marina), или же эстетизация тела, как у Имхов, которая перекидывает мостик к эстетическим опытам адептов ООО (Объектно-ориентированная онтология. — Примеч. ред.). В данном контексте можно вспомнить и цирк от группы Alternatizioni Video, устроенный фондом V-A-C на набережной у своего палаццо Дзаттере. Здесь вроде бы все очевидно. Речь про виртуозность со ссылками на Ленина: цирк как самое главное из советских искусств. То есть мы имеем дело со сложно организованным высказыванием левого толка. Но с послевкусием приходит осознание, что надрывный хохот стал нашим прожиточным минимумом и ни на что большее мы претендовать сегодня не можем.
Я думаю, что на главный вопрос биеннале касательно тумана можно ответить утвердительно. Да, туман, застой, неопределенность, растерянность — это основная тенденция современности. Хотя «тенденция» предполагает большую целеустремленность и подвижность, она ближе к ветру. В случае с неопределенностью тумана можно говорить о состоянии, о стабильной нестабильности, о чем-то таком.
Если мы посмотрим на литовскую оперу, то поймем, что она ведь тоже о погоде, о климатических изменениях. Минувшей весной в Венеции (да и в целом в Европе), в отличие от Москвы, было очень прохладно и дождливо. Обычно о погоде вспоминают, когда больше не о чем вспомнить. Или когда в принципе не знаешь, о чем поговорить. И это состояние я бы и назвал главным ощущением от биеннале. Мы растеряны, сказать по существу происходящего нам нечего, особых надежд и планов на будущее нет. А еще непогода. Впрочем, можно «спеть» на тему или же просто молча наблюдать и не навязывать увиденному свою антропоцентричную позицию. Ведь, как говорит Гройс, «в будущем только снег, дождь, солнечный свет и некоторые другие, абсолютно некоммерческие, кстати, природные феномены и будут восприниматься эстетически, а все, что делает человек, окончательно уйдет в область прагматики».
Можно говорить, что Имхов и нынешний победитель — продолжение начатого около десяти лет назад. Но сейчас на место политических надежд пришло полное разочарование, и это сильно смещает акценты. Имхов в среднем убедила всех своим проектом, но многими она воспринимается в качестве современной Лени Рифеншталь. И здесь уже надо разбираться. Для кого-то это движение в правильном направлении, так как эстетика, работающая с телесностью, не должна однозначно маркироваться как обязательно фашистская, нацистская. Но для кого-то все же деполитизированные, фетишистские в отношении молодости перформансы Имхов — признак упадка.
Возможно, проблема в том, что без подпитки со стороны освободительных движений политизированное искусство довольно быстро теряет свою энергию. А в сухом остатке перформативности остается шуточность, трагикомичность, очень остроумная пассивность, как в случае с Sun & Sea (Marina), или же эстетизация тела, как у Имхов, которая перекидывает мостик к эстетическим опытам адептов ООО (Объектно-ориентированная онтология. — Примеч. ред.). В данном контексте можно вспомнить и цирк от группы Alternatizioni Video, устроенный фондом V-A-C на набережной у своего палаццо Дзаттере. Здесь вроде бы все очевидно. Речь про виртуозность со ссылками на Ленина: цирк как самое главное из советских искусств. То есть мы имеем дело со сложно организованным высказыванием левого толка. Но с послевкусием приходит осознание, что надрывный хохот стал нашим прожиточным минимумом и ни на что большее мы претендовать сегодня не можем.
Я думаю, что на главный вопрос биеннале касательно тумана можно ответить утвердительно. Да, туман, застой, неопределенность, растерянность — это основная тенденция современности. Хотя «тенденция» предполагает большую целеустремленность и подвижность, она ближе к ветру. В случае с неопределенностью тумана можно говорить о состоянии, о стабильной нестабильности, о чем-то таком.
Если мы посмотрим на литовскую оперу, то поймем, что она ведь тоже о погоде, о климатических изменениях. Минувшей весной в Венеции (да и в целом в Европе), в отличие от Москвы, было очень прохладно и дождливо. Обычно о погоде вспоминают, когда больше не о чем вспомнить. Или когда в принципе не знаешь, о чем поговорить. И это состояние я бы и назвал главным ощущением от биеннале. Мы растеряны, сказать по существу происходящего нам нечего, особых надежд и планов на будущее нет. А еще непогода. Впрочем, можно «спеть» на тему или же просто молча наблюдать и не навязывать увиденному свою антропоцентричную позицию. Ведь, как говорит Гройс, «в будущем только снег, дождь, солнечный свет и некоторые другие, абсолютно некоммерческие, кстати, природные феномены и будут восприниматься эстетически, а все, что делает человек, окончательно уйдет в область прагматики».
вас может заинтересовать

