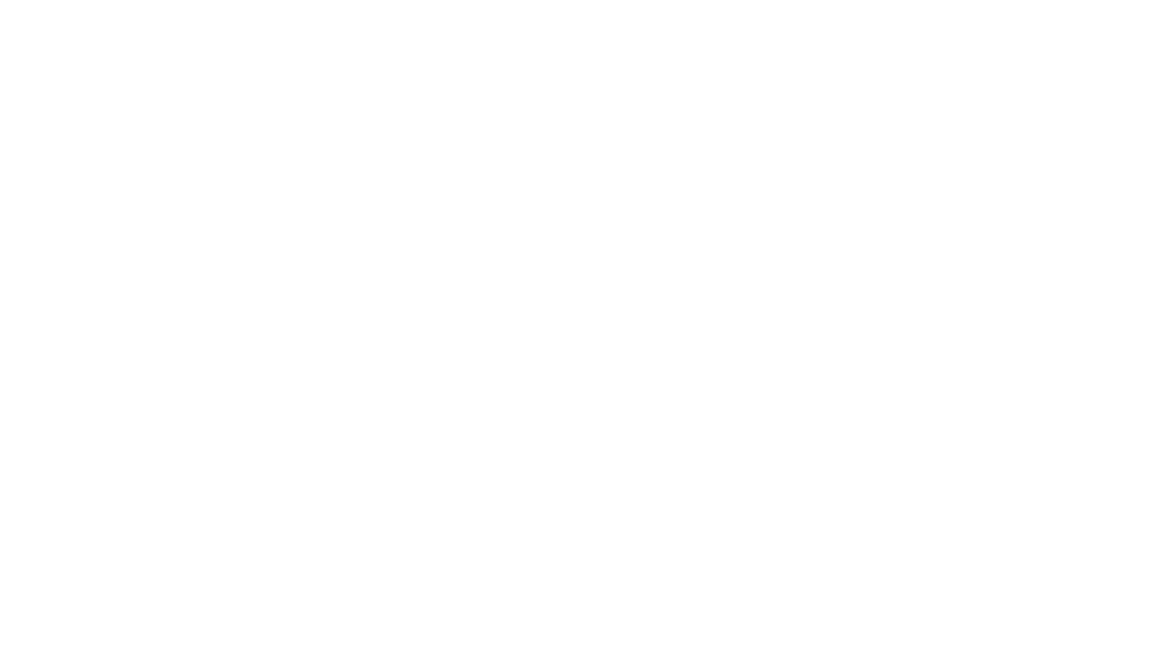
Другая степень погруженности
Продолжаем публиковать цикл интервью Марии Нестеренко с поэтами и писателями. В новом выпуске поэтесса Мария Степанова рассказывает о своих первых стихотворениях, опыте детского и подросткового чтения и задаче написать книгу о семье
МН: Расскажите о вашем детстве. Каким оно было? Цветаева говорила, что не любит своего детства, «я вообще каждый свой день люблю больше предыдущего…» А каково ваше отношение к детству? Склонны ли вы его мифологизировать?
МС: На самом-то деле любила, достаточно посмотреть на то, сколько всего Цветаевой о детстве написано, — и сколько не написано по ее несчастью и нашему невезению. Есть запись из ее черновых тетрадей 1932 года, где речь идет о кромешном безденежье, безнадежном, и невозможности прокормиться писательским трудом. И вот там она говорит: «Есть ли долговая тюрьма? (счета за газ, электричество, близящийся терм). Если была бы — была бы спокойна. Согласна на 2 года (честна) одиночного заключения <…> — NB! с двором, где смогу ходить, и с папиросами — в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь: свое младенчество (до семи лет — Enfancеs) {детское (фр.)} — что: обязуюсь! не смогу не.» И еще где-то та же цифра: «Как бы я написала свое детство (до-семилетие), если бы мне — дали». И еще где-то: «тоска по своему семилетию». И есть план этой самой невозможной ненаписанной «Enfancеs»: Тверской бульвар, сухой фонтан, зеленая кукла, конспект того, что могло стать книгой.
Я не знаю, можно ли не мифологизировать собственное детство. Миф ведь отличает от реальности, что бы этим словом ни называть, в первую очередь разница масштаба. Дело не в правде-неправде, не в том, что временное расстояние меняет взгляд на собственную историю, а в том, что до определенного времени вещи и события — другого роста, они выглядят и переживаются гораздо крупней. Larger than life, как говорится. Потом, задним числом этот другой масштаб можно попробовать обесценить, отменить, но мне кажется, что время до семи, может быть, десяти лет — решающее: складывается словарь, с которым потом человеку всю жизнь жить. Любови и нелюбови, страхи, представления об уюте и о трансгрессии, ощущение личных границ и безопасности, истории, которые рассказываешь себе на ночь и другим при свете — это все так или иначе объясняется этими несколькими годами. Ну, у меня так. Я тихо верю в то, что человек рождается готовым, воспитание может что-то заострить или приглушить, но некоторый набор пристрастий и отталкиваний заложен с самого начала. Но все равно ребенок — пустая комната, есть определенная высота потолков, конфигурация окон, вид из этих окон. И то, чем она заполняется в первые годы, так и остается там навсегда: огромные предметы, живые картины. Это и есть словарь, которым мы пользуемся, когда себе себя объясняем. Мифологический, наверное.
МН: А как вы впервые столкнулись с литературой? Что это было — стихи или проза?
МС: Моя мама не умела петь, то есть умела, но очень стеснялась своего пения, и вместо того, чтобы укладывать меня спать с колыбельными, читала мне на ночь стихи, которых знала сотни. Это были первые поэтические тексты, с которыми я имела дело, еще до детских стихов, которые мне читали потом, до всех потешек, считалок и Барто с Токмаковой. Это было очень важно, видимо: у меня в голове так и стоит с тех пор такое стиховое облако, состоящее из строф и строчек, которые я узнаю на слух. А потом, когда мы с мамой взаимно осмелели и пение все-таки стало получаться, я еще запомнила с ее голоса страшное количество разновозрастных песен — от репертуара советского радио, от революционных песен до каких-то диковатых туристических, студенческих. Это я очень хорошо помню и помню свой жадный интерес к этому всему и то, что у меня в уме Пушкин с Блоком, которых мама читала, и все эти душераздирающие песни — про то, как погиб боец молодой, и про «орленок, орленок», и про «у крыльца родного мать сыночка ждет» — не различались на высокий и низкий регистры, а существовали одновременно.
МН: Когда вы написали первое стихотворение и когда произошло ваше самоопределение как поэта? Иными словами, когда вы поняли, что вы поэт, а не кто иной? Если это было в детстве, как дальше развивался этот путь?
МС: Знаете, очень рано и в довольно комическом режиме. Мне было лет восемь, когда приехала к нам в гости мамина подруга, которую я боготворила (и продолжаю, мы дружим до сих пор). Она жила в Нижнем Новгороде и работала там в детском театре, руководила литературной частью. И она что-то рассказывала маме и мне: какие-то истории про театральную жизнь, про пьесы, которые ставились, про тексты, которые писали им для театра (а они были замечательные, я до сих пор помню стихи Романа Тименчика, который тоже работал тогда в ТЮЗе, только в Рижском, к постановке «Фальстафа»), — и тут я обнаружила, что стихи могут писаться живыми людьми. Что это занятие. Что это сегодня. И немедленно написала некоторое количество стихов, про которые понимала одновременно и то, что они временные, паллиативные (то есть пишутся как бы вперед, ощупывая место для того, что тут может быть сказано потом), и то, что я — поэт, насколько это может быть результатом какого-то внутреннего решения, водораздела. Как если бы можно было повесить себе на живот табличку «поэт» и дальше жить себе спокойно в ожидании настоящих стихов, а пока писать ненастоящие.
МН: Мандельштам писал: «Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь». Какое место в вашем детстве занимали книги? Можете рассказать о самых важных книгах? Каким вы были читателем?
МС: Жадным и мало что понимающим. Меня очень рано научили читать и дальше горя со мной не знали: в любой очереди, в любых долгих и скучных гостях можно было сунуть мне в руки книгу — и я переставала реагировать на окружающее. Она могла быть какая угодно. Одной из главных книг того самого «до-семилетия», наряду с греческими мифами Куна, были «Мифы Древнего Египта» Матье, довольно серьезная академическая штука, над которой я проводила часы. А другая любимая — толстый том «Домоводство», изданный в пятидесятых, где я бесконечно разглядывала картинки и перечитывала кулинарные рецепты и способы оказания первой помощи.
У меня был очень эклектичный набор любимых книг, и родители меня мало ограничивали, скорее, может быть, подбрасывали новых авторов. Фразы «Тебе еще рано» я не помню; помню «Вот вырастешь и будешь читать такого-то». Но если книга такого-то попадала мне в руки через месяц-другой, никто не пытался меня отговаривать. Ну, и был самиздат, книги, которые я находила сама на родительских потайных полках и читала, не задавая вопросов. Это тоже был почти случайный набор: проза Цветаевой, перепечатанная на машинке, Солженицын, генерал Григоренко…
Когда я подростком уже прогуливала школу, все это дикое, беспорядочное чтение было прямо связано с неназванным, но очень мощным чувством свободы, где толком было не разобрать, что приносит счастье: пустая квартира, пустое, ничем не ограниченное временное пространство, которое я могу заполнить как душе угодно, и полки, полки книг, в которые можно войти, как в пруд ныряешь, и вольный объем прирастет еще вдвое-втрое. Я еще тогда читала собрания сочинений подряд, весь этот набор интеллигентской квартиры: Бальзак, Голсуорси, Джек Лондон — от первого тома к последнему, и бесконечное количество словарей, и чего только не.
МН: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», как выживать поэту?
МС: Я не знаю. Тут нет универсальных рецептов. Я в свое время решила, что выживать надо не в качестве поэта, что мне свободней писать вне профессионального поля. Впрочем, решать особенно не приходилось: это была середина девяностых и зарабатывать деньги литературным трудом было бы, наверное, невозможно. Но мне и не хотелось. И я довольно долго старалась держать эти вещи далеко друг от друга — вот у меня есть профессия, даже несколько, которые могут обеспечить мне кусок хлеба, а уж писать я буду то, что хочу, так, как хочу, не оглядываясь на устройство этого странноватого рынка.
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу? Как вы считаете, с чем связан успех «Памяти памяти»? Почему именно романс?
МС: Это не было необходимостью писать прозу, мне всегда полностью хватало стихов. Другое дело, что некоторые из них работали для меня как своего рода прозозаменители, как тексты, существующие на том месте, где вместо них мог бы возникнуть рассказ или роман. И это очень удобно экономически: у стихов другая степень сжатия, ну, и они быстрей доставляют тебя из пункта А в пункт Б.
Я никогда не пыталась даже писать не-стихи: зачем? Но вот что когда-нибудь мне придется написать книгу о семье, я знала всегда. Это была такая отложенная задача где-то на дальнем краю ума, слишком громоздкая и хлопотная, чтобы начать ее решать. И по ходу времени ненаписанный текст все тяжелел, обрастал разного рода невозможностями и дополнениями, пока в какой-то момент не стало ясно, что пора начинать. Но интересно — и я этого не ждала совсем, — что сам ход письма оказался страшно воодушевляющим. Это устроено совсем по-другому, чем со стихами: другой временной режим, другое устройство внимания, другая степень погруженности — и все совсем непохоже на то, как пишутся стихи (а это ведь может быть и довольно болезненным делом, да?). В общем, мне понравилось, и это удивительно.
Что до успеха, то я его не ждала. Он меня радует, конечно, но и тревожит тоже. Я писала эту книжку не для себя, не для внутреннего собеседника, как это бывает со стихами, но и не имея в виду определенную аудиторию, как происходит с эссеистикой. Ее адресаты — это ее герои, люди моей семьи, те, кого уже нет, те, о которых я слишком мало знаю и все-таки хочу говорить. Повторюсь, я всегда знала, что когда-нибудь напишу эту книжку, и в первый раз взялась за это, когда мне было десять лет. У меня есть эта тетрадка, она сохранилась. То есть я сидела на печи тридцать лет и три года, как в русской сказке, и когда начала наконец писать, то вовсе не думала о читателе, о том, как сделать повествование занимательным или увлекательным — мне была важна только точность передачи, гармония общей системы. Есть такое эссе Бродского, оно называется «Поклониться тени». «Памяти памяти» — еще один такой поклон.
Так что да, это очень бескомпромиссная книга, и то, что у нее много читателей в России и не в России, удивительно: я-то обращалась к нескольким людям, которых давно нет на свете. Но сейчас мне кажется, что дело не в самой книге, а в том, как изменилось культурное пространство в последние годы. Документальное повествование выходит на первый план. Тексты сложной жанровой природы, находящиеся на зыбкой территории между фикшен и нон-фикшен, оказываются интересней традиционных романов. И главное — радикально изменилось само отношение к прошлому, к семейной памяти, к семейной истории, к людям и вещам и к тому, что от них осталось. Память становится чем-то вроде секулярного культа, и это очень новая вещь. Или очень старая: такой обращенности назад, в прошлое наша цивилизация не знала с начала Нового Времени.
МН: В одном из интервью вы говорите: «Выдумка перестает работать. Документ оказывается интереснее, чем любая вымышленная история». Как вы думаете, почему именно сейчас это происходит?
МС: Он начался довольно давно, еще статья Мандельштама «Конец романа» описывает эту динамику. Просто сейчас процесс становится еще более массовым. Объяснений тут может быть множество, и они друг друга не исключают, а дополняют. Например, то, что интернет полностью перестроил наше отношение к источникам, а вместе с этим — к идее монополии на нарратив. Любое высказывание может быть откомментировано, оспорено, присвоено, перетолковано, может обрасти любым количеством интерпретаций. О событии мы узнаем не из газетного или телевизионного репортажа, а из множества источников, и классическая журналистика лишь один из них. Мы присутствуем при непрерывно разворачивающемся многоголосом рассказе, где при желании можно увидеть вблизи каждого из говорящих.
Это меняет и наше отношение к истории. Вместо обобщающего повествования, большого нарратива, от кого бы он ни исходил, мы получаем картину, которая оказывается гораздо более зернистой — часто в ущерб смыслу, пониманию событий как последовательного процесса. Зато каждое отдельное зерно, каждый сюжет, каждый документ вырастает до небывалых размеров и вызывает доверие, и внимание, и интерес. А еще интересней следить за тем, как документы взаимодействуют, дополняют и опровергают друг друга. В сравнении с этим хором вымысел слишком линеен, ему недостает объема.
МН: Там же вы говорите, что «иерархии тоже меняются. Как-то даже неловко сказать, что ты зачитался и всю ночь провел над новым романом: это такое бабушкино поведение, так вели себя году в 1960-м». Но ведь продолжают зачитываться, роман жив несмотря на то, что смерть ему пророчат вот уже чуть ли не сто лет. Нет ли здесь парадокса?
МС: Я не имела в виду, что мы перестанем читать романы, хотя бы потому, что сама как читала, так и продолжаю в ущерб другим занятиям. Я говорила, скорее, вот про что. Конечно, мы продолжаем читать романы, и смотрим кино, и сериалы тоже смотрим, и сидим в Инстаграме и Тиндере, и слушаем подкасты, и делаем кучу разных других вещей. Но все это занятия одного порядка, одного уровня в некоторой ценностной иерархии, все это так или иначе entertainment, способ провести время. Иногда это прекрасные романы или сериалы, иногда они важны для нас политически или дидактически.
Вся премиальная индустрия в России и на Западе выстроена вокруг производства романов, их читают и будут читать. Но роман за очень небольшим исключением (я имею в виду тот сегмент поисковой литературы, у которого очень немного читателей и никакого желания развлекать) внезапно перестал быть главным инструментом познания. Он больше не объясняет мир и уж точно его не формирует. Если жизнь чему и подражает, то не романам, а соцсетям. И это новая ситуация, очень интересная, и, чтобы выжить и прожить еще сто лет, роману нужна перезагрузка. Он может стать чем захочет: биографией, мемуарами, научным трудом, сборником документов, системой хранения. Но вот большой русский роман (или большой американский роман, все равно), кажется, сам от себя устал, как и культура монологического мышления, которой он принадлежит. Посмотрим, что будет дальше.
МС: На самом-то деле любила, достаточно посмотреть на то, сколько всего Цветаевой о детстве написано, — и сколько не написано по ее несчастью и нашему невезению. Есть запись из ее черновых тетрадей 1932 года, где речь идет о кромешном безденежье, безнадежном, и невозможности прокормиться писательским трудом. И вот там она говорит: «Есть ли долговая тюрьма? (счета за газ, электричество, близящийся терм). Если была бы — была бы спокойна. Согласна на 2 года (честна) одиночного заключения <…> — NB! с двором, где смогу ходить, и с папиросами — в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь: свое младенчество (до семи лет — Enfancеs) {детское (фр.)} — что: обязуюсь! не смогу не.» И еще где-то та же цифра: «Как бы я написала свое детство (до-семилетие), если бы мне — дали». И еще где-то: «тоска по своему семилетию». И есть план этой самой невозможной ненаписанной «Enfancеs»: Тверской бульвар, сухой фонтан, зеленая кукла, конспект того, что могло стать книгой.
Я не знаю, можно ли не мифологизировать собственное детство. Миф ведь отличает от реальности, что бы этим словом ни называть, в первую очередь разница масштаба. Дело не в правде-неправде, не в том, что временное расстояние меняет взгляд на собственную историю, а в том, что до определенного времени вещи и события — другого роста, они выглядят и переживаются гораздо крупней. Larger than life, как говорится. Потом, задним числом этот другой масштаб можно попробовать обесценить, отменить, но мне кажется, что время до семи, может быть, десяти лет — решающее: складывается словарь, с которым потом человеку всю жизнь жить. Любови и нелюбови, страхи, представления об уюте и о трансгрессии, ощущение личных границ и безопасности, истории, которые рассказываешь себе на ночь и другим при свете — это все так или иначе объясняется этими несколькими годами. Ну, у меня так. Я тихо верю в то, что человек рождается готовым, воспитание может что-то заострить или приглушить, но некоторый набор пристрастий и отталкиваний заложен с самого начала. Но все равно ребенок — пустая комната, есть определенная высота потолков, конфигурация окон, вид из этих окон. И то, чем она заполняется в первые годы, так и остается там навсегда: огромные предметы, живые картины. Это и есть словарь, которым мы пользуемся, когда себе себя объясняем. Мифологический, наверное.
МН: А как вы впервые столкнулись с литературой? Что это было — стихи или проза?
МС: Моя мама не умела петь, то есть умела, но очень стеснялась своего пения, и вместо того, чтобы укладывать меня спать с колыбельными, читала мне на ночь стихи, которых знала сотни. Это были первые поэтические тексты, с которыми я имела дело, еще до детских стихов, которые мне читали потом, до всех потешек, считалок и Барто с Токмаковой. Это было очень важно, видимо: у меня в голове так и стоит с тех пор такое стиховое облако, состоящее из строф и строчек, которые я узнаю на слух. А потом, когда мы с мамой взаимно осмелели и пение все-таки стало получаться, я еще запомнила с ее голоса страшное количество разновозрастных песен — от репертуара советского радио, от революционных песен до каких-то диковатых туристических, студенческих. Это я очень хорошо помню и помню свой жадный интерес к этому всему и то, что у меня в уме Пушкин с Блоком, которых мама читала, и все эти душераздирающие песни — про то, как погиб боец молодой, и про «орленок, орленок», и про «у крыльца родного мать сыночка ждет» — не различались на высокий и низкий регистры, а существовали одновременно.
МН: Когда вы написали первое стихотворение и когда произошло ваше самоопределение как поэта? Иными словами, когда вы поняли, что вы поэт, а не кто иной? Если это было в детстве, как дальше развивался этот путь?
МС: Знаете, очень рано и в довольно комическом режиме. Мне было лет восемь, когда приехала к нам в гости мамина подруга, которую я боготворила (и продолжаю, мы дружим до сих пор). Она жила в Нижнем Новгороде и работала там в детском театре, руководила литературной частью. И она что-то рассказывала маме и мне: какие-то истории про театральную жизнь, про пьесы, которые ставились, про тексты, которые писали им для театра (а они были замечательные, я до сих пор помню стихи Романа Тименчика, который тоже работал тогда в ТЮЗе, только в Рижском, к постановке «Фальстафа»), — и тут я обнаружила, что стихи могут писаться живыми людьми. Что это занятие. Что это сегодня. И немедленно написала некоторое количество стихов, про которые понимала одновременно и то, что они временные, паллиативные (то есть пишутся как бы вперед, ощупывая место для того, что тут может быть сказано потом), и то, что я — поэт, насколько это может быть результатом какого-то внутреннего решения, водораздела. Как если бы можно было повесить себе на живот табличку «поэт» и дальше жить себе спокойно в ожидании настоящих стихов, а пока писать ненастоящие.
МН: Мандельштам писал: «Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь». Какое место в вашем детстве занимали книги? Можете рассказать о самых важных книгах? Каким вы были читателем?
МС: Жадным и мало что понимающим. Меня очень рано научили читать и дальше горя со мной не знали: в любой очереди, в любых долгих и скучных гостях можно было сунуть мне в руки книгу — и я переставала реагировать на окружающее. Она могла быть какая угодно. Одной из главных книг того самого «до-семилетия», наряду с греческими мифами Куна, были «Мифы Древнего Египта» Матье, довольно серьезная академическая штука, над которой я проводила часы. А другая любимая — толстый том «Домоводство», изданный в пятидесятых, где я бесконечно разглядывала картинки и перечитывала кулинарные рецепты и способы оказания первой помощи.
У меня был очень эклектичный набор любимых книг, и родители меня мало ограничивали, скорее, может быть, подбрасывали новых авторов. Фразы «Тебе еще рано» я не помню; помню «Вот вырастешь и будешь читать такого-то». Но если книга такого-то попадала мне в руки через месяц-другой, никто не пытался меня отговаривать. Ну, и был самиздат, книги, которые я находила сама на родительских потайных полках и читала, не задавая вопросов. Это тоже был почти случайный набор: проза Цветаевой, перепечатанная на машинке, Солженицын, генерал Григоренко…
Когда я подростком уже прогуливала школу, все это дикое, беспорядочное чтение было прямо связано с неназванным, но очень мощным чувством свободы, где толком было не разобрать, что приносит счастье: пустая квартира, пустое, ничем не ограниченное временное пространство, которое я могу заполнить как душе угодно, и полки, полки книг, в которые можно войти, как в пруд ныряешь, и вольный объем прирастет еще вдвое-втрое. Я еще тогда читала собрания сочинений подряд, весь этот набор интеллигентской квартиры: Бальзак, Голсуорси, Джек Лондон — от первого тома к последнему, и бесконечное количество словарей, и чего только не.
МН: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», как выживать поэту?
МС: Я не знаю. Тут нет универсальных рецептов. Я в свое время решила, что выживать надо не в качестве поэта, что мне свободней писать вне профессионального поля. Впрочем, решать особенно не приходилось: это была середина девяностых и зарабатывать деньги литературным трудом было бы, наверное, невозможно. Но мне и не хотелось. И я довольно долго старалась держать эти вещи далеко друг от друга — вот у меня есть профессия, даже несколько, которые могут обеспечить мне кусок хлеба, а уж писать я буду то, что хочу, так, как хочу, не оглядываясь на устройство этого странноватого рынка.
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу? Как вы считаете, с чем связан успех «Памяти памяти»? Почему именно романс?
МС: Это не было необходимостью писать прозу, мне всегда полностью хватало стихов. Другое дело, что некоторые из них работали для меня как своего рода прозозаменители, как тексты, существующие на том месте, где вместо них мог бы возникнуть рассказ или роман. И это очень удобно экономически: у стихов другая степень сжатия, ну, и они быстрей доставляют тебя из пункта А в пункт Б.
Я никогда не пыталась даже писать не-стихи: зачем? Но вот что когда-нибудь мне придется написать книгу о семье, я знала всегда. Это была такая отложенная задача где-то на дальнем краю ума, слишком громоздкая и хлопотная, чтобы начать ее решать. И по ходу времени ненаписанный текст все тяжелел, обрастал разного рода невозможностями и дополнениями, пока в какой-то момент не стало ясно, что пора начинать. Но интересно — и я этого не ждала совсем, — что сам ход письма оказался страшно воодушевляющим. Это устроено совсем по-другому, чем со стихами: другой временной режим, другое устройство внимания, другая степень погруженности — и все совсем непохоже на то, как пишутся стихи (а это ведь может быть и довольно болезненным делом, да?). В общем, мне понравилось, и это удивительно.
Что до успеха, то я его не ждала. Он меня радует, конечно, но и тревожит тоже. Я писала эту книжку не для себя, не для внутреннего собеседника, как это бывает со стихами, но и не имея в виду определенную аудиторию, как происходит с эссеистикой. Ее адресаты — это ее герои, люди моей семьи, те, кого уже нет, те, о которых я слишком мало знаю и все-таки хочу говорить. Повторюсь, я всегда знала, что когда-нибудь напишу эту книжку, и в первый раз взялась за это, когда мне было десять лет. У меня есть эта тетрадка, она сохранилась. То есть я сидела на печи тридцать лет и три года, как в русской сказке, и когда начала наконец писать, то вовсе не думала о читателе, о том, как сделать повествование занимательным или увлекательным — мне была важна только точность передачи, гармония общей системы. Есть такое эссе Бродского, оно называется «Поклониться тени». «Памяти памяти» — еще один такой поклон.
Так что да, это очень бескомпромиссная книга, и то, что у нее много читателей в России и не в России, удивительно: я-то обращалась к нескольким людям, которых давно нет на свете. Но сейчас мне кажется, что дело не в самой книге, а в том, как изменилось культурное пространство в последние годы. Документальное повествование выходит на первый план. Тексты сложной жанровой природы, находящиеся на зыбкой территории между фикшен и нон-фикшен, оказываются интересней традиционных романов. И главное — радикально изменилось само отношение к прошлому, к семейной памяти, к семейной истории, к людям и вещам и к тому, что от них осталось. Память становится чем-то вроде секулярного культа, и это очень новая вещь. Или очень старая: такой обращенности назад, в прошлое наша цивилизация не знала с начала Нового Времени.
МН: В одном из интервью вы говорите: «Выдумка перестает работать. Документ оказывается интереснее, чем любая вымышленная история». Как вы думаете, почему именно сейчас это происходит?
МС: Он начался довольно давно, еще статья Мандельштама «Конец романа» описывает эту динамику. Просто сейчас процесс становится еще более массовым. Объяснений тут может быть множество, и они друг друга не исключают, а дополняют. Например, то, что интернет полностью перестроил наше отношение к источникам, а вместе с этим — к идее монополии на нарратив. Любое высказывание может быть откомментировано, оспорено, присвоено, перетолковано, может обрасти любым количеством интерпретаций. О событии мы узнаем не из газетного или телевизионного репортажа, а из множества источников, и классическая журналистика лишь один из них. Мы присутствуем при непрерывно разворачивающемся многоголосом рассказе, где при желании можно увидеть вблизи каждого из говорящих.
Это меняет и наше отношение к истории. Вместо обобщающего повествования, большого нарратива, от кого бы он ни исходил, мы получаем картину, которая оказывается гораздо более зернистой — часто в ущерб смыслу, пониманию событий как последовательного процесса. Зато каждое отдельное зерно, каждый сюжет, каждый документ вырастает до небывалых размеров и вызывает доверие, и внимание, и интерес. А еще интересней следить за тем, как документы взаимодействуют, дополняют и опровергают друг друга. В сравнении с этим хором вымысел слишком линеен, ему недостает объема.
МН: Там же вы говорите, что «иерархии тоже меняются. Как-то даже неловко сказать, что ты зачитался и всю ночь провел над новым романом: это такое бабушкино поведение, так вели себя году в 1960-м». Но ведь продолжают зачитываться, роман жив несмотря на то, что смерть ему пророчат вот уже чуть ли не сто лет. Нет ли здесь парадокса?
МС: Я не имела в виду, что мы перестанем читать романы, хотя бы потому, что сама как читала, так и продолжаю в ущерб другим занятиям. Я говорила, скорее, вот про что. Конечно, мы продолжаем читать романы, и смотрим кино, и сериалы тоже смотрим, и сидим в Инстаграме и Тиндере, и слушаем подкасты, и делаем кучу разных других вещей. Но все это занятия одного порядка, одного уровня в некоторой ценностной иерархии, все это так или иначе entertainment, способ провести время. Иногда это прекрасные романы или сериалы, иногда они важны для нас политически или дидактически.
Вся премиальная индустрия в России и на Западе выстроена вокруг производства романов, их читают и будут читать. Но роман за очень небольшим исключением (я имею в виду тот сегмент поисковой литературы, у которого очень немного читателей и никакого желания развлекать) внезапно перестал быть главным инструментом познания. Он больше не объясняет мир и уж точно его не формирует. Если жизнь чему и подражает, то не романам, а соцсетям. И это новая ситуация, очень интересная, и, чтобы выжить и прожить еще сто лет, роману нужна перезагрузка. Он может стать чем захочет: биографией, мемуарами, научным трудом, сборником документов, системой хранения. Но вот большой русский роман (или большой американский роман, все равно), кажется, сам от себя устал, как и культура монологического мышления, которой он принадлежит. Посмотрим, что будет дальше.
вас может заинтересовать
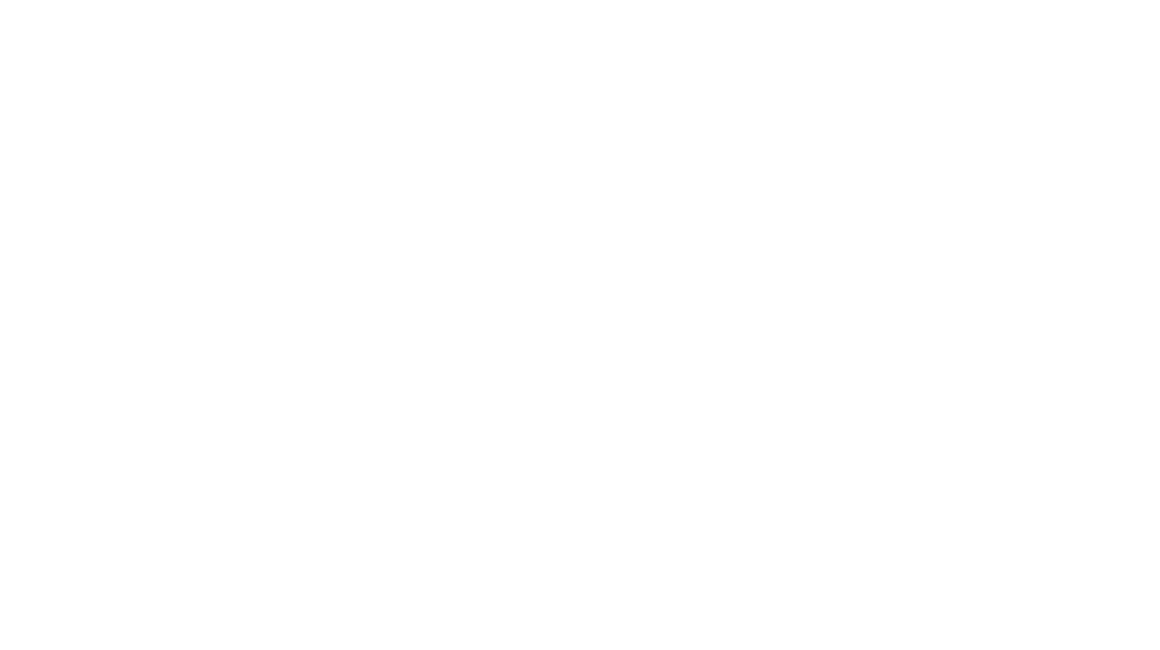
Другая степень погруженности
Продолжаем публиковать цикл интервью Марии Нестеренко с поэтами и писателями. В новом выпуске поэтесса Мария Степанова рассказывает о своих первых стихотворениях, опыте детского и подросткового чтения и задаче написать книгу о семье
МН: Расскажите о вашем детстве. Каким оно было? Цветаева говорила, что не любит своего детства, «я вообще каждый свой день люблю больше предыдущего…» А каково ваше отношение к детству? Склонны ли вы его мифологизировать?
МС: На самом-то деле любила, достаточно посмотреть на то, сколько всего Цветаевой о детстве написано, — и сколько не написано по ее несчастью и нашему невезению. Есть запись из ее черновых тетрадей 1932 года, где речь идет о кромешном безденежье, безнадежном, и невозможности прокормиться писательским трудом. И вот там она говорит: «Есть ли долговая тюрьма? (счета за газ, электричество, близящийся терм). Если была бы — была бы спокойна. Согласна на 2 года (честна) одиночного заключения <…> — NB! с двором, где смогу ходить, и с папиросами — в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь: свое младенчество (до семи лет — Enfancеs) {детское (фр.)} — что: обязуюсь! не смогу не.» И еще где-то та же цифра: «Как бы я написала свое детство (до-семилетие), если бы мне — дали». И еще где-то: «тоска по своему семилетию». И есть план этой самой невозможной ненаписанной «Enfancеs»: Тверской бульвар, сухой фонтан, зеленая кукла, конспект того, что могло стать книгой.
Я не знаю, можно ли не мифологизировать собственное детство. Миф ведь отличает от реальности, что бы этим словом ни называть, в первую очередь разница масштаба. Дело не в правде-неправде, не в том, что временное расстояние меняет взгляд на собственную историю, а в том, что до определенного времени вещи и события — другого роста, они выглядят и переживаются гораздо крупней. Larger than life, как говорится. Потом, задним числом этот другой масштаб можно попробовать обесценить, отменить, но мне кажется, что время до семи, может быть, десяти лет — решающее: складывается словарь, с которым потом человеку всю жизнь жить. Любови и нелюбови, страхи, представления об уюте и о трансгрессии, ощущение личных границ и безопасности, истории, которые рассказываешь себе на ночь и другим при свете — это все так или иначе объясняется этими несколькими годами. Ну, у меня так. Я тихо верю в то, что человек рождается готовым, воспитание может что-то заострить или приглушить, но некоторый набор пристрастий и отталкиваний заложен с самого начала. Но все равно ребенок — пустая комната, есть определенная высота потолков, конфигурация окон, вид из этих окон. И то, чем она заполняется в первые годы, так и остается там навсегда: огромные предметы, живые картины. Это и есть словарь, которым мы пользуемся, когда себе себя объясняем. Мифологический, наверное.
МН: А как вы впервые столкнулись с литературой? Что это было — стихи или проза?
МС: Моя мама не умела петь, то есть умела, но очень стеснялась своего пения, и вместо того, чтобы укладывать меня спать с колыбельными, читала мне на ночь стихи, которых знала сотни. Это были первые поэтические тексты, с которыми я имела дело, еще до детских стихов, которые мне читали потом, до всех потешек, считалок и Барто с Токмаковой. Это было очень важно, видимо: у меня в голове так и стоит с тех пор такое стиховое облако, состоящее из строф и строчек, которые я узнаю на слух. А потом, когда мы с мамой взаимно осмелели и пение все-таки стало получаться, я еще запомнила с ее голоса страшное количество разновозрастных песен — от репертуара советского радио, от революционных песен до каких-то диковатых туристических, студенческих. Это я очень хорошо помню и помню свой жадный интерес к этому всему и то, что у меня в уме Пушкин с Блоком, которых мама читала, и все эти душераздирающие песни — про то, как погиб боец молодой, и про «орленок, орленок», и про «у крыльца родного мать сыночка ждет» — не различались на высокий и низкий регистры, а существовали одновременно.
МН: Когда вы написали первое стихотворение и когда произошло ваше самоопределение как поэта? Иными словами, когда вы поняли, что вы поэт, а не кто иной? Если это было в детстве, как дальше развивался этот путь?
МС: Знаете, очень рано и в довольно комическом режиме. Мне было лет восемь, когда приехала к нам в гости мамина подруга, которую я боготворила (и продолжаю, мы дружим до сих пор). Она жила в Нижнем Новгороде и работала там в детском театре, руководила литературной частью. И она что-то рассказывала маме и мне: какие-то истории про театральную жизнь, про пьесы, которые ставились, про тексты, которые писали им для театра (а они были замечательные, я до сих пор помню стихи Романа Тименчика, который тоже работал тогда в ТЮЗе, только в Рижском, к постановке «Фальстафа»), — и тут я обнаружила, что стихи могут писаться живыми людьми. Что это занятие. Что это сегодня. И немедленно написала некоторое количество стихов, про которые понимала одновременно и то, что они временные, паллиативные (то есть пишутся как бы вперед, ощупывая место для того, что тут может быть сказано потом), и то, что я — поэт, насколько это может быть результатом какого-то внутреннего решения, водораздела. Как если бы можно было повесить себе на живот табличку «поэт» и дальше жить себе спокойно в ожидании настоящих стихов, а пока писать ненастоящие.
МН: Мандельштам писал: «Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь». Какое место в вашем детстве занимали книги? Можете рассказать о самых важных книгах? Каким вы были читателем?
МС: Жадным и мало что понимающим. Меня очень рано научили читать и дальше горя со мной не знали: в любой очереди, в любых долгих и скучных гостях можно было сунуть мне в руки книгу — и я переставала реагировать на окружающее. Она могла быть какая угодно. Одной из главных книг того самого «до-семилетия», наряду с греческими мифами Куна, были «Мифы Древнего Египта» Матье, довольно серьезная академическая штука, над которой я проводила часы. А другая любимая — толстый том «Домоводство», изданный в пятидесятых, где я бесконечно разглядывала картинки и перечитывала кулинарные рецепты и способы оказания первой помощи.
У меня был очень эклектичный набор любимых книг, и родители меня мало ограничивали, скорее, может быть, подбрасывали новых авторов. Фразы «Тебе еще рано» я не помню; помню «Вот вырастешь и будешь читать такого-то». Но если книга такого-то попадала мне в руки через месяц-другой, никто не пытался меня отговаривать. Ну, и был самиздат, книги, которые я находила сама на родительских потайных полках и читала, не задавая вопросов. Это тоже был почти случайный набор: проза Цветаевой, перепечатанная на машинке, Солженицын, генерал Григоренко…
Когда я подростком уже прогуливала школу, все это дикое, беспорядочное чтение было прямо связано с неназванным, но очень мощным чувством свободы, где толком было не разобрать, что приносит счастье: пустая квартира, пустое, ничем не ограниченное временное пространство, которое я могу заполнить как душе угодно, и полки, полки книг, в которые можно войти, как в пруд ныряешь, и вольный объем прирастет еще вдвое-втрое. Я еще тогда читала собрания сочинений подряд, весь этот набор интеллигентской квартиры: Бальзак, Голсуорси, Джек Лондон — от первого тома к последнему, и бесконечное количество словарей, и чего только не.
МН: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», как выживать поэту?
МС: Я не знаю. Тут нет универсальных рецептов. Я в свое время решила, что выживать надо не в качестве поэта, что мне свободней писать вне профессионального поля. Впрочем, решать особенно не приходилось: это была середина девяностых и зарабатывать деньги литературным трудом было бы, наверное, невозможно. Но мне и не хотелось. И я довольно долго старалась держать эти вещи далеко друг от друга — вот у меня есть профессия, даже несколько, которые могут обеспечить мне кусок хлеба, а уж писать я буду то, что хочу, так, как хочу, не оглядываясь на устройство этого странноватого рынка.
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу? Как вы считаете, с чем связан успех «Памяти памяти»? Почему именно романс?
МС: Это не было необходимостью писать прозу, мне всегда полностью хватало стихов. Другое дело, что некоторые из них работали для меня как своего рода прозозаменители, как тексты, существующие на том месте, где вместо них мог бы возникнуть рассказ или роман. И это очень удобно экономически: у стихов другая степень сжатия, ну, и они быстрей доставляют тебя из пункта А в пункт Б.
Я никогда не пыталась даже писать не-стихи: зачем? Но вот что когда-нибудь мне придется написать книгу о семье, я знала всегда. Это была такая отложенная задача где-то на дальнем краю ума, слишком громоздкая и хлопотная, чтобы начать ее решать. И по ходу времени ненаписанный текст все тяжелел, обрастал разного рода невозможностями и дополнениями, пока в какой-то момент не стало ясно, что пора начинать. Но интересно — и я этого не ждала совсем, — что сам ход письма оказался страшно воодушевляющим. Это устроено совсем по-другому, чем со стихами: другой временной режим, другое устройство внимания, другая степень погруженности — и все совсем непохоже на то, как пишутся стихи (а это ведь может быть и довольно болезненным делом, да?). В общем, мне понравилось, и это удивительно.
Что до успеха, то я его не ждала. Он меня радует, конечно, но и тревожит тоже. Я писала эту книжку не для себя, не для внутреннего собеседника, как это бывает со стихами, но и не имея в виду определенную аудиторию, как происходит с эссеистикой. Ее адресаты — это ее герои, люди моей семьи, те, кого уже нет, те, о которых я слишком мало знаю и все-таки хочу говорить. Повторюсь, я всегда знала, что когда-нибудь напишу эту книжку, и в первый раз взялась за это, когда мне было десять лет. У меня есть эта тетрадка, она сохранилась. То есть я сидела на печи тридцать лет и три года, как в русской сказке, и когда начала наконец писать, то вовсе не думала о читателе, о том, как сделать повествование занимательным или увлекательным — мне была важна только точность передачи, гармония общей системы. Есть такое эссе Бродского, оно называется «Поклониться тени». «Памяти памяти» — еще один такой поклон.
Так что да, это очень бескомпромиссная книга, и то, что у нее много читателей в России и не в России, удивительно: я-то обращалась к нескольким людям, которых давно нет на свете. Но сейчас мне кажется, что дело не в самой книге, а в том, как изменилось культурное пространство в последние годы. Документальное повествование выходит на первый план. Тексты сложной жанровой природы, находящиеся на зыбкой территории между фикшен и нон-фикшен, оказываются интересней традиционных романов. И главное — радикально изменилось само отношение к прошлому, к семейной памяти, к семейной истории, к людям и вещам и к тому, что от них осталось. Память становится чем-то вроде секулярного культа, и это очень новая вещь. Или очень старая: такой обращенности назад, в прошлое наша цивилизация не знала с начала Нового Времени.
МН: В одном из интервью вы говорите: «Выдумка перестает работать. Документ оказывается интереснее, чем любая вымышленная история». Как вы думаете, почему именно сейчас это происходит?
МС: Он начался довольно давно, еще статья Мандельштама «Конец романа» описывает эту динамику. Просто сейчас процесс становится еще более массовым. Объяснений тут может быть множество, и они друг друга не исключают, а дополняют. Например, то, что интернет полностью перестроил наше отношение к источникам, а вместе с этим — к идее монополии на нарратив. Любое высказывание может быть откомментировано, оспорено, присвоено, перетолковано, может обрасти любым количеством интерпретаций. О событии мы узнаем не из газетного или телевизионного репортажа, а из множества источников, и классическая журналистика лишь один из них. Мы присутствуем при непрерывно разворачивающемся многоголосом рассказе, где при желании можно увидеть вблизи каждого из говорящих.
Это меняет и наше отношение к истории. Вместо обобщающего повествования, большого нарратива, от кого бы он ни исходил, мы получаем картину, которая оказывается гораздо более зернистой — часто в ущерб смыслу, пониманию событий как последовательного процесса. Зато каждое отдельное зерно, каждый сюжет, каждый документ вырастает до небывалых размеров и вызывает доверие, и внимание, и интерес. А еще интересней следить за тем, как документы взаимодействуют, дополняют и опровергают друг друга. В сравнении с этим хором вымысел слишком линеен, ему недостает объема.
МН: Там же вы говорите, что «иерархии тоже меняются. Как-то даже неловко сказать, что ты зачитался и всю ночь провел над новым романом: это такое бабушкино поведение, так вели себя году в 1960-м». Но ведь продолжают зачитываться, роман жив несмотря на то, что смерть ему пророчат вот уже чуть ли не сто лет. Нет ли здесь парадокса?
МС: Я не имела в виду, что мы перестанем читать романы, хотя бы потому, что сама как читала, так и продолжаю в ущерб другим занятиям. Я говорила, скорее, вот про что. Конечно, мы продолжаем читать романы, и смотрим кино, и сериалы тоже смотрим, и сидим в Инстаграме и Тиндере, и слушаем подкасты, и делаем кучу разных других вещей. Но все это занятия одного порядка, одного уровня в некоторой ценностной иерархии, все это так или иначе entertainment, способ провести время. Иногда это прекрасные романы или сериалы, иногда они важны для нас политически или дидактически.
Вся премиальная индустрия в России и на Западе выстроена вокруг производства романов, их читают и будут читать. Но роман за очень небольшим исключением (я имею в виду тот сегмент поисковой литературы, у которого очень немного читателей и никакого желания развлекать) внезапно перестал быть главным инструментом познания. Он больше не объясняет мир и уж точно его не формирует. Если жизнь чему и подражает, то не романам, а соцсетям. И это новая ситуация, очень интересная, и, чтобы выжить и прожить еще сто лет, роману нужна перезагрузка. Он может стать чем захочет: биографией, мемуарами, научным трудом, сборником документов, системой хранения. Но вот большой русский роман (или большой американский роман, все равно), кажется, сам от себя устал, как и культура монологического мышления, которой он принадлежит. Посмотрим, что будет дальше.
МС: На самом-то деле любила, достаточно посмотреть на то, сколько всего Цветаевой о детстве написано, — и сколько не написано по ее несчастью и нашему невезению. Есть запись из ее черновых тетрадей 1932 года, где речь идет о кромешном безденежье, безнадежном, и невозможности прокормиться писательским трудом. И вот там она говорит: «Есть ли долговая тюрьма? (счета за газ, электричество, близящийся терм). Если была бы — была бы спокойна. Согласна на 2 года (честна) одиночного заключения <…> — NB! с двором, где смогу ходить, и с папиросами — в течение которых, двух лет, обязуюсь написать прекрасную вещь: свое младенчество (до семи лет — Enfancеs) {детское (фр.)} — что: обязуюсь! не смогу не.» И еще где-то та же цифра: «Как бы я написала свое детство (до-семилетие), если бы мне — дали». И еще где-то: «тоска по своему семилетию». И есть план этой самой невозможной ненаписанной «Enfancеs»: Тверской бульвар, сухой фонтан, зеленая кукла, конспект того, что могло стать книгой.
Я не знаю, можно ли не мифологизировать собственное детство. Миф ведь отличает от реальности, что бы этим словом ни называть, в первую очередь разница масштаба. Дело не в правде-неправде, не в том, что временное расстояние меняет взгляд на собственную историю, а в том, что до определенного времени вещи и события — другого роста, они выглядят и переживаются гораздо крупней. Larger than life, как говорится. Потом, задним числом этот другой масштаб можно попробовать обесценить, отменить, но мне кажется, что время до семи, может быть, десяти лет — решающее: складывается словарь, с которым потом человеку всю жизнь жить. Любови и нелюбови, страхи, представления об уюте и о трансгрессии, ощущение личных границ и безопасности, истории, которые рассказываешь себе на ночь и другим при свете — это все так или иначе объясняется этими несколькими годами. Ну, у меня так. Я тихо верю в то, что человек рождается готовым, воспитание может что-то заострить или приглушить, но некоторый набор пристрастий и отталкиваний заложен с самого начала. Но все равно ребенок — пустая комната, есть определенная высота потолков, конфигурация окон, вид из этих окон. И то, чем она заполняется в первые годы, так и остается там навсегда: огромные предметы, живые картины. Это и есть словарь, которым мы пользуемся, когда себе себя объясняем. Мифологический, наверное.
МН: А как вы впервые столкнулись с литературой? Что это было — стихи или проза?
МС: Моя мама не умела петь, то есть умела, но очень стеснялась своего пения, и вместо того, чтобы укладывать меня спать с колыбельными, читала мне на ночь стихи, которых знала сотни. Это были первые поэтические тексты, с которыми я имела дело, еще до детских стихов, которые мне читали потом, до всех потешек, считалок и Барто с Токмаковой. Это было очень важно, видимо: у меня в голове так и стоит с тех пор такое стиховое облако, состоящее из строф и строчек, которые я узнаю на слух. А потом, когда мы с мамой взаимно осмелели и пение все-таки стало получаться, я еще запомнила с ее голоса страшное количество разновозрастных песен — от репертуара советского радио, от революционных песен до каких-то диковатых туристических, студенческих. Это я очень хорошо помню и помню свой жадный интерес к этому всему и то, что у меня в уме Пушкин с Блоком, которых мама читала, и все эти душераздирающие песни — про то, как погиб боец молодой, и про «орленок, орленок», и про «у крыльца родного мать сыночка ждет» — не различались на высокий и низкий регистры, а существовали одновременно.
МН: Когда вы написали первое стихотворение и когда произошло ваше самоопределение как поэта? Иными словами, когда вы поняли, что вы поэт, а не кто иной? Если это было в детстве, как дальше развивался этот путь?
МС: Знаете, очень рано и в довольно комическом режиме. Мне было лет восемь, когда приехала к нам в гости мамина подруга, которую я боготворила (и продолжаю, мы дружим до сих пор). Она жила в Нижнем Новгороде и работала там в детском театре, руководила литературной частью. И она что-то рассказывала маме и мне: какие-то истории про театральную жизнь, про пьесы, которые ставились, про тексты, которые писали им для театра (а они были замечательные, я до сих пор помню стихи Романа Тименчика, который тоже работал тогда в ТЮЗе, только в Рижском, к постановке «Фальстафа»), — и тут я обнаружила, что стихи могут писаться живыми людьми. Что это занятие. Что это сегодня. И немедленно написала некоторое количество стихов, про которые понимала одновременно и то, что они временные, паллиативные (то есть пишутся как бы вперед, ощупывая место для того, что тут может быть сказано потом), и то, что я — поэт, насколько это может быть результатом какого-то внутреннего решения, водораздела. Как если бы можно было повесить себе на живот табличку «поэт» и дальше жить себе спокойно в ожидании настоящих стихов, а пока писать ненастоящие.
МН: Мандельштам писал: «Книжный шкап раннего детства — спутник человека на всю жизнь». Какое место в вашем детстве занимали книги? Можете рассказать о самых важных книгах? Каким вы были читателем?
МС: Жадным и мало что понимающим. Меня очень рано научили читать и дальше горя со мной не знали: в любой очереди, в любых долгих и скучных гостях можно было сунуть мне в руки книгу — и я переставала реагировать на окружающее. Она могла быть какая угодно. Одной из главных книг того самого «до-семилетия», наряду с греческими мифами Куна, были «Мифы Древнего Египта» Матье, довольно серьезная академическая штука, над которой я проводила часы. А другая любимая — толстый том «Домоводство», изданный в пятидесятых, где я бесконечно разглядывала картинки и перечитывала кулинарные рецепты и способы оказания первой помощи.
У меня был очень эклектичный набор любимых книг, и родители меня мало ограничивали, скорее, может быть, подбрасывали новых авторов. Фразы «Тебе еще рано» я не помню; помню «Вот вырастешь и будешь читать такого-то». Но если книга такого-то попадала мне в руки через месяц-другой, никто не пытался меня отговаривать. Ну, и был самиздат, книги, которые я находила сама на родительских потайных полках и читала, не задавая вопросов. Это тоже был почти случайный набор: проза Цветаевой, перепечатанная на машинке, Солженицын, генерал Григоренко…
Когда я подростком уже прогуливала школу, все это дикое, беспорядочное чтение было прямо связано с неназванным, но очень мощным чувством свободы, где толком было не разобрать, что приносит счастье: пустая квартира, пустое, ничем не ограниченное временное пространство, которое я могу заполнить как душе угодно, и полки, полки книг, в которые можно войти, как в пруд ныряешь, и вольный объем прирастет еще вдвое-втрое. Я еще тогда читала собрания сочинений подряд, весь этот набор интеллигентской квартиры: Бальзак, Голсуорси, Джек Лондон — от первого тома к последнему, и бесконечное количество словарей, и чего только не.
МН: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», как выживать поэту?
МС: Я не знаю. Тут нет универсальных рецептов. Я в свое время решила, что выживать надо не в качестве поэта, что мне свободней писать вне профессионального поля. Впрочем, решать особенно не приходилось: это была середина девяностых и зарабатывать деньги литературным трудом было бы, наверное, невозможно. Но мне и не хотелось. И я довольно долго старалась держать эти вещи далеко друг от друга — вот у меня есть профессия, даже несколько, которые могут обеспечить мне кусок хлеба, а уж писать я буду то, что хочу, так, как хочу, не оглядываясь на устройство этого странноватого рынка.
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу? Как вы считаете, с чем связан успех «Памяти памяти»? Почему именно романс?
МС: Это не было необходимостью писать прозу, мне всегда полностью хватало стихов. Другое дело, что некоторые из них работали для меня как своего рода прозозаменители, как тексты, существующие на том месте, где вместо них мог бы возникнуть рассказ или роман. И это очень удобно экономически: у стихов другая степень сжатия, ну, и они быстрей доставляют тебя из пункта А в пункт Б.
Я никогда не пыталась даже писать не-стихи: зачем? Но вот что когда-нибудь мне придется написать книгу о семье, я знала всегда. Это была такая отложенная задача где-то на дальнем краю ума, слишком громоздкая и хлопотная, чтобы начать ее решать. И по ходу времени ненаписанный текст все тяжелел, обрастал разного рода невозможностями и дополнениями, пока в какой-то момент не стало ясно, что пора начинать. Но интересно — и я этого не ждала совсем, — что сам ход письма оказался страшно воодушевляющим. Это устроено совсем по-другому, чем со стихами: другой временной режим, другое устройство внимания, другая степень погруженности — и все совсем непохоже на то, как пишутся стихи (а это ведь может быть и довольно болезненным делом, да?). В общем, мне понравилось, и это удивительно.
Что до успеха, то я его не ждала. Он меня радует, конечно, но и тревожит тоже. Я писала эту книжку не для себя, не для внутреннего собеседника, как это бывает со стихами, но и не имея в виду определенную аудиторию, как происходит с эссеистикой. Ее адресаты — это ее герои, люди моей семьи, те, кого уже нет, те, о которых я слишком мало знаю и все-таки хочу говорить. Повторюсь, я всегда знала, что когда-нибудь напишу эту книжку, и в первый раз взялась за это, когда мне было десять лет. У меня есть эта тетрадка, она сохранилась. То есть я сидела на печи тридцать лет и три года, как в русской сказке, и когда начала наконец писать, то вовсе не думала о читателе, о том, как сделать повествование занимательным или увлекательным — мне была важна только точность передачи, гармония общей системы. Есть такое эссе Бродского, оно называется «Поклониться тени». «Памяти памяти» — еще один такой поклон.
Так что да, это очень бескомпромиссная книга, и то, что у нее много читателей в России и не в России, удивительно: я-то обращалась к нескольким людям, которых давно нет на свете. Но сейчас мне кажется, что дело не в самой книге, а в том, как изменилось культурное пространство в последние годы. Документальное повествование выходит на первый план. Тексты сложной жанровой природы, находящиеся на зыбкой территории между фикшен и нон-фикшен, оказываются интересней традиционных романов. И главное — радикально изменилось само отношение к прошлому, к семейной памяти, к семейной истории, к людям и вещам и к тому, что от них осталось. Память становится чем-то вроде секулярного культа, и это очень новая вещь. Или очень старая: такой обращенности назад, в прошлое наша цивилизация не знала с начала Нового Времени.
МН: В одном из интервью вы говорите: «Выдумка перестает работать. Документ оказывается интереснее, чем любая вымышленная история». Как вы думаете, почему именно сейчас это происходит?
МС: Он начался довольно давно, еще статья Мандельштама «Конец романа» описывает эту динамику. Просто сейчас процесс становится еще более массовым. Объяснений тут может быть множество, и они друг друга не исключают, а дополняют. Например, то, что интернет полностью перестроил наше отношение к источникам, а вместе с этим — к идее монополии на нарратив. Любое высказывание может быть откомментировано, оспорено, присвоено, перетолковано, может обрасти любым количеством интерпретаций. О событии мы узнаем не из газетного или телевизионного репортажа, а из множества источников, и классическая журналистика лишь один из них. Мы присутствуем при непрерывно разворачивающемся многоголосом рассказе, где при желании можно увидеть вблизи каждого из говорящих.
Это меняет и наше отношение к истории. Вместо обобщающего повествования, большого нарратива, от кого бы он ни исходил, мы получаем картину, которая оказывается гораздо более зернистой — часто в ущерб смыслу, пониманию событий как последовательного процесса. Зато каждое отдельное зерно, каждый сюжет, каждый документ вырастает до небывалых размеров и вызывает доверие, и внимание, и интерес. А еще интересней следить за тем, как документы взаимодействуют, дополняют и опровергают друг друга. В сравнении с этим хором вымысел слишком линеен, ему недостает объема.
МН: Там же вы говорите, что «иерархии тоже меняются. Как-то даже неловко сказать, что ты зачитался и всю ночь провел над новым романом: это такое бабушкино поведение, так вели себя году в 1960-м». Но ведь продолжают зачитываться, роман жив несмотря на то, что смерть ему пророчат вот уже чуть ли не сто лет. Нет ли здесь парадокса?
МС: Я не имела в виду, что мы перестанем читать романы, хотя бы потому, что сама как читала, так и продолжаю в ущерб другим занятиям. Я говорила, скорее, вот про что. Конечно, мы продолжаем читать романы, и смотрим кино, и сериалы тоже смотрим, и сидим в Инстаграме и Тиндере, и слушаем подкасты, и делаем кучу разных других вещей. Но все это занятия одного порядка, одного уровня в некоторой ценностной иерархии, все это так или иначе entertainment, способ провести время. Иногда это прекрасные романы или сериалы, иногда они важны для нас политически или дидактически.
Вся премиальная индустрия в России и на Западе выстроена вокруг производства романов, их читают и будут читать. Но роман за очень небольшим исключением (я имею в виду тот сегмент поисковой литературы, у которого очень немного читателей и никакого желания развлекать) внезапно перестал быть главным инструментом познания. Он больше не объясняет мир и уж точно его не формирует. Если жизнь чему и подражает, то не романам, а соцсетям. И это новая ситуация, очень интересная, и, чтобы выжить и прожить еще сто лет, роману нужна перезагрузка. Он может стать чем захочет: биографией, мемуарами, научным трудом, сборником документов, системой хранения. Но вот большой русский роман (или большой американский роман, все равно), кажется, сам от себя устал, как и культура монологического мышления, которой он принадлежит. Посмотрим, что будет дальше.
вас может заинтересовать

