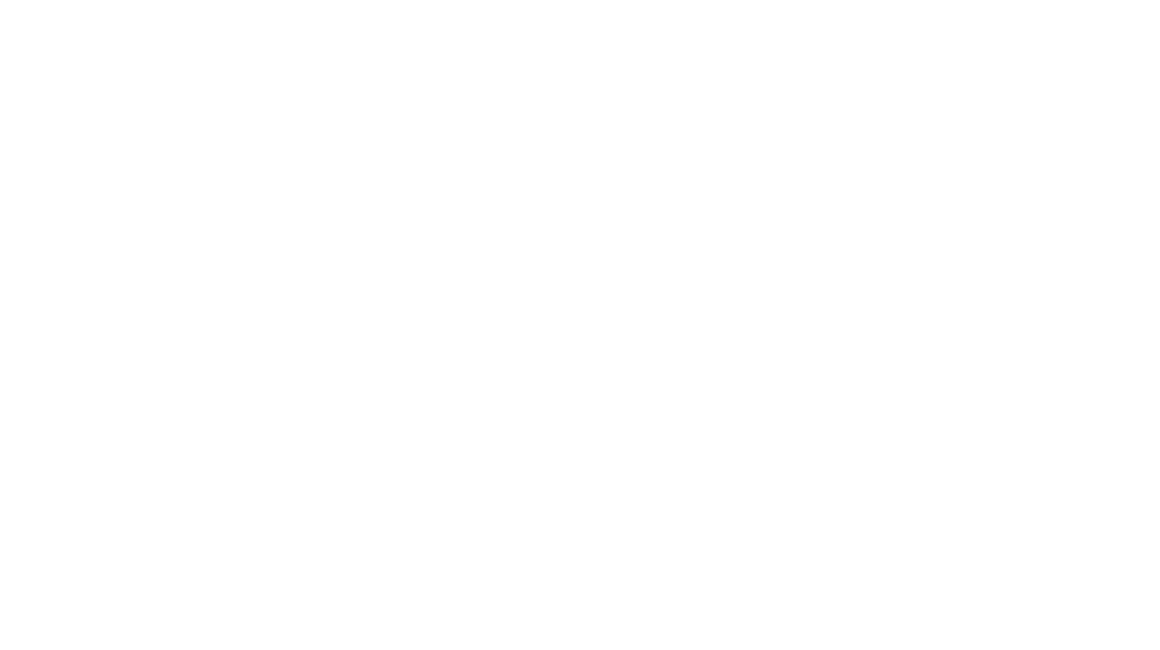
Хаос реакций
Публикуем беседу Ивана Оносова с писателем, историком и журналистом Кириллом Кобриным о том, как изменились представления о времени и письме после пандемии, о текстах «изоляционного» номера «Носорога» и наблюдениях над психическими и экономическими процессами пандемии.
Иван Оносов: Отправной точкой для многих текстов, написанных в последний год, является попытка зафиксировать ощущение другого времени: остановившегося, подвешенного, своего рода скобок. С одной стороны, оно воспринимается как тайм-аут, возможность сделать то, на что раньше времени не хватало, с другой — давит больший вес этих небесконечных мгновений вне основного времени, а с третьей — то вблизи, то вдали маячит вера в возобновление того, что прервалось. Как, по вашим наблюдениям, эти три ощущения уживаются друг с другом?
Кирилл Кобрин: Попытки зафиксировать это новое восприятие времени, действительно, предпринимаются, и немало, но я не думаю, что печатный текст может с такой задачей справиться. Своими описаниями и цитатами литераторы пытаются уцепиться за то, что вокруг, мол, происходит некоторая жизнь. С другой стороны, есть и ощущение «сейчас пауза, мы досчитаем до десяти (ста, тысячи), домашний арест закончится, исчерпает себя литературный прием, которым мы пользуемся, чтобы его описать, и тут-то опять все и начнется».
Но мое ощущение времени в локдауне совершенно другое. Перед эпидемией я очень много путешествовал и сейчас чувствую, что уже в 2017–2019 году я выпал из своего обычного пространства людей, которые меня окружали физически и виртуально: писателей, музыкантов, не обязательно живых. И к 2021-му я о многих важных для себя вещах и людях просто забыл.
Например, из этого номера «Носорога», от Ильянена, я узнал о смерти Гийота. Гийота не то чтобы сыграл большую роль в моей жизни, но одно время он в ней сильно присутствовал. Когда я жил в Праге, я постоянно общался с Дмитрием Волчеком, который тогда много издавал Гийота, и я прочитал несколько его книг. Они, конечно, не перевернули мою жизнь, но Гийота в ней определенно присутствовал — страстный, яростный писатель, которого упрекали, с одной стороны, в садизме и жестокости, с другой — говорили, что это скучно и монотонно написано. Это не так, это блестящий писатель, который ничего не боится, писатель, полный холодной ярости, выдаваемой за горячую.
Но он мог писать и по-другому. Уже под конец моего пребывания в Праге Волчек выпустил его автобиографию, и она написана совершенно иначе, как будто другим человеком. По ней понятно, какая внутренняя работа требовалась от Гийота, чтобы писать так, как он писал свои романы. Забавно, я даже однажды его видел. В начале 2000-х чуть ли не в первый раз приехал в Париж, шел по рю Дантон, о чем-то разговаривал с приятелем, и вдруг смотрю: напротив меня стоит Гийота, а он довольно узнаваемый.
Так вот, если бы не было бесконечных разъездов до локдауна и самого локдауна, я бы, конечно, как-то узнал о его смерти, но все это вместе изменило жизнь настолько, что я узнал о смерти Гийота не из новостей, а из фрагмента романа Ильянена, опубликованного в «Носороге». Я рассказываю это к тому, что мое представление о времени из-за локдауна, конечно, изменилось. Оно связано и с темпераментом, и со страной, в которой меня локдаун застал. Я живу в Риге в центре города, но ощущение, очень местное, что я на хуторе.
ИО: Это тоже важный вопрос: с чем эти события сопоставить? Они, безусловно, значительные, подобных им на нашем веку не было, поэтому в оборотах вроде «великая пандемия» не так много иронии. Но как раз из-за новизны этой ситуации ее сложно воспринять непосредственно, и поэтому она часто осмысляется в отношениях и контрастах с другими явлениями: испанкой, пеллагрой, затворничеством Ханны Хох в гитлеровской Германии, написанием диссертации, домашним арестом. Где границы такого параллелизма, исторического и, что более интересно, автобиографического?
КК: Мышление историческими аналогиями — это очень дурное мышление, не так ли? Никаких параллелей нет, потому что во времена испанки люди жили в другом времени и другое время было у них в голове. С самого начала пандемии культурные люди проводили аналогии и с пушкинским «Пиром во время чумы», и с «Декамероном», но все это мимо. Во-первых, чума длилась долго, а люди жили коротко, но вместе с тем и медленно. Мне сложно представить это сочетание очень короткой с нашей точки зрения жизни с медленным ее проживанием, поэтому мне не понять, каким образом в сознании людей происходило такое протяженное событие, как многолетняя эпидемия чумы.
Шкловский сказал бы: «Эпидемия чумы — это прием, который позволяет рассказчику рассказывать свои истории». Это так, но, чтобы воспринять происходящее сейчас как прием, нужно обладать определенной, а именно модернистской, дисциплиной мышления, на которую сейчас мало кто способен. И, если говорить о том же Пушкине, странно: мало кто вспомнил о Болдинской осени, когда эпидемия холеры заставила сидеть его в бедном Болдино и от скуки писать. Здесь довольно любопытное пересечение и с темой «Носорога», и с Ксавье де Местром: вся эта «Болдинская осень» написана от нечего делать, эти тексты — результат изобилия кажущегося свободным времени, которое нужно убить.
Еще одна важная лично для меня литературная аналогия — это «Волшебная гора» Томаса Манна. Конечно, всем бы нам хотелось сидеть в изоляции с таким комфортом, как у Ганса Касторпа, с прекрасной изобильной едой, хорошим вином, неспешными разговорами, книгами и изумительными видами с балкона. Но темы «Волшебной горы» не столь уж рекреационные, скажем тема времени как болезни и болезни как времени. «Волшебная гора» очень долго разгоняется, а затем быстро оказывается в другой точке, в нем самом — странное время, он сам, так сказать, это странное время.
Именно это ощущение оказалось мне гораздо ближе во время локдауна. Я очень многое за это время успел, в том числе и в собственной жизни. Эта комбинация лихорадочной активности и не то чтобы праздности, но тихой протяженности локализована для меня в районе Кливерсала, где я обитаю. Он расположен напротив Старого города, рядом с бухтой, где стояли всю зиму никому не нужные яхты, а по ту сторону от трассы идут пустые парки.
Еще одна параллель — Кафка. Ощущения внутри локдауна — это в каком-то смысле ощущения землемера, который пытается попасть в Замок: нам все время кажется, что мы вот-вот выйдем из него, мы приближаемся к концу, вот уже и вакцина, казалось бы, но ничего не происходит.
ИО: Но почему именно письмо, хроникерство? Все оказавшиеся в таких обстоятельствах нередко переходят, сознательно или нет, в другой режим, появляются и соблюдаются ритуалы, призванные сохранить тот, доссылочный, докарантинный облик. Какое место среди них занимает запись малопримечательных в других обстоятельствах событий и какие есть другие ритуалы?
КК: И без всякого локдауна был Леон Богданов, который является отцом и непревзойденным образцом локдаунной прозы. Много ли есть писателей, добровольно взваливших на себя такую жизнь за сорок лет до ковида? А Леон Богданов — образец локдауна как типа сознания. Он сидит и фиксирует не только происходящее вокруг (ведь вокруг него ничего значительного не происходит, все обычно и ритуализированно: жена, чифирь, трава, Кирилл Козырев приходит, приносит какие-то книжки из «Библиотеки восточной литературы»), но и всевозможные землетрясения и катастрофы, о которых говорит советское радио. Проскакивают в том числе и какие-то бессмысленные политические новости, официальные визиты, кто-то куда-то приехал. А еще знакомые говорят, что выходят какие-то книжки, под конец, в 1986-м, выходит даже Хлебников, знаменитый огромный черный том, первое его издание с 1930-х годов.
У меня было такое ощущение, что Леон Богданов сидит, ждет, ждет Хлебникова, и вот Хлебников выходит, и Богданов — не знаю, успел он его увидеть или нет, — умирает. Это было до интернета, но я не вижу, чтобы что-то с тех пор изменилось, если говорить о своем художественно отрефлексированном месте в локдаунном времени и пространстве.
Здесь важна и этическая позиция. Позиция Богданова не лукавая, он мужественно смотрит в глаза этой жизни и знает, что другой не будет. Это не эскапизм, который был у части ленинградских поэтов, думавших о том, как схлынет советское наваждение и вернется все «настоящее», ушедшее в 1917 году, с «настоящими» Блоком, Белым, Мандельштамом и Гумилевым. Это эскапизм, в этом есть трусость.
А Богданов жил и знал, что это устроено так и не то что в этой жизни нужно, как премудрому пескарю, устроиться, чтобы тебя не трогали, нет. Он просто по умолчанию считает то место, где он находится, и тот образ жизни, который ведет, единственной возможной точкой существования и наблюдения — а для него это одно и то же. Это очень мужественная и практически безупречная позиция.
В нашем же локдауне есть некоторое лукавство: что бы о нем ни писали, все равно мы хотим, чтобы вернулось, как было. Даже если мы пишем, что мир уже никогда не будет прежним, мы все равно верим в противоположное.
ИО: У Томаса Диша есть рассказ 1962 года The Squirrel Cage. В нем главный герой заперт в комнате неизвестно кем, как, когда, но главное, зачем. Возможно, за ним наблюдают (и любитель простых метафор скажет, что это Бог), но это беспокоит его в меньшей степени. К нему ежедневно поступает свежий «Нью-Йорк Таймс», а его единственное средство коммуникации с внешним миром — печатная машинка. Он выстукивает на ней стихи, истории и признания, но никакой реакции на это нет, он и сам не видит то, что печатает. Развитие этого небольшого рассказа — в движении от беспокойства из-за кафкианскости ситуации и отчаяния от тщетности действий к ужасу от гипотетической перспективы выйти наконец из комнаты. Вы видите какую-то переломную точку, пройдя которую проще будет оставить все как есть?
КК: Очень заманчиво было бы представить себе мир, дошедший до точки, когда он уже просто не захочет выходить из локдауна. Может быть, не из-за того даже, что мир привыкнет к гибернации и ему понравится, а оттого, что он просто окажется в состоянии немочи, локдаун высосет силы из этого мира настолько, что миру станет все равно и окажется проще длить то, что есть, чем совершить усилие и вернуться в так называемую нормальную жизнь.
ИО: Вы имеете в виду экономические или психические процессы?
КК: И то и другое. В этой ситуации нельзя отделить экономическое от психологического. Современная экономика — это экономика психопатов, современные финансовые рынки — это область деятельности кокаиновых психопатов, поэтому я не стал бы отделять экономическое от психологического и даже психического.
Сама жизнь, ткань жизни, сфера жизни может исчерпаться, подъесть себя. Мы сейчас не говорим обо во всем мире, разумеется. Мы же обсуждаем проблемы так называемого белого человека, то, что как бы нас как бы волнует, а большая часть населения Индии, Бразилии или Китая нас просто не поймет. Но, увы, мы обречены говорить только о себе, поэтому говорим так, как мы говорим. И с этой, с нашей, точки зрения было бы заманчиво представить себе изможденный мир, про который Марк Фишер сказал бы, что это тот самый исчерпавший себя, всем и себе надоевший мир позднего капитализма и позднего неолиберализма.
Но как бы ни было увлекательно представлять себе мир, который локдаун психологически вычерпает настолько, что он не захочет возвращаться назад, я думаю, такого не случится. Ведь если сейчас наступит третья, четвертая, пятая волна эпидемии и опять начнут все закрывать, то люди с каждым разом будут все меньше на это реагировать и все больше впадать в истерику или апатию (а скорее всего, в истерику и в апатию одновременно). Именно такое состояние апатичной истерики, или истерической апатии, я и назвал бы пограничным, после которого этому миру может показаться, что лучше остаться в локдауне.
Более того, есть сферы, где ситуация уже никогда не сможет вернуться к состоянию «до», например образование. Тупые, энергичные и циничные менеджеры высшего образования и до этого хотели, чтобы все вели лекции и семинары в Зуме, а им можно было бы меньше тратиться на строительство, аренду и ремонт школ и университетов, а теперь зум- и ютуб-просвещение уже стали мейнстримом. Это не значит, что все занятия перейдут в онлайн, но шаг за шагом все будет переноситься туда.
Что касается литературы, то есть немалое количество литераторов, которые, оказавшись в ситуации эпидемии и изоляции, сказали себе: «Я писатель, я пишу о том, что происходит. Раз уж я здесь оказался, я должен это описывать в традиции, например, путевых очерков, когда пишут о том месте, где оказался». Более рефлексирующие говорят себе: «Раз я оказался в карантине и изоляции, где по-другому течет время, то и письмо мое должно измениться», и начинают изменять письмо.
Иногда, когда человек очень тонко проживает время, в котором живет, оно меняется само. Пятигорский, например, говорил о том, что бывает время, когда нужно замереть и пропускать смыслы через себя. Пространство локдауна и изоляции состоит на сто процентов из времени, но способность не просто замереть, а пропускать при этом сквозь себя смыслы мало кому доступна.
Если же не брать этот верхний слой, есть разные стратегии отклика на эту ситуацию. Интересны бывают даже не столько тексты, сколько сам вопрос о том, что необходимо откликнуться на ситуацию, вопрос внутренней необходимости писателя. Не стоит ли историзировать эту необходимость откликаться? Было ли так всегда и везде? Я в этом сомневаюсь.
Если вернуться к «Носорогу», то Ильянен точно так же писал и до локдауна и так же будет писать после, но вдруг в этой точке происходящее с миром совпадает с тем, как пишет этот давно уже сочиняющий прозу писатель. Александра Петрова из Рима, Вечного города, пишет о времени, которое как бы застыло, и получается комбинация вечности и Вечного города. Но вдруг вечность — это не застывший полуразрушенный храм, не неподвижная руина времени, а бесконечное и бессмысленное копошение мелких феноменов? В Риме, как пишет Петрова, в сторону Аппиевой дороги, что-то когда-то оградили, потом открыли, потом это открытое куда-то подвинули, кого-то из-за этого выселили — мысль о суете сует и тщете всего человеческого банальна, но из этого текста она встает.
Текст Гертруды Стайн — один из самых трудночитаемых, нужно по несколько раз произносить вслух каждую фразу, чтобы понять, что в ней происходит, но это в чистом виде кубизм. Ведь именно кубизм, когда он появился, предлагал попытку увидеть вещь с нескольких ракурсов одновременно, ее геометрическое строение и внутреннюю структуру. Это умение увидеть вещь снаружи и изнутри и сделать из описания вещи еще одну вещь, может быть, еще более вещную, чем та, которая описывается, — это то, что великие модернисты умели, а нам уже не под силу. С локдауном эту прозу роднит то, что это тоже досужее описание, только Гертруде Стайн не нужно было никакого карантина, чтобы таким образом думать и писать.
ИО: Но карантинный хроникер сидит в комнате один и настолько долго, что одиночество в какой-то момент может заставить его усомниться в собственном существовании, поэтому в письмо может быть заложена и связанная с ним терапевтическая функция. Что для него важнее: звук собственного голоса или поиски встречного взгляда, попытки увидеть себя со стороны, во всех подробностях?
КК: Есть огромное искушение сказать какую-нибудь пошлость вроде «Изоляция — это время, когда ты встречаешься сам с собой», но правда в том, что никакого «сам» не существует, некому и не с кем встречаться, что локдаун просто переформатировал пучки наших реакций на мир, вот и все. Мы остаемся наедине с хаосом наших реакций, вопрос лишь в том, насколько упруга подушечка этой сферы и вернется ли она в свою прежнюю форму, когда (и если) это давление исчезнет.
Ответ на этот вопрос позволяет сказать что-то о нашем внутреннем устройстве, что имеет прямое отношение к писательству. Важно то, из какой точки пишется локдаунная проза: из точки трансформируемой сферы разного рода реакций на раздражения, удобства и неудобства, или точка, из которой говорится, является, оставаясь внутренней, одновременно и точкой снаружи, наблюдающей за говорящим. Этот трюк известен в философии, собственно, философом и называют того человека, который рефлексирует по поводу того, как он думает.
Помимо текстов из «Носорога» я прочитал немало локдаунной прозы, в том числе текст Александра Чанцева, который несколько месяцев назад решил поехать в Марокко. Текст этот состоит из нумерованных частей, он выхватывает мелочи, не всегда точно, а иногда и лениво подобранные, но эта неряшливость, это отсутствие отбора и кажутся мне отличительной чертой апатии локдауна.
Следующий вопрос был бы «Почему?», и тут нужно сказать об интернете. Ведь, когда изоляция только начиналась, многие говорили: «Вот наступил момент ясности. Сейчас мы увидим, как все устроено». И в какой-то момент те, кто этого хотели, действительно увидели, что как устроено, как локдаун обнажил пропасть между бедными и богатыми, что кому можно и что кому нельзя. Но после большой ясности наступила пора неопрятности мышления.
ИО: Но у этой локдаунной хроники есть и еще одна задача, сознательная или нет: сохранить личный опыт в его настоящести и непосредственности и собрать материал для коммеморации, сделать посильный вклад в архив для будущей Erinnerungskultur, культуры памяти. Не искажает ли такая прагматическая перспектива непосредственность описания?
КК: Потребность писателя рефлексировать о своих переживаниях, фиксировать то, что с ними происходит, для поучения и просто сохранения существовала всегда. Другое дело, что сейчас реакция ожидается быстрее, чем раньше, и в таким образом проживаемом времени очень сложно сказать, что будет потом. Литераторы сейчас часто действительно пишут в будущую память. Многие из относительно не старых еще людей живут с памятью о том, как открывались пласты истории, как всплывали ГУЛаг и блокада и свидетельства о них. Я и сам такой человек, мне тогда было чуть больше двадцати.
И на фоне подобного ужаса эти преувеличения и романтизация локдаунной катастрофы и страданий кажутся смешными: «Ах, боже мой, я целый год не сидел в кафе за столиком!» И сейчас, когда стало уже чуть-чуть можно сидеть за столиком, это все забывается. Самая большая ошибка такого рода мышления — убежденность в том, что «сейчас» будет так же, как это произошло «тогда», что, дескать, в блокаду Лидия Яковлевна Гинзбург писала «Записки блокадного человека», чтобы потом, через много лет люди их читали и помнили. Это все неправда. Гинзбург, в отличие от других, писала не для будущего, а чтобы разобраться с собой в той точке, когда и где это происходило. И это — подлинное мужество, как потом, в другой, более мирной ситуации у Леона Богданова.
Сегодня же всем все равно, потому что произошла маркетизация и монетизация такого слова, как «память». Оно стало поручнем, за который люди хватаются, когда их автобус трясет: «Потом наши потомки будут читать о страшных испытаниях, выпавших на нашу долю». Я не говорю сейчас о тех, кто действительно тяжело переболел. Человек, который выкашливает легкие, вряд ли будет писать об этом мемуары для будущего. И этим наша ситуация отличается от ГУЛага или блокады: тогда люди писали о том, как они, метафорически говоря, выкашливают легкие или из них их «выкашливают» нацисты или энкавэдэшники.
Последние годы я стал пристально смотреть на особенную разновидность текстов-свидетельств людей, умирающих от неизлечимой болезни, чаще всего от рака, и меня всегда интересовал вопрос, зачем они это описывают. Это очень сильный поступок, ведь, когда ты умираешь, тебе не до словесности. Зачем? Это тщеславие? Желание хлопнуть дверью? Еще что-то? Но сейчас ситуация другая: я не видел ни одного текста человека, тяжело переболевшего коронавирусом.
ИО: Попробуем поставить себя на место человека будущего. Начать оценивать успех таких «писем в бутылке» можно уже сейчас, когда, по крайней мере в России, снова все стало более-менее можно. Что вы чувствуете, когда как человек будущего читаете записи годичной давности, свои и чужие? У вас получается с их помощью развести этот концентрат памяти и вернуться в разгар карантина и изоляции? Или они уже кажутся устаревшими? Или раздражают напоминанием о тяготах?
КК: Ну, для меня-то как раз локдаун прошел не очень тяжело. Я хорошо помню, когда начал от него уставать: очень поздно, только в начале января 2021-го. До того за делами я его чаще всего просто не замечал. Что касается опубликованных текстов, я стараюсь свои не перечитывать, и мне безразлично, в локдауне они написаны или нет. Я могу о них забыть, и случается, что я натыкаюсь на какой-то текст, начинаю его читать и вдруг понимаю: вау, так это я его написал.
С дневниками по-другому. Когда ведешь дневник для себя, можно много лет спустя поражаться юношеской наивности или возмутиться какой-то глупостью, но ты никогда не сомневаешься во внутренней подлинности. Да, оно действительно было именно так. И это ты сам, пусть из прошлых операционных систем.
Про локдаун мне сказать сложно, потому что я не читал личных ковид-дневников. Локдаунные записи Ильянена — это записи все того же Ильянена, это человек, который в кузминской традиции мышления и прозы видит эти молекулы жизни, хаотичные комбинации интересных и неинтересных вещей. Повторюсь: когда я читал Ильянена, я поразился тому, насколько он остался неизменен. Здесь вспоминается Кафка, который в своей прозе и в своем дневнике как бы не замечает Первую мировую войну.
Здесь же можно вспомнить и самого Кузмина, и текст Шкловского, который описывает петроградскую литературную среду 1922-го, кажется, года. Казалось бы, Кузмин — прихотливый эстет, он должен был первым сломаться в таких страшных условиях, в первые же дни Гражданской войны сойти с ума и умереть от отсутствия шабли, а он, по словам «железного дровосека» Шкловского, оказался железным, он пережил Блока и просуществовал, голодая и нищенствуя, до самой своей смерти в 1936 году.
В 1930-е годы о нужном и важном пишут Фадеев и Булгаков, а, например, Вагинов — это десерт, но где сейчас эта обязательность Фадеева и Булгакова? На ренессансных гравюрах часто изображались алхимики и астрономы, которые заглядывают за занавес небесного свода и наблюдают звезды. Фадеев с Булгаковым, по-разному конечно, описывают этот занавес, а Добычин, Вагинов или сейчас Ильянен — они про то, что можно подглядеть, если эту пропыленную ткань слегка приподнять или отодвинуть. Это, казалось бы, совершенно не обязательные вещи, которые и оказываются на самом деле обязательными. К сожалению, в большинстве того, что я читал во время локдауна, я вижу как раз натужное желание сказать обязательные вещи о происходящем, и они мне неинтересны.
ИО: В галерее Марины Гисич недавно была выставка Кирилла Челушкина: серия работ о тупиковых ветвях научно-технического прогресса, которые, несмотря на свою практическую бесполезность и ограниченность во времени, оказались плодотворны с точки зрения мифотворчества, причем мифотворчества героического, коль скоро они были связаны с испытанием пределов человеческих возможностей. Там были дирижабли, там был Вильгельм Райх со своим оргонным аккумулятором, и там, среди прочего, была картина «Человек, который серьезно рисковал здоровьем» (2020). Вы видите, как складывается ковидная мифология? Есть что-то в описании последних полутора лет, что вы предпочли бы видеть скорее мифологизированным, чем достоверным, соответствующим действительности?
КК: Я не знаю, что такое действительность, но в ситуации пандемии меня поразил Зум. Это одно из самых ужасных изобретений человечества, но вместе с тем это и религиозное переживание, потому что сотни миллионов людей ежедневно садятся и смотрят на иконостас, в котором большинство иконок черные, а остальные не святые, а какие-то люди. Это напоминает мессу, и люди с помощью этого ритуала вовлекаются во Всемирную Церковь Зума.
Еще одна вещь, которая меня поразила, — то, что, с одной стороны, мы замурованы в стенах своей крепости-дома, но вместе с тем благодаря Зуму и прочим таким штукам мы побывали дома у миллионов людей. Все эти месяцы мы прилежно изучали на экранах, как организована домашняя жизнь других, как выглядят квартиры, какие вещи валяются, какие книжки стоят на полках, что творится на кухне, детей, домашних животных. Мне кажется, такого сокрушительного нарушения приватности человечество еще не знало. Я всегда старался этого избегать, но раз-два в неделю Зум в моей жизни присутствует.
Но сейчас я говорю и о целой индустрии домашних концертов. Я побывал дома у Роберта Фриппа. Мне всегда казалось, что у него дома все должно быть устроено так же, как и в его музыке: фриппертроника, сеточки, паранойя, — а выяснилось, что у него обычный английский буржуазный дом и кухня с резными шкафчиками, а он сам добродушный дядька, который с женой Тойей разыгрывает домашние представления. Я, конечно, был этим разочарован.
Другой пример — Софи Эллис-Бекстор, которая решила снимать и выкладывать на Ютубе kitchen disco: петь караоке свои и чужие песни и плясать на своей кухне в окружении детей разного возраста. Получилось мощно, надо сказать, в каком-то смысле к ней даже вернулась часть былой славы. Мне тоже интересно было посмотреть, как живет Софи-Эллис Бекстор.
Раньше такого не было. Ты оказываешься внутри домов самых разнообразных людей, до сих пор живших за закрытыми дверями. Это важно, потому что все это происходит в обществе, озабоченном ситуацией с приватностью, и мне очень интересно, что будет с этой внезапной распахнутостью после локдауна.
ИО: Но приватность зум-вечеринок не отменяет и контролируемый эксгибиционизм. Де Местр тоже этим занимается. Он описывает комнату, но всегда остается «я», он до конца в ней не растворяется, и его самосозерцание в какой-то момент переходит в самолюбование, комната становится музеем его самого, а рассказ о ней превращается в экскурсию по экспонатам.
КК: Это правда, к тому же написано это было тогда, когда на основе частных коллекций и кабинетов диковин начинали создаваться современные музеи. Если Барт был бы сейчас жив, он непременно написал бы эссе о том, что Ксавье де Местр настолько же махровый реакционер, как и его брат Жозеф, что открытию музеев он противопоставляет закрытие своей комнаты, где он в одиночку любуется своими ценностями.
Самодовольство определенно присутствует, и оно нарастает. Это тщеславие особенно проявляется во время зум-вечеринок. Раньше существовал такой жанр — пьяный разговор по телефону. В этом жанре было много черт отрицательных, но была и положительная: это был разговор человека, пусть и с измененным сознанием, с другим человеком. Или же были вечеринки, где можно было скользить по комнатам со стаканом в руке и перебрасываться фразами с разными людьми, обращаясь к каждому конкретному. Существовал даже типаж: человек на кухне, который либо стесняется, либо непопулярен. Но и это был индивидуальный выбор. Ты приходишь на вечеринку и ни с кем не общаешься, просто стоишь.
В Зуме же происходит разговор со всеми и вместе с тем ни с кем конкретно, подобно соцсетям, где все и постят, чтобы быть прокомментированными, и комментируют чужие посты. Получается похоже на театр, где все одновременно являются и актерами, и зрителями, а на самом деле, скорее всего, никто ни на кого не смотрит, а многие просто включают в Зуме себя на большой экран и изучают собственную физиономию во всех деталях.
Кирилл Кобрин: Попытки зафиксировать это новое восприятие времени, действительно, предпринимаются, и немало, но я не думаю, что печатный текст может с такой задачей справиться. Своими описаниями и цитатами литераторы пытаются уцепиться за то, что вокруг, мол, происходит некоторая жизнь. С другой стороны, есть и ощущение «сейчас пауза, мы досчитаем до десяти (ста, тысячи), домашний арест закончится, исчерпает себя литературный прием, которым мы пользуемся, чтобы его описать, и тут-то опять все и начнется».
Но мое ощущение времени в локдауне совершенно другое. Перед эпидемией я очень много путешествовал и сейчас чувствую, что уже в 2017–2019 году я выпал из своего обычного пространства людей, которые меня окружали физически и виртуально: писателей, музыкантов, не обязательно живых. И к 2021-му я о многих важных для себя вещах и людях просто забыл.
Например, из этого номера «Носорога», от Ильянена, я узнал о смерти Гийота. Гийота не то чтобы сыграл большую роль в моей жизни, но одно время он в ней сильно присутствовал. Когда я жил в Праге, я постоянно общался с Дмитрием Волчеком, который тогда много издавал Гийота, и я прочитал несколько его книг. Они, конечно, не перевернули мою жизнь, но Гийота в ней определенно присутствовал — страстный, яростный писатель, которого упрекали, с одной стороны, в садизме и жестокости, с другой — говорили, что это скучно и монотонно написано. Это не так, это блестящий писатель, который ничего не боится, писатель, полный холодной ярости, выдаваемой за горячую.
Но он мог писать и по-другому. Уже под конец моего пребывания в Праге Волчек выпустил его автобиографию, и она написана совершенно иначе, как будто другим человеком. По ней понятно, какая внутренняя работа требовалась от Гийота, чтобы писать так, как он писал свои романы. Забавно, я даже однажды его видел. В начале 2000-х чуть ли не в первый раз приехал в Париж, шел по рю Дантон, о чем-то разговаривал с приятелем, и вдруг смотрю: напротив меня стоит Гийота, а он довольно узнаваемый.
Так вот, если бы не было бесконечных разъездов до локдауна и самого локдауна, я бы, конечно, как-то узнал о его смерти, но все это вместе изменило жизнь настолько, что я узнал о смерти Гийота не из новостей, а из фрагмента романа Ильянена, опубликованного в «Носороге». Я рассказываю это к тому, что мое представление о времени из-за локдауна, конечно, изменилось. Оно связано и с темпераментом, и со страной, в которой меня локдаун застал. Я живу в Риге в центре города, но ощущение, очень местное, что я на хуторе.
ИО: Это тоже важный вопрос: с чем эти события сопоставить? Они, безусловно, значительные, подобных им на нашем веку не было, поэтому в оборотах вроде «великая пандемия» не так много иронии. Но как раз из-за новизны этой ситуации ее сложно воспринять непосредственно, и поэтому она часто осмысляется в отношениях и контрастах с другими явлениями: испанкой, пеллагрой, затворничеством Ханны Хох в гитлеровской Германии, написанием диссертации, домашним арестом. Где границы такого параллелизма, исторического и, что более интересно, автобиографического?
КК: Мышление историческими аналогиями — это очень дурное мышление, не так ли? Никаких параллелей нет, потому что во времена испанки люди жили в другом времени и другое время было у них в голове. С самого начала пандемии культурные люди проводили аналогии и с пушкинским «Пиром во время чумы», и с «Декамероном», но все это мимо. Во-первых, чума длилась долго, а люди жили коротко, но вместе с тем и медленно. Мне сложно представить это сочетание очень короткой с нашей точки зрения жизни с медленным ее проживанием, поэтому мне не понять, каким образом в сознании людей происходило такое протяженное событие, как многолетняя эпидемия чумы.
Шкловский сказал бы: «Эпидемия чумы — это прием, который позволяет рассказчику рассказывать свои истории». Это так, но, чтобы воспринять происходящее сейчас как прием, нужно обладать определенной, а именно модернистской, дисциплиной мышления, на которую сейчас мало кто способен. И, если говорить о том же Пушкине, странно: мало кто вспомнил о Болдинской осени, когда эпидемия холеры заставила сидеть его в бедном Болдино и от скуки писать. Здесь довольно любопытное пересечение и с темой «Носорога», и с Ксавье де Местром: вся эта «Болдинская осень» написана от нечего делать, эти тексты — результат изобилия кажущегося свободным времени, которое нужно убить.
Еще одна важная лично для меня литературная аналогия — это «Волшебная гора» Томаса Манна. Конечно, всем бы нам хотелось сидеть в изоляции с таким комфортом, как у Ганса Касторпа, с прекрасной изобильной едой, хорошим вином, неспешными разговорами, книгами и изумительными видами с балкона. Но темы «Волшебной горы» не столь уж рекреационные, скажем тема времени как болезни и болезни как времени. «Волшебная гора» очень долго разгоняется, а затем быстро оказывается в другой точке, в нем самом — странное время, он сам, так сказать, это странное время.
Именно это ощущение оказалось мне гораздо ближе во время локдауна. Я очень многое за это время успел, в том числе и в собственной жизни. Эта комбинация лихорадочной активности и не то чтобы праздности, но тихой протяженности локализована для меня в районе Кливерсала, где я обитаю. Он расположен напротив Старого города, рядом с бухтой, где стояли всю зиму никому не нужные яхты, а по ту сторону от трассы идут пустые парки.
Еще одна параллель — Кафка. Ощущения внутри локдауна — это в каком-то смысле ощущения землемера, который пытается попасть в Замок: нам все время кажется, что мы вот-вот выйдем из него, мы приближаемся к концу, вот уже и вакцина, казалось бы, но ничего не происходит.
ИО: Но почему именно письмо, хроникерство? Все оказавшиеся в таких обстоятельствах нередко переходят, сознательно или нет, в другой режим, появляются и соблюдаются ритуалы, призванные сохранить тот, доссылочный, докарантинный облик. Какое место среди них занимает запись малопримечательных в других обстоятельствах событий и какие есть другие ритуалы?
КК: И без всякого локдауна был Леон Богданов, который является отцом и непревзойденным образцом локдаунной прозы. Много ли есть писателей, добровольно взваливших на себя такую жизнь за сорок лет до ковида? А Леон Богданов — образец локдауна как типа сознания. Он сидит и фиксирует не только происходящее вокруг (ведь вокруг него ничего значительного не происходит, все обычно и ритуализированно: жена, чифирь, трава, Кирилл Козырев приходит, приносит какие-то книжки из «Библиотеки восточной литературы»), но и всевозможные землетрясения и катастрофы, о которых говорит советское радио. Проскакивают в том числе и какие-то бессмысленные политические новости, официальные визиты, кто-то куда-то приехал. А еще знакомые говорят, что выходят какие-то книжки, под конец, в 1986-м, выходит даже Хлебников, знаменитый огромный черный том, первое его издание с 1930-х годов.
У меня было такое ощущение, что Леон Богданов сидит, ждет, ждет Хлебникова, и вот Хлебников выходит, и Богданов — не знаю, успел он его увидеть или нет, — умирает. Это было до интернета, но я не вижу, чтобы что-то с тех пор изменилось, если говорить о своем художественно отрефлексированном месте в локдаунном времени и пространстве.
Здесь важна и этическая позиция. Позиция Богданова не лукавая, он мужественно смотрит в глаза этой жизни и знает, что другой не будет. Это не эскапизм, который был у части ленинградских поэтов, думавших о том, как схлынет советское наваждение и вернется все «настоящее», ушедшее в 1917 году, с «настоящими» Блоком, Белым, Мандельштамом и Гумилевым. Это эскапизм, в этом есть трусость.
А Богданов жил и знал, что это устроено так и не то что в этой жизни нужно, как премудрому пескарю, устроиться, чтобы тебя не трогали, нет. Он просто по умолчанию считает то место, где он находится, и тот образ жизни, который ведет, единственной возможной точкой существования и наблюдения — а для него это одно и то же. Это очень мужественная и практически безупречная позиция.
В нашем же локдауне есть некоторое лукавство: что бы о нем ни писали, все равно мы хотим, чтобы вернулось, как было. Даже если мы пишем, что мир уже никогда не будет прежним, мы все равно верим в противоположное.
ИО: У Томаса Диша есть рассказ 1962 года The Squirrel Cage. В нем главный герой заперт в комнате неизвестно кем, как, когда, но главное, зачем. Возможно, за ним наблюдают (и любитель простых метафор скажет, что это Бог), но это беспокоит его в меньшей степени. К нему ежедневно поступает свежий «Нью-Йорк Таймс», а его единственное средство коммуникации с внешним миром — печатная машинка. Он выстукивает на ней стихи, истории и признания, но никакой реакции на это нет, он и сам не видит то, что печатает. Развитие этого небольшого рассказа — в движении от беспокойства из-за кафкианскости ситуации и отчаяния от тщетности действий к ужасу от гипотетической перспективы выйти наконец из комнаты. Вы видите какую-то переломную точку, пройдя которую проще будет оставить все как есть?
КК: Очень заманчиво было бы представить себе мир, дошедший до точки, когда он уже просто не захочет выходить из локдауна. Может быть, не из-за того даже, что мир привыкнет к гибернации и ему понравится, а оттого, что он просто окажется в состоянии немочи, локдаун высосет силы из этого мира настолько, что миру станет все равно и окажется проще длить то, что есть, чем совершить усилие и вернуться в так называемую нормальную жизнь.
ИО: Вы имеете в виду экономические или психические процессы?
КК: И то и другое. В этой ситуации нельзя отделить экономическое от психологического. Современная экономика — это экономика психопатов, современные финансовые рынки — это область деятельности кокаиновых психопатов, поэтому я не стал бы отделять экономическое от психологического и даже психического.
Сама жизнь, ткань жизни, сфера жизни может исчерпаться, подъесть себя. Мы сейчас не говорим обо во всем мире, разумеется. Мы же обсуждаем проблемы так называемого белого человека, то, что как бы нас как бы волнует, а большая часть населения Индии, Бразилии или Китая нас просто не поймет. Но, увы, мы обречены говорить только о себе, поэтому говорим так, как мы говорим. И с этой, с нашей, точки зрения было бы заманчиво представить себе изможденный мир, про который Марк Фишер сказал бы, что это тот самый исчерпавший себя, всем и себе надоевший мир позднего капитализма и позднего неолиберализма.
Но как бы ни было увлекательно представлять себе мир, который локдаун психологически вычерпает настолько, что он не захочет возвращаться назад, я думаю, такого не случится. Ведь если сейчас наступит третья, четвертая, пятая волна эпидемии и опять начнут все закрывать, то люди с каждым разом будут все меньше на это реагировать и все больше впадать в истерику или апатию (а скорее всего, в истерику и в апатию одновременно). Именно такое состояние апатичной истерики, или истерической апатии, я и назвал бы пограничным, после которого этому миру может показаться, что лучше остаться в локдауне.
Более того, есть сферы, где ситуация уже никогда не сможет вернуться к состоянию «до», например образование. Тупые, энергичные и циничные менеджеры высшего образования и до этого хотели, чтобы все вели лекции и семинары в Зуме, а им можно было бы меньше тратиться на строительство, аренду и ремонт школ и университетов, а теперь зум- и ютуб-просвещение уже стали мейнстримом. Это не значит, что все занятия перейдут в онлайн, но шаг за шагом все будет переноситься туда.
Что касается литературы, то есть немалое количество литераторов, которые, оказавшись в ситуации эпидемии и изоляции, сказали себе: «Я писатель, я пишу о том, что происходит. Раз уж я здесь оказался, я должен это описывать в традиции, например, путевых очерков, когда пишут о том месте, где оказался». Более рефлексирующие говорят себе: «Раз я оказался в карантине и изоляции, где по-другому течет время, то и письмо мое должно измениться», и начинают изменять письмо.
Иногда, когда человек очень тонко проживает время, в котором живет, оно меняется само. Пятигорский, например, говорил о том, что бывает время, когда нужно замереть и пропускать смыслы через себя. Пространство локдауна и изоляции состоит на сто процентов из времени, но способность не просто замереть, а пропускать при этом сквозь себя смыслы мало кому доступна.
Если же не брать этот верхний слой, есть разные стратегии отклика на эту ситуацию. Интересны бывают даже не столько тексты, сколько сам вопрос о том, что необходимо откликнуться на ситуацию, вопрос внутренней необходимости писателя. Не стоит ли историзировать эту необходимость откликаться? Было ли так всегда и везде? Я в этом сомневаюсь.
Если вернуться к «Носорогу», то Ильянен точно так же писал и до локдауна и так же будет писать после, но вдруг в этой точке происходящее с миром совпадает с тем, как пишет этот давно уже сочиняющий прозу писатель. Александра Петрова из Рима, Вечного города, пишет о времени, которое как бы застыло, и получается комбинация вечности и Вечного города. Но вдруг вечность — это не застывший полуразрушенный храм, не неподвижная руина времени, а бесконечное и бессмысленное копошение мелких феноменов? В Риме, как пишет Петрова, в сторону Аппиевой дороги, что-то когда-то оградили, потом открыли, потом это открытое куда-то подвинули, кого-то из-за этого выселили — мысль о суете сует и тщете всего человеческого банальна, но из этого текста она встает.
Текст Гертруды Стайн — один из самых трудночитаемых, нужно по несколько раз произносить вслух каждую фразу, чтобы понять, что в ней происходит, но это в чистом виде кубизм. Ведь именно кубизм, когда он появился, предлагал попытку увидеть вещь с нескольких ракурсов одновременно, ее геометрическое строение и внутреннюю структуру. Это умение увидеть вещь снаружи и изнутри и сделать из описания вещи еще одну вещь, может быть, еще более вещную, чем та, которая описывается, — это то, что великие модернисты умели, а нам уже не под силу. С локдауном эту прозу роднит то, что это тоже досужее описание, только Гертруде Стайн не нужно было никакого карантина, чтобы таким образом думать и писать.
ИО: Но карантинный хроникер сидит в комнате один и настолько долго, что одиночество в какой-то момент может заставить его усомниться в собственном существовании, поэтому в письмо может быть заложена и связанная с ним терапевтическая функция. Что для него важнее: звук собственного голоса или поиски встречного взгляда, попытки увидеть себя со стороны, во всех подробностях?
КК: Есть огромное искушение сказать какую-нибудь пошлость вроде «Изоляция — это время, когда ты встречаешься сам с собой», но правда в том, что никакого «сам» не существует, некому и не с кем встречаться, что локдаун просто переформатировал пучки наших реакций на мир, вот и все. Мы остаемся наедине с хаосом наших реакций, вопрос лишь в том, насколько упруга подушечка этой сферы и вернется ли она в свою прежнюю форму, когда (и если) это давление исчезнет.
Ответ на этот вопрос позволяет сказать что-то о нашем внутреннем устройстве, что имеет прямое отношение к писательству. Важно то, из какой точки пишется локдаунная проза: из точки трансформируемой сферы разного рода реакций на раздражения, удобства и неудобства, или точка, из которой говорится, является, оставаясь внутренней, одновременно и точкой снаружи, наблюдающей за говорящим. Этот трюк известен в философии, собственно, философом и называют того человека, который рефлексирует по поводу того, как он думает.
Помимо текстов из «Носорога» я прочитал немало локдаунной прозы, в том числе текст Александра Чанцева, который несколько месяцев назад решил поехать в Марокко. Текст этот состоит из нумерованных частей, он выхватывает мелочи, не всегда точно, а иногда и лениво подобранные, но эта неряшливость, это отсутствие отбора и кажутся мне отличительной чертой апатии локдауна.
Следующий вопрос был бы «Почему?», и тут нужно сказать об интернете. Ведь, когда изоляция только начиналась, многие говорили: «Вот наступил момент ясности. Сейчас мы увидим, как все устроено». И в какой-то момент те, кто этого хотели, действительно увидели, что как устроено, как локдаун обнажил пропасть между бедными и богатыми, что кому можно и что кому нельзя. Но после большой ясности наступила пора неопрятности мышления.
ИО: Но у этой локдаунной хроники есть и еще одна задача, сознательная или нет: сохранить личный опыт в его настоящести и непосредственности и собрать материал для коммеморации, сделать посильный вклад в архив для будущей Erinnerungskultur, культуры памяти. Не искажает ли такая прагматическая перспектива непосредственность описания?
КК: Потребность писателя рефлексировать о своих переживаниях, фиксировать то, что с ними происходит, для поучения и просто сохранения существовала всегда. Другое дело, что сейчас реакция ожидается быстрее, чем раньше, и в таким образом проживаемом времени очень сложно сказать, что будет потом. Литераторы сейчас часто действительно пишут в будущую память. Многие из относительно не старых еще людей живут с памятью о том, как открывались пласты истории, как всплывали ГУЛаг и блокада и свидетельства о них. Я и сам такой человек, мне тогда было чуть больше двадцати.
И на фоне подобного ужаса эти преувеличения и романтизация локдаунной катастрофы и страданий кажутся смешными: «Ах, боже мой, я целый год не сидел в кафе за столиком!» И сейчас, когда стало уже чуть-чуть можно сидеть за столиком, это все забывается. Самая большая ошибка такого рода мышления — убежденность в том, что «сейчас» будет так же, как это произошло «тогда», что, дескать, в блокаду Лидия Яковлевна Гинзбург писала «Записки блокадного человека», чтобы потом, через много лет люди их читали и помнили. Это все неправда. Гинзбург, в отличие от других, писала не для будущего, а чтобы разобраться с собой в той точке, когда и где это происходило. И это — подлинное мужество, как потом, в другой, более мирной ситуации у Леона Богданова.
Сегодня же всем все равно, потому что произошла маркетизация и монетизация такого слова, как «память». Оно стало поручнем, за который люди хватаются, когда их автобус трясет: «Потом наши потомки будут читать о страшных испытаниях, выпавших на нашу долю». Я не говорю сейчас о тех, кто действительно тяжело переболел. Человек, который выкашливает легкие, вряд ли будет писать об этом мемуары для будущего. И этим наша ситуация отличается от ГУЛага или блокады: тогда люди писали о том, как они, метафорически говоря, выкашливают легкие или из них их «выкашливают» нацисты или энкавэдэшники.
Последние годы я стал пристально смотреть на особенную разновидность текстов-свидетельств людей, умирающих от неизлечимой болезни, чаще всего от рака, и меня всегда интересовал вопрос, зачем они это описывают. Это очень сильный поступок, ведь, когда ты умираешь, тебе не до словесности. Зачем? Это тщеславие? Желание хлопнуть дверью? Еще что-то? Но сейчас ситуация другая: я не видел ни одного текста человека, тяжело переболевшего коронавирусом.
ИО: Попробуем поставить себя на место человека будущего. Начать оценивать успех таких «писем в бутылке» можно уже сейчас, когда, по крайней мере в России, снова все стало более-менее можно. Что вы чувствуете, когда как человек будущего читаете записи годичной давности, свои и чужие? У вас получается с их помощью развести этот концентрат памяти и вернуться в разгар карантина и изоляции? Или они уже кажутся устаревшими? Или раздражают напоминанием о тяготах?
КК: Ну, для меня-то как раз локдаун прошел не очень тяжело. Я хорошо помню, когда начал от него уставать: очень поздно, только в начале января 2021-го. До того за делами я его чаще всего просто не замечал. Что касается опубликованных текстов, я стараюсь свои не перечитывать, и мне безразлично, в локдауне они написаны или нет. Я могу о них забыть, и случается, что я натыкаюсь на какой-то текст, начинаю его читать и вдруг понимаю: вау, так это я его написал.
С дневниками по-другому. Когда ведешь дневник для себя, можно много лет спустя поражаться юношеской наивности или возмутиться какой-то глупостью, но ты никогда не сомневаешься во внутренней подлинности. Да, оно действительно было именно так. И это ты сам, пусть из прошлых операционных систем.
Про локдаун мне сказать сложно, потому что я не читал личных ковид-дневников. Локдаунные записи Ильянена — это записи все того же Ильянена, это человек, который в кузминской традиции мышления и прозы видит эти молекулы жизни, хаотичные комбинации интересных и неинтересных вещей. Повторюсь: когда я читал Ильянена, я поразился тому, насколько он остался неизменен. Здесь вспоминается Кафка, который в своей прозе и в своем дневнике как бы не замечает Первую мировую войну.
Здесь же можно вспомнить и самого Кузмина, и текст Шкловского, который описывает петроградскую литературную среду 1922-го, кажется, года. Казалось бы, Кузмин — прихотливый эстет, он должен был первым сломаться в таких страшных условиях, в первые же дни Гражданской войны сойти с ума и умереть от отсутствия шабли, а он, по словам «железного дровосека» Шкловского, оказался железным, он пережил Блока и просуществовал, голодая и нищенствуя, до самой своей смерти в 1936 году.
В 1930-е годы о нужном и важном пишут Фадеев и Булгаков, а, например, Вагинов — это десерт, но где сейчас эта обязательность Фадеева и Булгакова? На ренессансных гравюрах часто изображались алхимики и астрономы, которые заглядывают за занавес небесного свода и наблюдают звезды. Фадеев с Булгаковым, по-разному конечно, описывают этот занавес, а Добычин, Вагинов или сейчас Ильянен — они про то, что можно подглядеть, если эту пропыленную ткань слегка приподнять или отодвинуть. Это, казалось бы, совершенно не обязательные вещи, которые и оказываются на самом деле обязательными. К сожалению, в большинстве того, что я читал во время локдауна, я вижу как раз натужное желание сказать обязательные вещи о происходящем, и они мне неинтересны.
ИО: В галерее Марины Гисич недавно была выставка Кирилла Челушкина: серия работ о тупиковых ветвях научно-технического прогресса, которые, несмотря на свою практическую бесполезность и ограниченность во времени, оказались плодотворны с точки зрения мифотворчества, причем мифотворчества героического, коль скоро они были связаны с испытанием пределов человеческих возможностей. Там были дирижабли, там был Вильгельм Райх со своим оргонным аккумулятором, и там, среди прочего, была картина «Человек, который серьезно рисковал здоровьем» (2020). Вы видите, как складывается ковидная мифология? Есть что-то в описании последних полутора лет, что вы предпочли бы видеть скорее мифологизированным, чем достоверным, соответствующим действительности?
КК: Я не знаю, что такое действительность, но в ситуации пандемии меня поразил Зум. Это одно из самых ужасных изобретений человечества, но вместе с тем это и религиозное переживание, потому что сотни миллионов людей ежедневно садятся и смотрят на иконостас, в котором большинство иконок черные, а остальные не святые, а какие-то люди. Это напоминает мессу, и люди с помощью этого ритуала вовлекаются во Всемирную Церковь Зума.
Еще одна вещь, которая меня поразила, — то, что, с одной стороны, мы замурованы в стенах своей крепости-дома, но вместе с тем благодаря Зуму и прочим таким штукам мы побывали дома у миллионов людей. Все эти месяцы мы прилежно изучали на экранах, как организована домашняя жизнь других, как выглядят квартиры, какие вещи валяются, какие книжки стоят на полках, что творится на кухне, детей, домашних животных. Мне кажется, такого сокрушительного нарушения приватности человечество еще не знало. Я всегда старался этого избегать, но раз-два в неделю Зум в моей жизни присутствует.
Но сейчас я говорю и о целой индустрии домашних концертов. Я побывал дома у Роберта Фриппа. Мне всегда казалось, что у него дома все должно быть устроено так же, как и в его музыке: фриппертроника, сеточки, паранойя, — а выяснилось, что у него обычный английский буржуазный дом и кухня с резными шкафчиками, а он сам добродушный дядька, который с женой Тойей разыгрывает домашние представления. Я, конечно, был этим разочарован.
Другой пример — Софи Эллис-Бекстор, которая решила снимать и выкладывать на Ютубе kitchen disco: петь караоке свои и чужие песни и плясать на своей кухне в окружении детей разного возраста. Получилось мощно, надо сказать, в каком-то смысле к ней даже вернулась часть былой славы. Мне тоже интересно было посмотреть, как живет Софи-Эллис Бекстор.
Раньше такого не было. Ты оказываешься внутри домов самых разнообразных людей, до сих пор живших за закрытыми дверями. Это важно, потому что все это происходит в обществе, озабоченном ситуацией с приватностью, и мне очень интересно, что будет с этой внезапной распахнутостью после локдауна.
ИО: Но приватность зум-вечеринок не отменяет и контролируемый эксгибиционизм. Де Местр тоже этим занимается. Он описывает комнату, но всегда остается «я», он до конца в ней не растворяется, и его самосозерцание в какой-то момент переходит в самолюбование, комната становится музеем его самого, а рассказ о ней превращается в экскурсию по экспонатам.
КК: Это правда, к тому же написано это было тогда, когда на основе частных коллекций и кабинетов диковин начинали создаваться современные музеи. Если Барт был бы сейчас жив, он непременно написал бы эссе о том, что Ксавье де Местр настолько же махровый реакционер, как и его брат Жозеф, что открытию музеев он противопоставляет закрытие своей комнаты, где он в одиночку любуется своими ценностями.
Самодовольство определенно присутствует, и оно нарастает. Это тщеславие особенно проявляется во время зум-вечеринок. Раньше существовал такой жанр — пьяный разговор по телефону. В этом жанре было много черт отрицательных, но была и положительная: это был разговор человека, пусть и с измененным сознанием, с другим человеком. Или же были вечеринки, где можно было скользить по комнатам со стаканом в руке и перебрасываться фразами с разными людьми, обращаясь к каждому конкретному. Существовал даже типаж: человек на кухне, который либо стесняется, либо непопулярен. Но и это был индивидуальный выбор. Ты приходишь на вечеринку и ни с кем не общаешься, просто стоишь.
В Зуме же происходит разговор со всеми и вместе с тем ни с кем конкретно, подобно соцсетям, где все и постят, чтобы быть прокомментированными, и комментируют чужие посты. Получается похоже на театр, где все одновременно являются и актерами, и зрителями, а на самом деле, скорее всего, никто ни на кого не смотрит, а многие просто включают в Зуме себя на большой экран и изучают собственную физиономию во всех деталях.
вас может заинтересовать
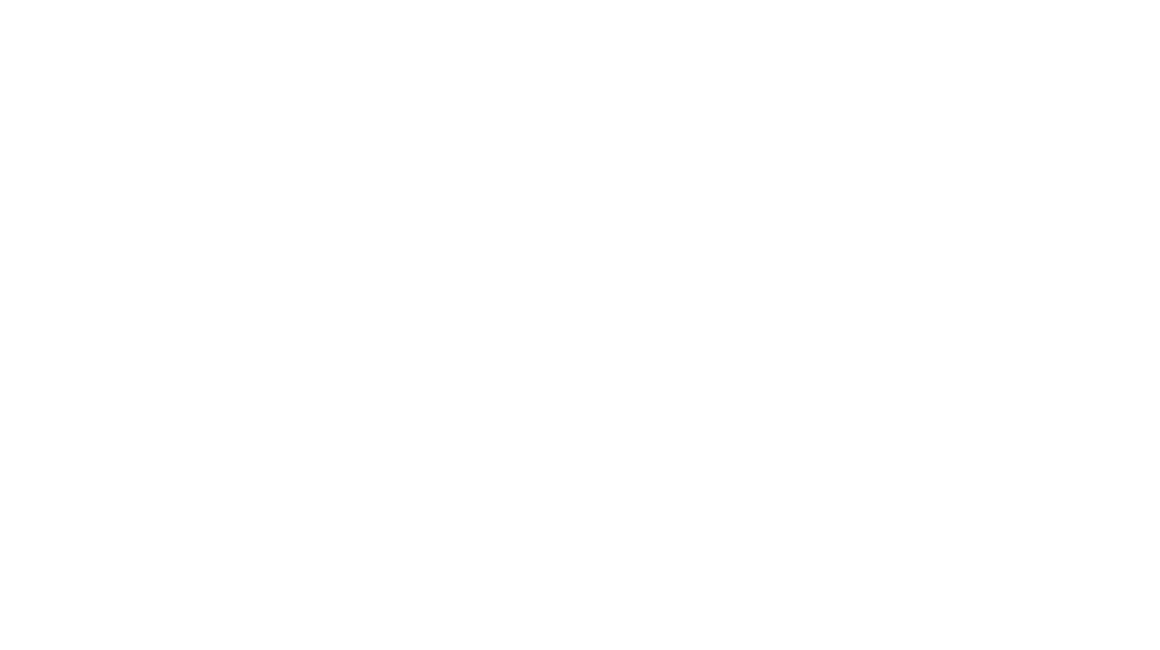
Хаос реакций
Публикуем беседу Ивана Оносова с писателем, историком и журналистом Кириллом Кобриным о том, как изменились представления о времени и письме после пандемии, о текстах «изоляционного» номера «Носорога» и наблюдениях над психическими и экономическими процессами пандемии.
Иван Оносов: Отправной точкой для многих текстов, написанных в последний год, является попытка зафиксировать ощущение другого времени: остановившегося, подвешенного, своего рода скобок. С одной стороны, оно воспринимается как тайм-аут, возможность сделать то, на что раньше времени не хватало, с другой — давит больший вес этих небесконечных мгновений вне основного времени, а с третьей — то вблизи, то вдали маячит вера в возобновление того, что прервалось. Как, по вашим наблюдениям, эти три ощущения уживаются друг с другом?
Кирилл Кобрин: Попытки зафиксировать это новое восприятие времени, действительно, предпринимаются, и немало, но я не думаю, что печатный текст может с такой задачей справиться. Своими описаниями и цитатами литераторы пытаются уцепиться за то, что вокруг, мол, происходит некоторая жизнь. С другой стороны, есть и ощущение «сейчас пауза, мы досчитаем до десяти (ста, тысячи), домашний арест закончится, исчерпает себя литературный прием, которым мы пользуемся, чтобы его описать, и тут-то опять все и начнется».
Но мое ощущение времени в локдауне совершенно другое. Перед эпидемией я очень много путешествовал и сейчас чувствую, что уже в 2017–2019 году я выпал из своего обычного пространства людей, которые меня окружали физически и виртуально: писателей, музыкантов, не обязательно живых. И к 2021-му я о многих важных для себя вещах и людях просто забыл.
Например, из этого номера «Носорога», от Ильянена, я узнал о смерти Гийота. Гийота не то чтобы сыграл большую роль в моей жизни, но одно время он в ней сильно присутствовал. Когда я жил в Праге, я постоянно общался с Дмитрием Волчеком, который тогда много издавал Гийота, и я прочитал несколько его книг. Они, конечно, не перевернули мою жизнь, но Гийота в ней определенно присутствовал — страстный, яростный писатель, которого упрекали, с одной стороны, в садизме и жестокости, с другой — говорили, что это скучно и монотонно написано. Это не так, это блестящий писатель, который ничего не боится, писатель, полный холодной ярости, выдаваемой за горячую.
Но он мог писать и по-другому. Уже под конец моего пребывания в Праге Волчек выпустил его автобиографию, и она написана совершенно иначе, как будто другим человеком. По ней понятно, какая внутренняя работа требовалась от Гийота, чтобы писать так, как он писал свои романы. Забавно, я даже однажды его видел. В начале 2000-х чуть ли не в первый раз приехал в Париж, шел по рю Дантон, о чем-то разговаривал с приятелем, и вдруг смотрю: напротив меня стоит Гийота, а он довольно узнаваемый.
Так вот, если бы не было бесконечных разъездов до локдауна и самого локдауна, я бы, конечно, как-то узнал о его смерти, но все это вместе изменило жизнь настолько, что я узнал о смерти Гийота не из новостей, а из фрагмента романа Ильянена, опубликованного в «Носороге». Я рассказываю это к тому, что мое представление о времени из-за локдауна, конечно, изменилось. Оно связано и с темпераментом, и со страной, в которой меня локдаун застал. Я живу в Риге в центре города, но ощущение, очень местное, что я на хуторе.
ИО: Это тоже важный вопрос: с чем эти события сопоставить? Они, безусловно, значительные, подобных им на нашем веку не было, поэтому в оборотах вроде «великая пандемия» не так много иронии. Но как раз из-за новизны этой ситуации ее сложно воспринять непосредственно, и поэтому она часто осмысляется в отношениях и контрастах с другими явлениями: испанкой, пеллагрой, затворничеством Ханны Хох в гитлеровской Германии, написанием диссертации, домашним арестом. Где границы такого параллелизма, исторического и, что более интересно, автобиографического?
КК: Мышление историческими аналогиями — это очень дурное мышление, не так ли? Никаких параллелей нет, потому что во времена испанки люди жили в другом времени и другое время было у них в голове. С самого начала пандемии культурные люди проводили аналогии и с пушкинским «Пиром во время чумы», и с «Декамероном», но все это мимо. Во-первых, чума длилась долго, а люди жили коротко, но вместе с тем и медленно. Мне сложно представить это сочетание очень короткой с нашей точки зрения жизни с медленным ее проживанием, поэтому мне не понять, каким образом в сознании людей происходило такое протяженное событие, как многолетняя эпидемия чумы.
Шкловский сказал бы: «Эпидемия чумы — это прием, который позволяет рассказчику рассказывать свои истории». Это так, но, чтобы воспринять происходящее сейчас как прием, нужно обладать определенной, а именно модернистской, дисциплиной мышления, на которую сейчас мало кто способен. И, если говорить о том же Пушкине, странно: мало кто вспомнил о Болдинской осени, когда эпидемия холеры заставила сидеть его в бедном Болдино и от скуки писать. Здесь довольно любопытное пересечение и с темой «Носорога», и с Ксавье де Местром: вся эта «Болдинская осень» написана от нечего делать, эти тексты — результат изобилия кажущегося свободным времени, которое нужно убить.
Еще одна важная лично для меня литературная аналогия — это «Волшебная гора» Томаса Манна. Конечно, всем бы нам хотелось сидеть в изоляции с таким комфортом, как у Ганса Касторпа, с прекрасной изобильной едой, хорошим вином, неспешными разговорами, книгами и изумительными видами с балкона. Но темы «Волшебной горы» не столь уж рекреационные, скажем тема времени как болезни и болезни как времени. «Волшебная гора» очень долго разгоняется, а затем быстро оказывается в другой точке, в нем самом — странное время, он сам, так сказать, это странное время.
Именно это ощущение оказалось мне гораздо ближе во время локдауна. Я очень многое за это время успел, в том числе и в собственной жизни. Эта комбинация лихорадочной активности и не то чтобы праздности, но тихой протяженности локализована для меня в районе Кливерсала, где я обитаю. Он расположен напротив Старого города, рядом с бухтой, где стояли всю зиму никому не нужные яхты, а по ту сторону от трассы идут пустые парки.
Еще одна параллель — Кафка. Ощущения внутри локдауна — это в каком-то смысле ощущения землемера, который пытается попасть в Замок: нам все время кажется, что мы вот-вот выйдем из него, мы приближаемся к концу, вот уже и вакцина, казалось бы, но ничего не происходит.
ИО: Но почему именно письмо, хроникерство? Все оказавшиеся в таких обстоятельствах нередко переходят, сознательно или нет, в другой режим, появляются и соблюдаются ритуалы, призванные сохранить тот, доссылочный, докарантинный облик. Какое место среди них занимает запись малопримечательных в других обстоятельствах событий и какие есть другие ритуалы?
КК: И без всякого локдауна был Леон Богданов, который является отцом и непревзойденным образцом локдаунной прозы. Много ли есть писателей, добровольно взваливших на себя такую жизнь за сорок лет до ковида? А Леон Богданов — образец локдауна как типа сознания. Он сидит и фиксирует не только происходящее вокруг (ведь вокруг него ничего значительного не происходит, все обычно и ритуализированно: жена, чифирь, трава, Кирилл Козырев приходит, приносит какие-то книжки из «Библиотеки восточной литературы»), но и всевозможные землетрясения и катастрофы, о которых говорит советское радио. Проскакивают в том числе и какие-то бессмысленные политические новости, официальные визиты, кто-то куда-то приехал. А еще знакомые говорят, что выходят какие-то книжки, под конец, в 1986-м, выходит даже Хлебников, знаменитый огромный черный том, первое его издание с 1930-х годов.
У меня было такое ощущение, что Леон Богданов сидит, ждет, ждет Хлебникова, и вот Хлебников выходит, и Богданов — не знаю, успел он его увидеть или нет, — умирает. Это было до интернета, но я не вижу, чтобы что-то с тех пор изменилось, если говорить о своем художественно отрефлексированном месте в локдаунном времени и пространстве.
Здесь важна и этическая позиция. Позиция Богданова не лукавая, он мужественно смотрит в глаза этой жизни и знает, что другой не будет. Это не эскапизм, который был у части ленинградских поэтов, думавших о том, как схлынет советское наваждение и вернется все «настоящее», ушедшее в 1917 году, с «настоящими» Блоком, Белым, Мандельштамом и Гумилевым. Это эскапизм, в этом есть трусость.
А Богданов жил и знал, что это устроено так и не то что в этой жизни нужно, как премудрому пескарю, устроиться, чтобы тебя не трогали, нет. Он просто по умолчанию считает то место, где он находится, и тот образ жизни, который ведет, единственной возможной точкой существования и наблюдения — а для него это одно и то же. Это очень мужественная и практически безупречная позиция.
В нашем же локдауне есть некоторое лукавство: что бы о нем ни писали, все равно мы хотим, чтобы вернулось, как было. Даже если мы пишем, что мир уже никогда не будет прежним, мы все равно верим в противоположное.
ИО: У Томаса Диша есть рассказ 1962 года The Squirrel Cage. В нем главный герой заперт в комнате неизвестно кем, как, когда, но главное, зачем. Возможно, за ним наблюдают (и любитель простых метафор скажет, что это Бог), но это беспокоит его в меньшей степени. К нему ежедневно поступает свежий «Нью-Йорк Таймс», а его единственное средство коммуникации с внешним миром — печатная машинка. Он выстукивает на ней стихи, истории и признания, но никакой реакции на это нет, он и сам не видит то, что печатает. Развитие этого небольшого рассказа — в движении от беспокойства из-за кафкианскости ситуации и отчаяния от тщетности действий к ужасу от гипотетической перспективы выйти наконец из комнаты. Вы видите какую-то переломную точку, пройдя которую проще будет оставить все как есть?
КК: Очень заманчиво было бы представить себе мир, дошедший до точки, когда он уже просто не захочет выходить из локдауна. Может быть, не из-за того даже, что мир привыкнет к гибернации и ему понравится, а оттого, что он просто окажется в состоянии немочи, локдаун высосет силы из этого мира настолько, что миру станет все равно и окажется проще длить то, что есть, чем совершить усилие и вернуться в так называемую нормальную жизнь.
ИО: Вы имеете в виду экономические или психические процессы?
КК: И то и другое. В этой ситуации нельзя отделить экономическое от психологического. Современная экономика — это экономика психопатов, современные финансовые рынки — это область деятельности кокаиновых психопатов, поэтому я не стал бы отделять экономическое от психологического и даже психического.
Сама жизнь, ткань жизни, сфера жизни может исчерпаться, подъесть себя. Мы сейчас не говорим обо во всем мире, разумеется. Мы же обсуждаем проблемы так называемого белого человека, то, что как бы нас как бы волнует, а большая часть населения Индии, Бразилии или Китая нас просто не поймет. Но, увы, мы обречены говорить только о себе, поэтому говорим так, как мы говорим. И с этой, с нашей, точки зрения было бы заманчиво представить себе изможденный мир, про который Марк Фишер сказал бы, что это тот самый исчерпавший себя, всем и себе надоевший мир позднего капитализма и позднего неолиберализма.
Но как бы ни было увлекательно представлять себе мир, который локдаун психологически вычерпает настолько, что он не захочет возвращаться назад, я думаю, такого не случится. Ведь если сейчас наступит третья, четвертая, пятая волна эпидемии и опять начнут все закрывать, то люди с каждым разом будут все меньше на это реагировать и все больше впадать в истерику или апатию (а скорее всего, в истерику и в апатию одновременно). Именно такое состояние апатичной истерики, или истерической апатии, я и назвал бы пограничным, после которого этому миру может показаться, что лучше остаться в локдауне.
Более того, есть сферы, где ситуация уже никогда не сможет вернуться к состоянию «до», например образование. Тупые, энергичные и циничные менеджеры высшего образования и до этого хотели, чтобы все вели лекции и семинары в Зуме, а им можно было бы меньше тратиться на строительство, аренду и ремонт школ и университетов, а теперь зум- и ютуб-просвещение уже стали мейнстримом. Это не значит, что все занятия перейдут в онлайн, но шаг за шагом все будет переноситься туда.
Что касается литературы, то есть немалое количество литераторов, которые, оказавшись в ситуации эпидемии и изоляции, сказали себе: «Я писатель, я пишу о том, что происходит. Раз уж я здесь оказался, я должен это описывать в традиции, например, путевых очерков, когда пишут о том месте, где оказался». Более рефлексирующие говорят себе: «Раз я оказался в карантине и изоляции, где по-другому течет время, то и письмо мое должно измениться», и начинают изменять письмо.
Иногда, когда человек очень тонко проживает время, в котором живет, оно меняется само. Пятигорский, например, говорил о том, что бывает время, когда нужно замереть и пропускать смыслы через себя. Пространство локдауна и изоляции состоит на сто процентов из времени, но способность не просто замереть, а пропускать при этом сквозь себя смыслы мало кому доступна.
Если же не брать этот верхний слой, есть разные стратегии отклика на эту ситуацию. Интересны бывают даже не столько тексты, сколько сам вопрос о том, что необходимо откликнуться на ситуацию, вопрос внутренней необходимости писателя. Не стоит ли историзировать эту необходимость откликаться? Было ли так всегда и везде? Я в этом сомневаюсь.
Если вернуться к «Носорогу», то Ильянен точно так же писал и до локдауна и так же будет писать после, но вдруг в этой точке происходящее с миром совпадает с тем, как пишет этот давно уже сочиняющий прозу писатель. Александра Петрова из Рима, Вечного города, пишет о времени, которое как бы застыло, и получается комбинация вечности и Вечного города. Но вдруг вечность — это не застывший полуразрушенный храм, не неподвижная руина времени, а бесконечное и бессмысленное копошение мелких феноменов? В Риме, как пишет Петрова, в сторону Аппиевой дороги, что-то когда-то оградили, потом открыли, потом это открытое куда-то подвинули, кого-то из-за этого выселили — мысль о суете сует и тщете всего человеческого банальна, но из этого текста она встает.
Текст Гертруды Стайн — один из самых трудночитаемых, нужно по несколько раз произносить вслух каждую фразу, чтобы понять, что в ней происходит, но это в чистом виде кубизм. Ведь именно кубизм, когда он появился, предлагал попытку увидеть вещь с нескольких ракурсов одновременно, ее геометрическое строение и внутреннюю структуру. Это умение увидеть вещь снаружи и изнутри и сделать из описания вещи еще одну вещь, может быть, еще более вещную, чем та, которая описывается, — это то, что великие модернисты умели, а нам уже не под силу. С локдауном эту прозу роднит то, что это тоже досужее описание, только Гертруде Стайн не нужно было никакого карантина, чтобы таким образом думать и писать.
ИО: Но карантинный хроникер сидит в комнате один и настолько долго, что одиночество в какой-то момент может заставить его усомниться в собственном существовании, поэтому в письмо может быть заложена и связанная с ним терапевтическая функция. Что для него важнее: звук собственного голоса или поиски встречного взгляда, попытки увидеть себя со стороны, во всех подробностях?
КК: Есть огромное искушение сказать какую-нибудь пошлость вроде «Изоляция — это время, когда ты встречаешься сам с собой», но правда в том, что никакого «сам» не существует, некому и не с кем встречаться, что локдаун просто переформатировал пучки наших реакций на мир, вот и все. Мы остаемся наедине с хаосом наших реакций, вопрос лишь в том, насколько упруга подушечка этой сферы и вернется ли она в свою прежнюю форму, когда (и если) это давление исчезнет.
Ответ на этот вопрос позволяет сказать что-то о нашем внутреннем устройстве, что имеет прямое отношение к писательству. Важно то, из какой точки пишется локдаунная проза: из точки трансформируемой сферы разного рода реакций на раздражения, удобства и неудобства, или точка, из которой говорится, является, оставаясь внутренней, одновременно и точкой снаружи, наблюдающей за говорящим. Этот трюк известен в философии, собственно, философом и называют того человека, который рефлексирует по поводу того, как он думает.
Помимо текстов из «Носорога» я прочитал немало локдаунной прозы, в том числе текст Александра Чанцева, который несколько месяцев назад решил поехать в Марокко. Текст этот состоит из нумерованных частей, он выхватывает мелочи, не всегда точно, а иногда и лениво подобранные, но эта неряшливость, это отсутствие отбора и кажутся мне отличительной чертой апатии локдауна.
Следующий вопрос был бы «Почему?», и тут нужно сказать об интернете. Ведь, когда изоляция только начиналась, многие говорили: «Вот наступил момент ясности. Сейчас мы увидим, как все устроено». И в какой-то момент те, кто этого хотели, действительно увидели, что как устроено, как локдаун обнажил пропасть между бедными и богатыми, что кому можно и что кому нельзя. Но после большой ясности наступила пора неопрятности мышления.
ИО: Но у этой локдаунной хроники есть и еще одна задача, сознательная или нет: сохранить личный опыт в его настоящести и непосредственности и собрать материал для коммеморации, сделать посильный вклад в архив для будущей Erinnerungskultur, культуры памяти. Не искажает ли такая прагматическая перспектива непосредственность описания?
КК: Потребность писателя рефлексировать о своих переживаниях, фиксировать то, что с ними происходит, для поучения и просто сохранения существовала всегда. Другое дело, что сейчас реакция ожидается быстрее, чем раньше, и в таким образом проживаемом времени очень сложно сказать, что будет потом. Литераторы сейчас часто действительно пишут в будущую память. Многие из относительно не старых еще людей живут с памятью о том, как открывались пласты истории, как всплывали ГУЛаг и блокада и свидетельства о них. Я и сам такой человек, мне тогда было чуть больше двадцати.
И на фоне подобного ужаса эти преувеличения и романтизация локдаунной катастрофы и страданий кажутся смешными: «Ах, боже мой, я целый год не сидел в кафе за столиком!» И сейчас, когда стало уже чуть-чуть можно сидеть за столиком, это все забывается. Самая большая ошибка такого рода мышления — убежденность в том, что «сейчас» будет так же, как это произошло «тогда», что, дескать, в блокаду Лидия Яковлевна Гинзбург писала «Записки блокадного человека», чтобы потом, через много лет люди их читали и помнили. Это все неправда. Гинзбург, в отличие от других, писала не для будущего, а чтобы разобраться с собой в той точке, когда и где это происходило. И это — подлинное мужество, как потом, в другой, более мирной ситуации у Леона Богданова.
Сегодня же всем все равно, потому что произошла маркетизация и монетизация такого слова, как «память». Оно стало поручнем, за который люди хватаются, когда их автобус трясет: «Потом наши потомки будут читать о страшных испытаниях, выпавших на нашу долю». Я не говорю сейчас о тех, кто действительно тяжело переболел. Человек, который выкашливает легкие, вряд ли будет писать об этом мемуары для будущего. И этим наша ситуация отличается от ГУЛага или блокады: тогда люди писали о том, как они, метафорически говоря, выкашливают легкие или из них их «выкашливают» нацисты или энкавэдэшники.
Последние годы я стал пристально смотреть на особенную разновидность текстов-свидетельств людей, умирающих от неизлечимой болезни, чаще всего от рака, и меня всегда интересовал вопрос, зачем они это описывают. Это очень сильный поступок, ведь, когда ты умираешь, тебе не до словесности. Зачем? Это тщеславие? Желание хлопнуть дверью? Еще что-то? Но сейчас ситуация другая: я не видел ни одного текста человека, тяжело переболевшего коронавирусом.
ИО: Попробуем поставить себя на место человека будущего. Начать оценивать успех таких «писем в бутылке» можно уже сейчас, когда, по крайней мере в России, снова все стало более-менее можно. Что вы чувствуете, когда как человек будущего читаете записи годичной давности, свои и чужие? У вас получается с их помощью развести этот концентрат памяти и вернуться в разгар карантина и изоляции? Или они уже кажутся устаревшими? Или раздражают напоминанием о тяготах?
КК: Ну, для меня-то как раз локдаун прошел не очень тяжело. Я хорошо помню, когда начал от него уставать: очень поздно, только в начале января 2021-го. До того за делами я его чаще всего просто не замечал. Что касается опубликованных текстов, я стараюсь свои не перечитывать, и мне безразлично, в локдауне они написаны или нет. Я могу о них забыть, и случается, что я натыкаюсь на какой-то текст, начинаю его читать и вдруг понимаю: вау, так это я его написал.
С дневниками по-другому. Когда ведешь дневник для себя, можно много лет спустя поражаться юношеской наивности или возмутиться какой-то глупостью, но ты никогда не сомневаешься во внутренней подлинности. Да, оно действительно было именно так. И это ты сам, пусть из прошлых операционных систем.
Про локдаун мне сказать сложно, потому что я не читал личных ковид-дневников. Локдаунные записи Ильянена — это записи все того же Ильянена, это человек, который в кузминской традиции мышления и прозы видит эти молекулы жизни, хаотичные комбинации интересных и неинтересных вещей. Повторюсь: когда я читал Ильянена, я поразился тому, насколько он остался неизменен. Здесь вспоминается Кафка, который в своей прозе и в своем дневнике как бы не замечает Первую мировую войну.
Здесь же можно вспомнить и самого Кузмина, и текст Шкловского, который описывает петроградскую литературную среду 1922-го, кажется, года. Казалось бы, Кузмин — прихотливый эстет, он должен был первым сломаться в таких страшных условиях, в первые же дни Гражданской войны сойти с ума и умереть от отсутствия шабли, а он, по словам «железного дровосека» Шкловского, оказался железным, он пережил Блока и просуществовал, голодая и нищенствуя, до самой своей смерти в 1936 году.
В 1930-е годы о нужном и важном пишут Фадеев и Булгаков, а, например, Вагинов — это десерт, но где сейчас эта обязательность Фадеева и Булгакова? На ренессансных гравюрах часто изображались алхимики и астрономы, которые заглядывают за занавес небесного свода и наблюдают звезды. Фадеев с Булгаковым, по-разному конечно, описывают этот занавес, а Добычин, Вагинов или сейчас Ильянен — они про то, что можно подглядеть, если эту пропыленную ткань слегка приподнять или отодвинуть. Это, казалось бы, совершенно не обязательные вещи, которые и оказываются на самом деле обязательными. К сожалению, в большинстве того, что я читал во время локдауна, я вижу как раз натужное желание сказать обязательные вещи о происходящем, и они мне неинтересны.
ИО: В галерее Марины Гисич недавно была выставка Кирилла Челушкина: серия работ о тупиковых ветвях научно-технического прогресса, которые, несмотря на свою практическую бесполезность и ограниченность во времени, оказались плодотворны с точки зрения мифотворчества, причем мифотворчества героического, коль скоро они были связаны с испытанием пределов человеческих возможностей. Там были дирижабли, там был Вильгельм Райх со своим оргонным аккумулятором, и там, среди прочего, была картина «Человек, который серьезно рисковал здоровьем» (2020). Вы видите, как складывается ковидная мифология? Есть что-то в описании последних полутора лет, что вы предпочли бы видеть скорее мифологизированным, чем достоверным, соответствующим действительности?
КК: Я не знаю, что такое действительность, но в ситуации пандемии меня поразил Зум. Это одно из самых ужасных изобретений человечества, но вместе с тем это и религиозное переживание, потому что сотни миллионов людей ежедневно садятся и смотрят на иконостас, в котором большинство иконок черные, а остальные не святые, а какие-то люди. Это напоминает мессу, и люди с помощью этого ритуала вовлекаются во Всемирную Церковь Зума.
Еще одна вещь, которая меня поразила, — то, что, с одной стороны, мы замурованы в стенах своей крепости-дома, но вместе с тем благодаря Зуму и прочим таким штукам мы побывали дома у миллионов людей. Все эти месяцы мы прилежно изучали на экранах, как организована домашняя жизнь других, как выглядят квартиры, какие вещи валяются, какие книжки стоят на полках, что творится на кухне, детей, домашних животных. Мне кажется, такого сокрушительного нарушения приватности человечество еще не знало. Я всегда старался этого избегать, но раз-два в неделю Зум в моей жизни присутствует.
Но сейчас я говорю и о целой индустрии домашних концертов. Я побывал дома у Роберта Фриппа. Мне всегда казалось, что у него дома все должно быть устроено так же, как и в его музыке: фриппертроника, сеточки, паранойя, — а выяснилось, что у него обычный английский буржуазный дом и кухня с резными шкафчиками, а он сам добродушный дядька, который с женой Тойей разыгрывает домашние представления. Я, конечно, был этим разочарован.
Другой пример — Софи Эллис-Бекстор, которая решила снимать и выкладывать на Ютубе kitchen disco: петь караоке свои и чужие песни и плясать на своей кухне в окружении детей разного возраста. Получилось мощно, надо сказать, в каком-то смысле к ней даже вернулась часть былой славы. Мне тоже интересно было посмотреть, как живет Софи-Эллис Бекстор.
Раньше такого не было. Ты оказываешься внутри домов самых разнообразных людей, до сих пор живших за закрытыми дверями. Это важно, потому что все это происходит в обществе, озабоченном ситуацией с приватностью, и мне очень интересно, что будет с этой внезапной распахнутостью после локдауна.
ИО: Но приватность зум-вечеринок не отменяет и контролируемый эксгибиционизм. Де Местр тоже этим занимается. Он описывает комнату, но всегда остается «я», он до конца в ней не растворяется, и его самосозерцание в какой-то момент переходит в самолюбование, комната становится музеем его самого, а рассказ о ней превращается в экскурсию по экспонатам.
КК: Это правда, к тому же написано это было тогда, когда на основе частных коллекций и кабинетов диковин начинали создаваться современные музеи. Если Барт был бы сейчас жив, он непременно написал бы эссе о том, что Ксавье де Местр настолько же махровый реакционер, как и его брат Жозеф, что открытию музеев он противопоставляет закрытие своей комнаты, где он в одиночку любуется своими ценностями.
Самодовольство определенно присутствует, и оно нарастает. Это тщеславие особенно проявляется во время зум-вечеринок. Раньше существовал такой жанр — пьяный разговор по телефону. В этом жанре было много черт отрицательных, но была и положительная: это был разговор человека, пусть и с измененным сознанием, с другим человеком. Или же были вечеринки, где можно было скользить по комнатам со стаканом в руке и перебрасываться фразами с разными людьми, обращаясь к каждому конкретному. Существовал даже типаж: человек на кухне, который либо стесняется, либо непопулярен. Но и это был индивидуальный выбор. Ты приходишь на вечеринку и ни с кем не общаешься, просто стоишь.
В Зуме же происходит разговор со всеми и вместе с тем ни с кем конкретно, подобно соцсетям, где все и постят, чтобы быть прокомментированными, и комментируют чужие посты. Получается похоже на театр, где все одновременно являются и актерами, и зрителями, а на самом деле, скорее всего, никто ни на кого не смотрит, а многие просто включают в Зуме себя на большой экран и изучают собственную физиономию во всех деталях.
Кирилл Кобрин: Попытки зафиксировать это новое восприятие времени, действительно, предпринимаются, и немало, но я не думаю, что печатный текст может с такой задачей справиться. Своими описаниями и цитатами литераторы пытаются уцепиться за то, что вокруг, мол, происходит некоторая жизнь. С другой стороны, есть и ощущение «сейчас пауза, мы досчитаем до десяти (ста, тысячи), домашний арест закончится, исчерпает себя литературный прием, которым мы пользуемся, чтобы его описать, и тут-то опять все и начнется».
Но мое ощущение времени в локдауне совершенно другое. Перед эпидемией я очень много путешествовал и сейчас чувствую, что уже в 2017–2019 году я выпал из своего обычного пространства людей, которые меня окружали физически и виртуально: писателей, музыкантов, не обязательно живых. И к 2021-му я о многих важных для себя вещах и людях просто забыл.
Например, из этого номера «Носорога», от Ильянена, я узнал о смерти Гийота. Гийота не то чтобы сыграл большую роль в моей жизни, но одно время он в ней сильно присутствовал. Когда я жил в Праге, я постоянно общался с Дмитрием Волчеком, который тогда много издавал Гийота, и я прочитал несколько его книг. Они, конечно, не перевернули мою жизнь, но Гийота в ней определенно присутствовал — страстный, яростный писатель, которого упрекали, с одной стороны, в садизме и жестокости, с другой — говорили, что это скучно и монотонно написано. Это не так, это блестящий писатель, который ничего не боится, писатель, полный холодной ярости, выдаваемой за горячую.
Но он мог писать и по-другому. Уже под конец моего пребывания в Праге Волчек выпустил его автобиографию, и она написана совершенно иначе, как будто другим человеком. По ней понятно, какая внутренняя работа требовалась от Гийота, чтобы писать так, как он писал свои романы. Забавно, я даже однажды его видел. В начале 2000-х чуть ли не в первый раз приехал в Париж, шел по рю Дантон, о чем-то разговаривал с приятелем, и вдруг смотрю: напротив меня стоит Гийота, а он довольно узнаваемый.
Так вот, если бы не было бесконечных разъездов до локдауна и самого локдауна, я бы, конечно, как-то узнал о его смерти, но все это вместе изменило жизнь настолько, что я узнал о смерти Гийота не из новостей, а из фрагмента романа Ильянена, опубликованного в «Носороге». Я рассказываю это к тому, что мое представление о времени из-за локдауна, конечно, изменилось. Оно связано и с темпераментом, и со страной, в которой меня локдаун застал. Я живу в Риге в центре города, но ощущение, очень местное, что я на хуторе.
ИО: Это тоже важный вопрос: с чем эти события сопоставить? Они, безусловно, значительные, подобных им на нашем веку не было, поэтому в оборотах вроде «великая пандемия» не так много иронии. Но как раз из-за новизны этой ситуации ее сложно воспринять непосредственно, и поэтому она часто осмысляется в отношениях и контрастах с другими явлениями: испанкой, пеллагрой, затворничеством Ханны Хох в гитлеровской Германии, написанием диссертации, домашним арестом. Где границы такого параллелизма, исторического и, что более интересно, автобиографического?
КК: Мышление историческими аналогиями — это очень дурное мышление, не так ли? Никаких параллелей нет, потому что во времена испанки люди жили в другом времени и другое время было у них в голове. С самого начала пандемии культурные люди проводили аналогии и с пушкинским «Пиром во время чумы», и с «Декамероном», но все это мимо. Во-первых, чума длилась долго, а люди жили коротко, но вместе с тем и медленно. Мне сложно представить это сочетание очень короткой с нашей точки зрения жизни с медленным ее проживанием, поэтому мне не понять, каким образом в сознании людей происходило такое протяженное событие, как многолетняя эпидемия чумы.
Шкловский сказал бы: «Эпидемия чумы — это прием, который позволяет рассказчику рассказывать свои истории». Это так, но, чтобы воспринять происходящее сейчас как прием, нужно обладать определенной, а именно модернистской, дисциплиной мышления, на которую сейчас мало кто способен. И, если говорить о том же Пушкине, странно: мало кто вспомнил о Болдинской осени, когда эпидемия холеры заставила сидеть его в бедном Болдино и от скуки писать. Здесь довольно любопытное пересечение и с темой «Носорога», и с Ксавье де Местром: вся эта «Болдинская осень» написана от нечего делать, эти тексты — результат изобилия кажущегося свободным времени, которое нужно убить.
Еще одна важная лично для меня литературная аналогия — это «Волшебная гора» Томаса Манна. Конечно, всем бы нам хотелось сидеть в изоляции с таким комфортом, как у Ганса Касторпа, с прекрасной изобильной едой, хорошим вином, неспешными разговорами, книгами и изумительными видами с балкона. Но темы «Волшебной горы» не столь уж рекреационные, скажем тема времени как болезни и болезни как времени. «Волшебная гора» очень долго разгоняется, а затем быстро оказывается в другой точке, в нем самом — странное время, он сам, так сказать, это странное время.
Именно это ощущение оказалось мне гораздо ближе во время локдауна. Я очень многое за это время успел, в том числе и в собственной жизни. Эта комбинация лихорадочной активности и не то чтобы праздности, но тихой протяженности локализована для меня в районе Кливерсала, где я обитаю. Он расположен напротив Старого города, рядом с бухтой, где стояли всю зиму никому не нужные яхты, а по ту сторону от трассы идут пустые парки.
Еще одна параллель — Кафка. Ощущения внутри локдауна — это в каком-то смысле ощущения землемера, который пытается попасть в Замок: нам все время кажется, что мы вот-вот выйдем из него, мы приближаемся к концу, вот уже и вакцина, казалось бы, но ничего не происходит.
ИО: Но почему именно письмо, хроникерство? Все оказавшиеся в таких обстоятельствах нередко переходят, сознательно или нет, в другой режим, появляются и соблюдаются ритуалы, призванные сохранить тот, доссылочный, докарантинный облик. Какое место среди них занимает запись малопримечательных в других обстоятельствах событий и какие есть другие ритуалы?
КК: И без всякого локдауна был Леон Богданов, который является отцом и непревзойденным образцом локдаунной прозы. Много ли есть писателей, добровольно взваливших на себя такую жизнь за сорок лет до ковида? А Леон Богданов — образец локдауна как типа сознания. Он сидит и фиксирует не только происходящее вокруг (ведь вокруг него ничего значительного не происходит, все обычно и ритуализированно: жена, чифирь, трава, Кирилл Козырев приходит, приносит какие-то книжки из «Библиотеки восточной литературы»), но и всевозможные землетрясения и катастрофы, о которых говорит советское радио. Проскакивают в том числе и какие-то бессмысленные политические новости, официальные визиты, кто-то куда-то приехал. А еще знакомые говорят, что выходят какие-то книжки, под конец, в 1986-м, выходит даже Хлебников, знаменитый огромный черный том, первое его издание с 1930-х годов.
У меня было такое ощущение, что Леон Богданов сидит, ждет, ждет Хлебникова, и вот Хлебников выходит, и Богданов — не знаю, успел он его увидеть или нет, — умирает. Это было до интернета, но я не вижу, чтобы что-то с тех пор изменилось, если говорить о своем художественно отрефлексированном месте в локдаунном времени и пространстве.
Здесь важна и этическая позиция. Позиция Богданова не лукавая, он мужественно смотрит в глаза этой жизни и знает, что другой не будет. Это не эскапизм, который был у части ленинградских поэтов, думавших о том, как схлынет советское наваждение и вернется все «настоящее», ушедшее в 1917 году, с «настоящими» Блоком, Белым, Мандельштамом и Гумилевым. Это эскапизм, в этом есть трусость.
А Богданов жил и знал, что это устроено так и не то что в этой жизни нужно, как премудрому пескарю, устроиться, чтобы тебя не трогали, нет. Он просто по умолчанию считает то место, где он находится, и тот образ жизни, который ведет, единственной возможной точкой существования и наблюдения — а для него это одно и то же. Это очень мужественная и практически безупречная позиция.
В нашем же локдауне есть некоторое лукавство: что бы о нем ни писали, все равно мы хотим, чтобы вернулось, как было. Даже если мы пишем, что мир уже никогда не будет прежним, мы все равно верим в противоположное.
ИО: У Томаса Диша есть рассказ 1962 года The Squirrel Cage. В нем главный герой заперт в комнате неизвестно кем, как, когда, но главное, зачем. Возможно, за ним наблюдают (и любитель простых метафор скажет, что это Бог), но это беспокоит его в меньшей степени. К нему ежедневно поступает свежий «Нью-Йорк Таймс», а его единственное средство коммуникации с внешним миром — печатная машинка. Он выстукивает на ней стихи, истории и признания, но никакой реакции на это нет, он и сам не видит то, что печатает. Развитие этого небольшого рассказа — в движении от беспокойства из-за кафкианскости ситуации и отчаяния от тщетности действий к ужасу от гипотетической перспективы выйти наконец из комнаты. Вы видите какую-то переломную точку, пройдя которую проще будет оставить все как есть?
КК: Очень заманчиво было бы представить себе мир, дошедший до точки, когда он уже просто не захочет выходить из локдауна. Может быть, не из-за того даже, что мир привыкнет к гибернации и ему понравится, а оттого, что он просто окажется в состоянии немочи, локдаун высосет силы из этого мира настолько, что миру станет все равно и окажется проще длить то, что есть, чем совершить усилие и вернуться в так называемую нормальную жизнь.
ИО: Вы имеете в виду экономические или психические процессы?
КК: И то и другое. В этой ситуации нельзя отделить экономическое от психологического. Современная экономика — это экономика психопатов, современные финансовые рынки — это область деятельности кокаиновых психопатов, поэтому я не стал бы отделять экономическое от психологического и даже психического.
Сама жизнь, ткань жизни, сфера жизни может исчерпаться, подъесть себя. Мы сейчас не говорим обо во всем мире, разумеется. Мы же обсуждаем проблемы так называемого белого человека, то, что как бы нас как бы волнует, а большая часть населения Индии, Бразилии или Китая нас просто не поймет. Но, увы, мы обречены говорить только о себе, поэтому говорим так, как мы говорим. И с этой, с нашей, точки зрения было бы заманчиво представить себе изможденный мир, про который Марк Фишер сказал бы, что это тот самый исчерпавший себя, всем и себе надоевший мир позднего капитализма и позднего неолиберализма.
Но как бы ни было увлекательно представлять себе мир, который локдаун психологически вычерпает настолько, что он не захочет возвращаться назад, я думаю, такого не случится. Ведь если сейчас наступит третья, четвертая, пятая волна эпидемии и опять начнут все закрывать, то люди с каждым разом будут все меньше на это реагировать и все больше впадать в истерику или апатию (а скорее всего, в истерику и в апатию одновременно). Именно такое состояние апатичной истерики, или истерической апатии, я и назвал бы пограничным, после которого этому миру может показаться, что лучше остаться в локдауне.
Более того, есть сферы, где ситуация уже никогда не сможет вернуться к состоянию «до», например образование. Тупые, энергичные и циничные менеджеры высшего образования и до этого хотели, чтобы все вели лекции и семинары в Зуме, а им можно было бы меньше тратиться на строительство, аренду и ремонт школ и университетов, а теперь зум- и ютуб-просвещение уже стали мейнстримом. Это не значит, что все занятия перейдут в онлайн, но шаг за шагом все будет переноситься туда.
Что касается литературы, то есть немалое количество литераторов, которые, оказавшись в ситуации эпидемии и изоляции, сказали себе: «Я писатель, я пишу о том, что происходит. Раз уж я здесь оказался, я должен это описывать в традиции, например, путевых очерков, когда пишут о том месте, где оказался». Более рефлексирующие говорят себе: «Раз я оказался в карантине и изоляции, где по-другому течет время, то и письмо мое должно измениться», и начинают изменять письмо.
Иногда, когда человек очень тонко проживает время, в котором живет, оно меняется само. Пятигорский, например, говорил о том, что бывает время, когда нужно замереть и пропускать смыслы через себя. Пространство локдауна и изоляции состоит на сто процентов из времени, но способность не просто замереть, а пропускать при этом сквозь себя смыслы мало кому доступна.
Если же не брать этот верхний слой, есть разные стратегии отклика на эту ситуацию. Интересны бывают даже не столько тексты, сколько сам вопрос о том, что необходимо откликнуться на ситуацию, вопрос внутренней необходимости писателя. Не стоит ли историзировать эту необходимость откликаться? Было ли так всегда и везде? Я в этом сомневаюсь.
Если вернуться к «Носорогу», то Ильянен точно так же писал и до локдауна и так же будет писать после, но вдруг в этой точке происходящее с миром совпадает с тем, как пишет этот давно уже сочиняющий прозу писатель. Александра Петрова из Рима, Вечного города, пишет о времени, которое как бы застыло, и получается комбинация вечности и Вечного города. Но вдруг вечность — это не застывший полуразрушенный храм, не неподвижная руина времени, а бесконечное и бессмысленное копошение мелких феноменов? В Риме, как пишет Петрова, в сторону Аппиевой дороги, что-то когда-то оградили, потом открыли, потом это открытое куда-то подвинули, кого-то из-за этого выселили — мысль о суете сует и тщете всего человеческого банальна, но из этого текста она встает.
Текст Гертруды Стайн — один из самых трудночитаемых, нужно по несколько раз произносить вслух каждую фразу, чтобы понять, что в ней происходит, но это в чистом виде кубизм. Ведь именно кубизм, когда он появился, предлагал попытку увидеть вещь с нескольких ракурсов одновременно, ее геометрическое строение и внутреннюю структуру. Это умение увидеть вещь снаружи и изнутри и сделать из описания вещи еще одну вещь, может быть, еще более вещную, чем та, которая описывается, — это то, что великие модернисты умели, а нам уже не под силу. С локдауном эту прозу роднит то, что это тоже досужее описание, только Гертруде Стайн не нужно было никакого карантина, чтобы таким образом думать и писать.
ИО: Но карантинный хроникер сидит в комнате один и настолько долго, что одиночество в какой-то момент может заставить его усомниться в собственном существовании, поэтому в письмо может быть заложена и связанная с ним терапевтическая функция. Что для него важнее: звук собственного голоса или поиски встречного взгляда, попытки увидеть себя со стороны, во всех подробностях?
КК: Есть огромное искушение сказать какую-нибудь пошлость вроде «Изоляция — это время, когда ты встречаешься сам с собой», но правда в том, что никакого «сам» не существует, некому и не с кем встречаться, что локдаун просто переформатировал пучки наших реакций на мир, вот и все. Мы остаемся наедине с хаосом наших реакций, вопрос лишь в том, насколько упруга подушечка этой сферы и вернется ли она в свою прежнюю форму, когда (и если) это давление исчезнет.
Ответ на этот вопрос позволяет сказать что-то о нашем внутреннем устройстве, что имеет прямое отношение к писательству. Важно то, из какой точки пишется локдаунная проза: из точки трансформируемой сферы разного рода реакций на раздражения, удобства и неудобства, или точка, из которой говорится, является, оставаясь внутренней, одновременно и точкой снаружи, наблюдающей за говорящим. Этот трюк известен в философии, собственно, философом и называют того человека, который рефлексирует по поводу того, как он думает.
Помимо текстов из «Носорога» я прочитал немало локдаунной прозы, в том числе текст Александра Чанцева, который несколько месяцев назад решил поехать в Марокко. Текст этот состоит из нумерованных частей, он выхватывает мелочи, не всегда точно, а иногда и лениво подобранные, но эта неряшливость, это отсутствие отбора и кажутся мне отличительной чертой апатии локдауна.
Следующий вопрос был бы «Почему?», и тут нужно сказать об интернете. Ведь, когда изоляция только начиналась, многие говорили: «Вот наступил момент ясности. Сейчас мы увидим, как все устроено». И в какой-то момент те, кто этого хотели, действительно увидели, что как устроено, как локдаун обнажил пропасть между бедными и богатыми, что кому можно и что кому нельзя. Но после большой ясности наступила пора неопрятности мышления.
ИО: Но у этой локдаунной хроники есть и еще одна задача, сознательная или нет: сохранить личный опыт в его настоящести и непосредственности и собрать материал для коммеморации, сделать посильный вклад в архив для будущей Erinnerungskultur, культуры памяти. Не искажает ли такая прагматическая перспектива непосредственность описания?
КК: Потребность писателя рефлексировать о своих переживаниях, фиксировать то, что с ними происходит, для поучения и просто сохранения существовала всегда. Другое дело, что сейчас реакция ожидается быстрее, чем раньше, и в таким образом проживаемом времени очень сложно сказать, что будет потом. Литераторы сейчас часто действительно пишут в будущую память. Многие из относительно не старых еще людей живут с памятью о том, как открывались пласты истории, как всплывали ГУЛаг и блокада и свидетельства о них. Я и сам такой человек, мне тогда было чуть больше двадцати.
И на фоне подобного ужаса эти преувеличения и романтизация локдаунной катастрофы и страданий кажутся смешными: «Ах, боже мой, я целый год не сидел в кафе за столиком!» И сейчас, когда стало уже чуть-чуть можно сидеть за столиком, это все забывается. Самая большая ошибка такого рода мышления — убежденность в том, что «сейчас» будет так же, как это произошло «тогда», что, дескать, в блокаду Лидия Яковлевна Гинзбург писала «Записки блокадного человека», чтобы потом, через много лет люди их читали и помнили. Это все неправда. Гинзбург, в отличие от других, писала не для будущего, а чтобы разобраться с собой в той точке, когда и где это происходило. И это — подлинное мужество, как потом, в другой, более мирной ситуации у Леона Богданова.
Сегодня же всем все равно, потому что произошла маркетизация и монетизация такого слова, как «память». Оно стало поручнем, за который люди хватаются, когда их автобус трясет: «Потом наши потомки будут читать о страшных испытаниях, выпавших на нашу долю». Я не говорю сейчас о тех, кто действительно тяжело переболел. Человек, который выкашливает легкие, вряд ли будет писать об этом мемуары для будущего. И этим наша ситуация отличается от ГУЛага или блокады: тогда люди писали о том, как они, метафорически говоря, выкашливают легкие или из них их «выкашливают» нацисты или энкавэдэшники.
Последние годы я стал пристально смотреть на особенную разновидность текстов-свидетельств людей, умирающих от неизлечимой болезни, чаще всего от рака, и меня всегда интересовал вопрос, зачем они это описывают. Это очень сильный поступок, ведь, когда ты умираешь, тебе не до словесности. Зачем? Это тщеславие? Желание хлопнуть дверью? Еще что-то? Но сейчас ситуация другая: я не видел ни одного текста человека, тяжело переболевшего коронавирусом.
ИО: Попробуем поставить себя на место человека будущего. Начать оценивать успех таких «писем в бутылке» можно уже сейчас, когда, по крайней мере в России, снова все стало более-менее можно. Что вы чувствуете, когда как человек будущего читаете записи годичной давности, свои и чужие? У вас получается с их помощью развести этот концентрат памяти и вернуться в разгар карантина и изоляции? Или они уже кажутся устаревшими? Или раздражают напоминанием о тяготах?
КК: Ну, для меня-то как раз локдаун прошел не очень тяжело. Я хорошо помню, когда начал от него уставать: очень поздно, только в начале января 2021-го. До того за делами я его чаще всего просто не замечал. Что касается опубликованных текстов, я стараюсь свои не перечитывать, и мне безразлично, в локдауне они написаны или нет. Я могу о них забыть, и случается, что я натыкаюсь на какой-то текст, начинаю его читать и вдруг понимаю: вау, так это я его написал.
С дневниками по-другому. Когда ведешь дневник для себя, можно много лет спустя поражаться юношеской наивности или возмутиться какой-то глупостью, но ты никогда не сомневаешься во внутренней подлинности. Да, оно действительно было именно так. И это ты сам, пусть из прошлых операционных систем.
Про локдаун мне сказать сложно, потому что я не читал личных ковид-дневников. Локдаунные записи Ильянена — это записи все того же Ильянена, это человек, который в кузминской традиции мышления и прозы видит эти молекулы жизни, хаотичные комбинации интересных и неинтересных вещей. Повторюсь: когда я читал Ильянена, я поразился тому, насколько он остался неизменен. Здесь вспоминается Кафка, который в своей прозе и в своем дневнике как бы не замечает Первую мировую войну.
Здесь же можно вспомнить и самого Кузмина, и текст Шкловского, который описывает петроградскую литературную среду 1922-го, кажется, года. Казалось бы, Кузмин — прихотливый эстет, он должен был первым сломаться в таких страшных условиях, в первые же дни Гражданской войны сойти с ума и умереть от отсутствия шабли, а он, по словам «железного дровосека» Шкловского, оказался железным, он пережил Блока и просуществовал, голодая и нищенствуя, до самой своей смерти в 1936 году.
В 1930-е годы о нужном и важном пишут Фадеев и Булгаков, а, например, Вагинов — это десерт, но где сейчас эта обязательность Фадеева и Булгакова? На ренессансных гравюрах часто изображались алхимики и астрономы, которые заглядывают за занавес небесного свода и наблюдают звезды. Фадеев с Булгаковым, по-разному конечно, описывают этот занавес, а Добычин, Вагинов или сейчас Ильянен — они про то, что можно подглядеть, если эту пропыленную ткань слегка приподнять или отодвинуть. Это, казалось бы, совершенно не обязательные вещи, которые и оказываются на самом деле обязательными. К сожалению, в большинстве того, что я читал во время локдауна, я вижу как раз натужное желание сказать обязательные вещи о происходящем, и они мне неинтересны.
ИО: В галерее Марины Гисич недавно была выставка Кирилла Челушкина: серия работ о тупиковых ветвях научно-технического прогресса, которые, несмотря на свою практическую бесполезность и ограниченность во времени, оказались плодотворны с точки зрения мифотворчества, причем мифотворчества героического, коль скоро они были связаны с испытанием пределов человеческих возможностей. Там были дирижабли, там был Вильгельм Райх со своим оргонным аккумулятором, и там, среди прочего, была картина «Человек, который серьезно рисковал здоровьем» (2020). Вы видите, как складывается ковидная мифология? Есть что-то в описании последних полутора лет, что вы предпочли бы видеть скорее мифологизированным, чем достоверным, соответствующим действительности?
КК: Я не знаю, что такое действительность, но в ситуации пандемии меня поразил Зум. Это одно из самых ужасных изобретений человечества, но вместе с тем это и религиозное переживание, потому что сотни миллионов людей ежедневно садятся и смотрят на иконостас, в котором большинство иконок черные, а остальные не святые, а какие-то люди. Это напоминает мессу, и люди с помощью этого ритуала вовлекаются во Всемирную Церковь Зума.
Еще одна вещь, которая меня поразила, — то, что, с одной стороны, мы замурованы в стенах своей крепости-дома, но вместе с тем благодаря Зуму и прочим таким штукам мы побывали дома у миллионов людей. Все эти месяцы мы прилежно изучали на экранах, как организована домашняя жизнь других, как выглядят квартиры, какие вещи валяются, какие книжки стоят на полках, что творится на кухне, детей, домашних животных. Мне кажется, такого сокрушительного нарушения приватности человечество еще не знало. Я всегда старался этого избегать, но раз-два в неделю Зум в моей жизни присутствует.
Но сейчас я говорю и о целой индустрии домашних концертов. Я побывал дома у Роберта Фриппа. Мне всегда казалось, что у него дома все должно быть устроено так же, как и в его музыке: фриппертроника, сеточки, паранойя, — а выяснилось, что у него обычный английский буржуазный дом и кухня с резными шкафчиками, а он сам добродушный дядька, который с женой Тойей разыгрывает домашние представления. Я, конечно, был этим разочарован.
Другой пример — Софи Эллис-Бекстор, которая решила снимать и выкладывать на Ютубе kitchen disco: петь караоке свои и чужие песни и плясать на своей кухне в окружении детей разного возраста. Получилось мощно, надо сказать, в каком-то смысле к ней даже вернулась часть былой славы. Мне тоже интересно было посмотреть, как живет Софи-Эллис Бекстор.
Раньше такого не было. Ты оказываешься внутри домов самых разнообразных людей, до сих пор живших за закрытыми дверями. Это важно, потому что все это происходит в обществе, озабоченном ситуацией с приватностью, и мне очень интересно, что будет с этой внезапной распахнутостью после локдауна.
ИО: Но приватность зум-вечеринок не отменяет и контролируемый эксгибиционизм. Де Местр тоже этим занимается. Он описывает комнату, но всегда остается «я», он до конца в ней не растворяется, и его самосозерцание в какой-то момент переходит в самолюбование, комната становится музеем его самого, а рассказ о ней превращается в экскурсию по экспонатам.
КК: Это правда, к тому же написано это было тогда, когда на основе частных коллекций и кабинетов диковин начинали создаваться современные музеи. Если Барт был бы сейчас жив, он непременно написал бы эссе о том, что Ксавье де Местр настолько же махровый реакционер, как и его брат Жозеф, что открытию музеев он противопоставляет закрытие своей комнаты, где он в одиночку любуется своими ценностями.
Самодовольство определенно присутствует, и оно нарастает. Это тщеславие особенно проявляется во время зум-вечеринок. Раньше существовал такой жанр — пьяный разговор по телефону. В этом жанре было много черт отрицательных, но была и положительная: это был разговор человека, пусть и с измененным сознанием, с другим человеком. Или же были вечеринки, где можно было скользить по комнатам со стаканом в руке и перебрасываться фразами с разными людьми, обращаясь к каждому конкретному. Существовал даже типаж: человек на кухне, который либо стесняется, либо непопулярен. Но и это был индивидуальный выбор. Ты приходишь на вечеринку и ни с кем не общаешься, просто стоишь.
В Зуме же происходит разговор со всеми и вместе с тем ни с кем конкретно, подобно соцсетям, где все и постят, чтобы быть прокомментированными, и комментируют чужие посты. Получается похоже на театр, где все одновременно являются и актерами, и зрителями, а на самом деле, скорее всего, никто ни на кого не смотрит, а многие просто включают в Зуме себя на большой экран и изучают собственную физиономию во всех деталях.
вас может заинтересовать

