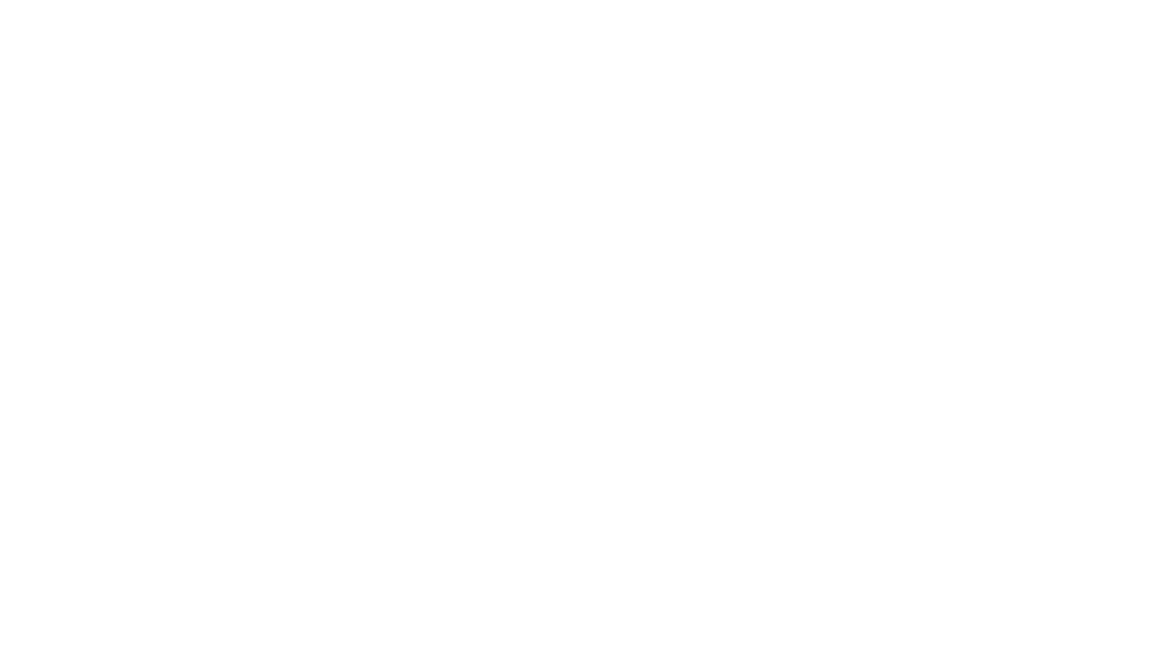
Сохранить воздух и пустоту
Публикуем беседу Ивана Оносова с писателем, историком и журналистом Кириллом Кобриным о том, как изменились представления о времени и письме после пандемии, о текстах «изоляционного» номера «Носорога» и наблюдениях над психическими и экономическими процессами пандемии.
Владимир Коркунов: Андрей, в описаниях твоих лекций и мастер-классов на площадке «Носорога» была примерно такая фраза: «Как и зачем создавать экспериментальную литературу из всего подряд». Давай ответим на второй вопрос.
Андрей Черкасов: Любой выход за границу конвенции — эксперимент, освоить новые территории без него невозможно. Делаешь шаг и смотришь, кочка там или трясина, что вообще происходит. И, если ты не экспериментируешь, ты не расширяешь территорию. Можно, конечно, углубиться внутрь существующей конвенции и доводить до совершенства то, что находится в уже очерченном круге. Но моя идея в том, что экспериментировать необходимо, это самостоятельная ценность. И как популяризатор я пытаюсь рассказать о возможной культуре эксперимента, чтобы он не был диким.
У многих возникает желание трансгрессировать из пузыря, в котором они находятся, сделать что-то запредельное. Но, когда ты делаешь это в рамках «дикой» парадигмы, чаще всего получается неубедительно. Авангардный жест — жест дикий, дерзкий, но, мне кажется, он должен быть подкреплен определенной культурой.
ВК: На стыке авангардных практик с конвенциональными?
АЧ: Не совсем. Хотя любая конвенциональная практика может быть обозначена в рамках экспериментального проекта, и это мне тоже кажется важным. Ты можешь взять набор метрических структур и на их основе сделать экспериментальный проект. Но это не всегда факт литературы. «Яндекс.Автопоэт», например, проект, который соединяет метрические структуры и поисковые запросы, и на выходе мы получаем экспериментальный, а не традиционный текст. Литература ли это, можно дискутировать, но результат есть.
Я говорю даже не о базисе, потому что ясно: первый авангардный жест — авангард, следующий такой же — конвенция. Но если мы говорим не про авангард, а про эксперимент, то это как с химией и физикой: ты изучаешь основы эксперимента, затем его повторяешь. Важно понимать, как устроены эксперименты в литературе и сопредельных полях, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, а с другой — чтобы твой шаг, каким бы он ни был, находился в контексте других шагов, которые происходят в том же поле.
ВК: Ты говоришь о возможности эксперимента практически из всего подряд. Мы находимся в кафе «Зинзивер», смотрим на изрисованные стены. Можно ли отсюда извлечь поэзию?
АЧ: Почему нет? К тексту, который вокруг нас, можно применить множество разных техник. Назову некоторые.
Первая мысль, конечно, блэкаут: можно убрать какое-то количество слов и получить текст. Вторая мысль связана с распознаванием. Тексты на стенах написаны почерками разной степени разборчивости. Некоторые из них — теги, не предназначенные для того, чтобы быть прочитанными, и, если применить к ним средства распознавания, можно получить совершенно разные результаты. Например, если снять их и засунуть в программу, настроенную на распознавание печатного текста, или в средство поиска по похожим изображениям и так далее. Разумеется, можно придумать еще пять-десять разных техник.
ВК: Здесь множество отсылок. Опишу некоторые: Крым понятно чей, далее икона, вон там — «мама» и сердечко, слова «Люби своего ближнего, как себя самого»…
АЧ: А вот одна анаграмматичная штука: слово «кленовый», а потом слова, которые можно составить из него. То есть, в принципе, здесь есть все.
ВК: Да, абсолютно поэтическое место, и хорошо, что ты предложил пойти именно сюда. Говоря об экспериментах — вспоминается твоя книга «Домашнее хозяйство». Она очень небольшим тиражом вышла? Я ее видел только раз, в Нижнем Новгороде, большущая такая книга.
АЧ: Эта книга — арт-объект. У нее был заявленный тираж, как у тиражных объектов художников, сто экземпляров, каждый из которых нумеруется. К сожалению, в реальности я не вышел за пределы пятидесяти, потому что каждый печатал вручную. Причем книгой ее можно назвать лишь условно: это набор листов, и набор каждого экземпляра — результат случайный выборки. Порядок определял генератор случайных чисел. Естественно, человек, который прочитает эту книгу, может перекладывать листы как угодно.
ВК: Увеличившиеся в размерах карточки Рубинштейна…
АЧ: Карточки Рубинштейна имеют вполне определенный порядок, потому что это библиотечные карточки и есть перформативный элемент — перелистывание. Здесь же принципиален случайный порядок фрагментов. В изначальной книге был и первопорядок, но я не уверен, что он сохранился.
ВК: В ее основу легла реальная книга?
АЧ: Да, советская энциклопедия домашнего хозяйства, изданная в конце то ли пятидесятых, то ли шестидесятых годов, а потом выходившая в переизданиях.
ВК: Как ты с ней работал, чтобы извлечь поэтическое?
АЧ: Энциклопедия была набрана в две колонки, и я делал whiteout, то есть «выбеливал» текст, оставляя точки сгущения, когда на границах колонок появлялись как бы реальные словосочетания. В литературе есть традиция двухколоночных текстов, которые читаются насквозь, но в моем случае это были несвязанные между собой колонки, которые сталкивались в самых электрических моментах.
ВК: Как ты вообще заметил в книге о домашнем хозяйстве что-то поэтическое?
АЧ: Это довольно просто. Если у тебя в принципе жадный взгляд, ты всматриваешься в окружающее пространство, в том числе пространство текста, и замечаешь композиционные связи. Они могут быть визуальными или словесными. Так или иначе, это устройство оптики. Примерно через год после выхода первой книги у меня стали появляться тексты именно благодаря «жадному зрению», и они вошли во вторую книгу.
ВК: Тоже вышедшую у Кузьмина?
АЧ: Да, но уже в книжном приложении к «Воздуху». Она называлась «Децентрализованное наблюдение», и что важно: я окончил институт, стал работать и ходил на работу пешком, довольно долго для пешей прогулки, примерно сорок минут. Но это была крутая тренировка «жадного зрения». Когда ты идешь и подмечаешь вещи, которые становятся потом фотографией, некоторые — текстом. Довольно большой процент текстов в «Децентрализованном наблюдении» был написан, придуман как раз во время этих дорог на работу и с работы. Я просто впитывал все, что видел, на одном и том же пути.
То же и с текстом. Когда ты не просто его употребляешь, а когда на него смотришь, он становится не просто словами с неким месседжем, а синтаксическим целым, обладающим нелинейной природой. Двухколоночная структура, в частности, эту нелинейность подчеркивает.
ВК: Жаль, что книга вышла таким небольшим тиражом. У тебя же была идея ее переиздать?
АЧ: Я пытаюсь придумать, как адекватно передать природу случайного следования фрагментов. Мне нужен программист, который предложил бы, как это сделать, чтобы сохранить и принцип чтения, и исходную графику. Это еще и листы А4, приближенные к формату книги, и пустота соответствует отсутствующему тексту, который есть в оригинальной энциклопедии, то есть с приветом идеям Чарльза Олсена и его проективного стиха. Мне хотелось бы сделать другую версию «Домашнего хозяйства», но все-таки сохранить воздух и пустоту.
ВК: На фестивале Kyiv poetry week Дмитрий Кузьмин говорил, что ты перешел на создание книг-концептов. Насколько для тебя важен именно такой подход?
АЧ: В какой-то момент я сказал себе, а может, даже публично, что больше не буду писать просто тексты, но все равно периодически продолжаю их писать, и в них не участвуют внешние агенты. У меня есть такие книги, и «Обстоятельства вне контроля» — последняя на сегодняшний день. А может, вообще последняя. В целом мне кажется, моя практика связана с комбинированием и созданием новых методов производства с участием тех или иных рамок, нечеловеческих агентов и всего на свете.
ВК: Кстати, про «Обстоятельства вне контроля». Я ее перечитывал, готовясь к интервью, и заметил «жадное зрение», выхваченные глазом фрагменты. Это ведь в какой-то мере whiteout мира получается?
АЧ: В принципе, да, потому что, когда ты дрейфуешь через пространство и фиксируешься на какой-то вещи, ты ее сгущаешь. Это может быть фрагмент, который содержит текст. Это может быть фрагмент реальности, который текста не содержит, но который ты все равно передаешь в виде текста. Мне кажется, это даже не фокус, а свойство любого поэтического зрения, когда ты рамируешь реальность, чтобы она передавала определенные волны смыслов.
ВК: Еще одна твоя книга, «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова», сравнительно большой текст с определенными романными приемами (мне попалась некая рукопись и т. д.). Сам текст темный, его оптика не вполне понятна. Расскажи о задумке этого концепта и как его правильно прочитать.
АЧ: Тут два сюжета. Первый связан с тем, как издана книга: это результат ошибки. Текст должен был выйти без моего имени на обложке, как псевдоанонимный. Я должен был быть указан только в выходных данных. Но Игорь Улангин недопонял меня, и книга вышла как вышла.
Так или иначе, этот текст — результат моего сотворчества с автоподсказкой в одном из смартфонов, опыт перевода автозаменой текста, написанного на кириллице, но не на русском языке. В предисловии об этом не сказано, но текст, послуживший основой, — «Слово о полку Игореве». Не в том виде, в каком оно переведено на русский язык, а в том, в каком был изначально, на кириллическом древнерусском.
ВК: Такой электронный Лихачев получился.
АЧ: Устроено все было следующим образом: у тебя есть набранный на древнерусском текст, и, когда ты наводишь палец на определенное слово, система выдает несколько вариантов. На обычных клавиатурах — два-три наиболее близких, а на клавиатуре используемого мною смартфона — примерно пятнадцать — двадцать. Как правило, если смартфон опознает слово как глагол, это будет набор глаголов.
Для чистоты эксперимента я полностью очистил смартфон. В автозамене иногда проскакивали слова из рабочего лексикона (я этим телефоном пользовался как рабочим), но я их старался отфильтровать, то есть переводил оригинальный текст «Слова о полку Игореве» на язык словаря, который был заложен в телефоне.
На мой взгляд, адекватного способа прочитать этот текст нет. Ты можешь читать его как анонимный памятник, а можешь — обладая информацией о том, как этот текст сделан. Промежуточный вариант —книга, в которой есть предисловие, не вполне открывающее способ производства этого текста, но пересоздающее отношения с ним.
ВК: В каком направлении движется современное искусство?
АЧ: Если бы я был идеологом, то мог бы ответить на этот вопрос и назвать тенденции, которые мне кажутся нужными и важными. Но это было бы тенденциозно. Это была бы ложь, потому что картина заведомо сложна. Современное искусство и современная поэзия в частности движутся во всех направлениях. Некоторые из них более магистральны, другие менее сильны. Если мы представим эту картину, для каждого смотрящего она будет полна слепых пятен, окажется похожей на одуванчик, где линии движутся во все стороны, но насколько важна каждая из них, сейчас мы не можем оценить.
ВК: Хобсбаум говорил, что искусство будет ускоряться. Не ошибся?
АЧ: В этой парадигме самое быстрое искусство прямо сейчас — соцсети. Мгновенная реакция, использующая нервную систему современных медиа. Условно говоря, какой-нибудь твиттер-флешмоб на летучем хештеге. Это если рассматривать его точку зрения.
Но мне кажется, что искусство, напротив, замедляется, становится аналитичнее, потому что происходит его осмысление — с небольшим опозданием, постфактум. А если мы говорим о той картине, которую предлагает Хобсбаум, то все происходит один в один, но сейчас такого нет, и если что-то происходит, то осмысляется как факт современного искусства.
ВК: Заканчивая тему с твоими личными экспериментами — не мог бы ты сделать блэкаут на основе одного из заготовленных мною текстов?
АЧ: Легко. [Андрей выбрал текст Ольги Туркиной. — В. К.]
Андрей Черкасов: Любой выход за границу конвенции — эксперимент, освоить новые территории без него невозможно. Делаешь шаг и смотришь, кочка там или трясина, что вообще происходит. И, если ты не экспериментируешь, ты не расширяешь территорию. Можно, конечно, углубиться внутрь существующей конвенции и доводить до совершенства то, что находится в уже очерченном круге. Но моя идея в том, что экспериментировать необходимо, это самостоятельная ценность. И как популяризатор я пытаюсь рассказать о возможной культуре эксперимента, чтобы он не был диким.
У многих возникает желание трансгрессировать из пузыря, в котором они находятся, сделать что-то запредельное. Но, когда ты делаешь это в рамках «дикой» парадигмы, чаще всего получается неубедительно. Авангардный жест — жест дикий, дерзкий, но, мне кажется, он должен быть подкреплен определенной культурой.
ВК: На стыке авангардных практик с конвенциональными?
АЧ: Не совсем. Хотя любая конвенциональная практика может быть обозначена в рамках экспериментального проекта, и это мне тоже кажется важным. Ты можешь взять набор метрических структур и на их основе сделать экспериментальный проект. Но это не всегда факт литературы. «Яндекс.Автопоэт», например, проект, который соединяет метрические структуры и поисковые запросы, и на выходе мы получаем экспериментальный, а не традиционный текст. Литература ли это, можно дискутировать, но результат есть.
Я говорю даже не о базисе, потому что ясно: первый авангардный жест — авангард, следующий такой же — конвенция. Но если мы говорим не про авангард, а про эксперимент, то это как с химией и физикой: ты изучаешь основы эксперимента, затем его повторяешь. Важно понимать, как устроены эксперименты в литературе и сопредельных полях, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, а с другой — чтобы твой шаг, каким бы он ни был, находился в контексте других шагов, которые происходят в том же поле.
ВК: Ты говоришь о возможности эксперимента практически из всего подряд. Мы находимся в кафе «Зинзивер», смотрим на изрисованные стены. Можно ли отсюда извлечь поэзию?
АЧ: Почему нет? К тексту, который вокруг нас, можно применить множество разных техник. Назову некоторые.
Первая мысль, конечно, блэкаут: можно убрать какое-то количество слов и получить текст. Вторая мысль связана с распознаванием. Тексты на стенах написаны почерками разной степени разборчивости. Некоторые из них — теги, не предназначенные для того, чтобы быть прочитанными, и, если применить к ним средства распознавания, можно получить совершенно разные результаты. Например, если снять их и засунуть в программу, настроенную на распознавание печатного текста, или в средство поиска по похожим изображениям и так далее. Разумеется, можно придумать еще пять-десять разных техник.
ВК: Здесь множество отсылок. Опишу некоторые: Крым понятно чей, далее икона, вон там — «мама» и сердечко, слова «Люби своего ближнего, как себя самого»…
АЧ: А вот одна анаграмматичная штука: слово «кленовый», а потом слова, которые можно составить из него. То есть, в принципе, здесь есть все.
ВК: Да, абсолютно поэтическое место, и хорошо, что ты предложил пойти именно сюда. Говоря об экспериментах — вспоминается твоя книга «Домашнее хозяйство». Она очень небольшим тиражом вышла? Я ее видел только раз, в Нижнем Новгороде, большущая такая книга.
АЧ: Эта книга — арт-объект. У нее был заявленный тираж, как у тиражных объектов художников, сто экземпляров, каждый из которых нумеруется. К сожалению, в реальности я не вышел за пределы пятидесяти, потому что каждый печатал вручную. Причем книгой ее можно назвать лишь условно: это набор листов, и набор каждого экземпляра — результат случайный выборки. Порядок определял генератор случайных чисел. Естественно, человек, который прочитает эту книгу, может перекладывать листы как угодно.
ВК: Увеличившиеся в размерах карточки Рубинштейна…
АЧ: Карточки Рубинштейна имеют вполне определенный порядок, потому что это библиотечные карточки и есть перформативный элемент — перелистывание. Здесь же принципиален случайный порядок фрагментов. В изначальной книге был и первопорядок, но я не уверен, что он сохранился.
ВК: В ее основу легла реальная книга?
АЧ: Да, советская энциклопедия домашнего хозяйства, изданная в конце то ли пятидесятых, то ли шестидесятых годов, а потом выходившая в переизданиях.
ВК: Как ты с ней работал, чтобы извлечь поэтическое?
АЧ: Энциклопедия была набрана в две колонки, и я делал whiteout, то есть «выбеливал» текст, оставляя точки сгущения, когда на границах колонок появлялись как бы реальные словосочетания. В литературе есть традиция двухколоночных текстов, которые читаются насквозь, но в моем случае это были несвязанные между собой колонки, которые сталкивались в самых электрических моментах.
ВК: Как ты вообще заметил в книге о домашнем хозяйстве что-то поэтическое?
АЧ: Это довольно просто. Если у тебя в принципе жадный взгляд, ты всматриваешься в окружающее пространство, в том числе пространство текста, и замечаешь композиционные связи. Они могут быть визуальными или словесными. Так или иначе, это устройство оптики. Примерно через год после выхода первой книги у меня стали появляться тексты именно благодаря «жадному зрению», и они вошли во вторую книгу.
ВК: Тоже вышедшую у Кузьмина?
АЧ: Да, но уже в книжном приложении к «Воздуху». Она называлась «Децентрализованное наблюдение», и что важно: я окончил институт, стал работать и ходил на работу пешком, довольно долго для пешей прогулки, примерно сорок минут. Но это была крутая тренировка «жадного зрения». Когда ты идешь и подмечаешь вещи, которые становятся потом фотографией, некоторые — текстом. Довольно большой процент текстов в «Децентрализованном наблюдении» был написан, придуман как раз во время этих дорог на работу и с работы. Я просто впитывал все, что видел, на одном и том же пути.
То же и с текстом. Когда ты не просто его употребляешь, а когда на него смотришь, он становится не просто словами с неким месседжем, а синтаксическим целым, обладающим нелинейной природой. Двухколоночная структура, в частности, эту нелинейность подчеркивает.
ВК: Жаль, что книга вышла таким небольшим тиражом. У тебя же была идея ее переиздать?
АЧ: Я пытаюсь придумать, как адекватно передать природу случайного следования фрагментов. Мне нужен программист, который предложил бы, как это сделать, чтобы сохранить и принцип чтения, и исходную графику. Это еще и листы А4, приближенные к формату книги, и пустота соответствует отсутствующему тексту, который есть в оригинальной энциклопедии, то есть с приветом идеям Чарльза Олсена и его проективного стиха. Мне хотелось бы сделать другую версию «Домашнего хозяйства», но все-таки сохранить воздух и пустоту.
ВК: На фестивале Kyiv poetry week Дмитрий Кузьмин говорил, что ты перешел на создание книг-концептов. Насколько для тебя важен именно такой подход?
АЧ: В какой-то момент я сказал себе, а может, даже публично, что больше не буду писать просто тексты, но все равно периодически продолжаю их писать, и в них не участвуют внешние агенты. У меня есть такие книги, и «Обстоятельства вне контроля» — последняя на сегодняшний день. А может, вообще последняя. В целом мне кажется, моя практика связана с комбинированием и созданием новых методов производства с участием тех или иных рамок, нечеловеческих агентов и всего на свете.
ВК: Кстати, про «Обстоятельства вне контроля». Я ее перечитывал, готовясь к интервью, и заметил «жадное зрение», выхваченные глазом фрагменты. Это ведь в какой-то мере whiteout мира получается?
АЧ: В принципе, да, потому что, когда ты дрейфуешь через пространство и фиксируешься на какой-то вещи, ты ее сгущаешь. Это может быть фрагмент, который содержит текст. Это может быть фрагмент реальности, который текста не содержит, но который ты все равно передаешь в виде текста. Мне кажется, это даже не фокус, а свойство любого поэтического зрения, когда ты рамируешь реальность, чтобы она передавала определенные волны смыслов.
ВК: Еще одна твоя книга, «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова», сравнительно большой текст с определенными романными приемами (мне попалась некая рукопись и т. д.). Сам текст темный, его оптика не вполне понятна. Расскажи о задумке этого концепта и как его правильно прочитать.
АЧ: Тут два сюжета. Первый связан с тем, как издана книга: это результат ошибки. Текст должен был выйти без моего имени на обложке, как псевдоанонимный. Я должен был быть указан только в выходных данных. Но Игорь Улангин недопонял меня, и книга вышла как вышла.
Так или иначе, этот текст — результат моего сотворчества с автоподсказкой в одном из смартфонов, опыт перевода автозаменой текста, написанного на кириллице, но не на русском языке. В предисловии об этом не сказано, но текст, послуживший основой, — «Слово о полку Игореве». Не в том виде, в каком оно переведено на русский язык, а в том, в каком был изначально, на кириллическом древнерусском.
ВК: Такой электронный Лихачев получился.
АЧ: Устроено все было следующим образом: у тебя есть набранный на древнерусском текст, и, когда ты наводишь палец на определенное слово, система выдает несколько вариантов. На обычных клавиатурах — два-три наиболее близких, а на клавиатуре используемого мною смартфона — примерно пятнадцать — двадцать. Как правило, если смартфон опознает слово как глагол, это будет набор глаголов.
Для чистоты эксперимента я полностью очистил смартфон. В автозамене иногда проскакивали слова из рабочего лексикона (я этим телефоном пользовался как рабочим), но я их старался отфильтровать, то есть переводил оригинальный текст «Слова о полку Игореве» на язык словаря, который был заложен в телефоне.
На мой взгляд, адекватного способа прочитать этот текст нет. Ты можешь читать его как анонимный памятник, а можешь — обладая информацией о том, как этот текст сделан. Промежуточный вариант —книга, в которой есть предисловие, не вполне открывающее способ производства этого текста, но пересоздающее отношения с ним.
ВК: В каком направлении движется современное искусство?
АЧ: Если бы я был идеологом, то мог бы ответить на этот вопрос и назвать тенденции, которые мне кажутся нужными и важными. Но это было бы тенденциозно. Это была бы ложь, потому что картина заведомо сложна. Современное искусство и современная поэзия в частности движутся во всех направлениях. Некоторые из них более магистральны, другие менее сильны. Если мы представим эту картину, для каждого смотрящего она будет полна слепых пятен, окажется похожей на одуванчик, где линии движутся во все стороны, но насколько важна каждая из них, сейчас мы не можем оценить.
ВК: Хобсбаум говорил, что искусство будет ускоряться. Не ошибся?
АЧ: В этой парадигме самое быстрое искусство прямо сейчас — соцсети. Мгновенная реакция, использующая нервную систему современных медиа. Условно говоря, какой-нибудь твиттер-флешмоб на летучем хештеге. Это если рассматривать его точку зрения.
Но мне кажется, что искусство, напротив, замедляется, становится аналитичнее, потому что происходит его осмысление — с небольшим опозданием, постфактум. А если мы говорим о той картине, которую предлагает Хобсбаум, то все происходит один в один, но сейчас такого нет, и если что-то происходит, то осмысляется как факт современного искусства.
ВК: Заканчивая тему с твоими личными экспериментами — не мог бы ты сделать блэкаут на основе одного из заготовленных мною текстов?
АЧ: Легко. [Андрей выбрал текст Ольги Туркиной. — В. К.]
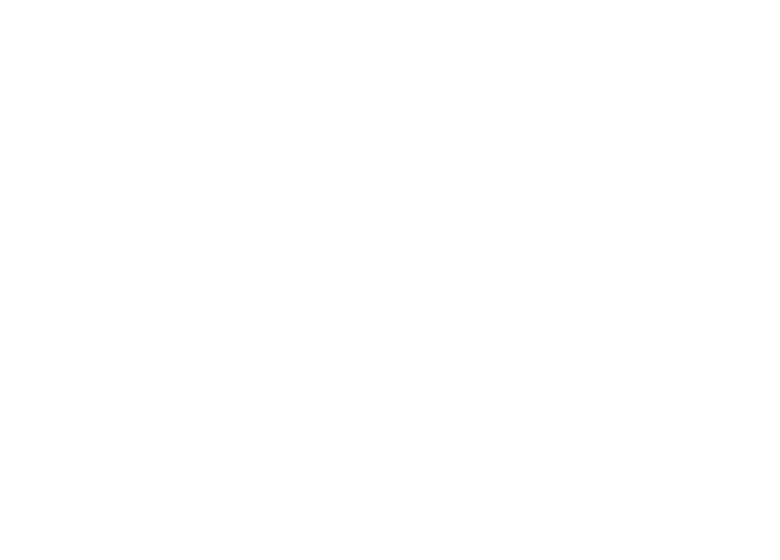
ВК: В детстве у меня была своя библиотека, несколько личных полок. А у тебя?
АЧ: У нас было общее книжное пространство — я имею в виду квартиру отца. Поначалу мы жили с бабушкой, а потом переехали в отдельную квартиру и у меня появился доступ к библиотеке и фонотеке отца. Он собирал и собирает диски. Преимущественно это русский рок, порой запредельные штуки, и я это слушал в довольно раннем возрасте.
ВК: Какие имена?
АЧ: БГ («Аквариум»), «Аукцыон», Майк Науменко («Зоопарк») и «Крематорий» — он, кстати, был едва ли не на виниле. А первые текстоцентричные впечатления — альбомы Вени Д'ркина, широко изданные уже после его смерти, и первые выпущенные официально диски Псоя Короленко: «Fioretti», «Песня про Бога» и т. д., самое начало двухтысячных.
ВК: Когда он только-только бородатым стал?
АЧ: Примерно. Там как раз на одной из обложек этот его образ а-ля отшельник.
ВК: Помнишь книги, которые особенно повлияли на тебя в детстве?
АЧ: Да, «Муми-тролли». У нас была серия тонких книг, в которых истории о муми-троллях выходили отдельными повестями. Они произвели на меня сильное впечатление и сохранились на всю дальнейшую жизнь на уровне цитат, образов, ролевых моделей.
Еще вспоминается «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла. Но он запомнился больше благодаря иллюстрациям, потому что, когда я перечитывал его с Олей года три-четыре назад, книга не произвела большого впечатления.
Сложно выделить что-то еще из детской литературы, ее было много, но она довольно быстро заслонилась самостоятельным чтением. У меня был период, года три или четыре (примерно с десяти до четырнадцати лет), когда я читал бесконечные фэнтези и фантастику. У отца была огромная библиотека издательства «Северо-Запад», — тогда это еще не выродилось в тот трэш, которым стала сейчас массовая фантастика, — и я прочитал томов двести, наверное. Из них мне мало что запомнилось, разве что Терри Пратчетт.
ВК: А как ты полюбил поэзию — через детские книги, в школе или вопреки ей?
АЧ: Не могу вспомнить точно, но вот именно интерес к русскому року привел меня на челябинский Арбат. Там было все вместе.
ВК: Играли? Читали?
АЧ: Не то чтобы читали, но у некоторых был литературный крен — через сибирский панк, через Летова — такая мерцающая металитературная история. И я одно время был участником совершенно неформальской литературной группы, которая называлась вполне в духе, с приветом в сторону декадентства, — «Обществом безумных поэтов». Там были люди из Челябинска, Саратова. Мы делали самиздатовские сборники, записывали альбомы, которые распространялись на кассетах. К тому времени я уже писал какие-то тексты и был подвержен сразу нескольким странным влияниям. С одной стороны, это школьный курс литературы, который докатился до начала XX века, где появились то, что было мне интересно. Не символизм и акмеизм, конечно, а футуризм. Литература, которая содержала внешнюю позу. Интересовали Вертинский, Маяковский.
Вторая — «падонкаффские» ресурсы, куда я попал, когда вышел в интернет. Читал Udaff.com, потом зарегистрировался и публиковал «креатиффы» в духе сайта, некие неуклюжие рифмованные эпатажные тексты. Через какое-то время я в ужасе грохнул эту страницу. Оттуда в 2003-м откочевал в ЖЖ, когда Udaff.com был уже в кризисе.
И третья история — собственно книжная, потому что у отца была и есть огромная библиотека. Она не очень заточена под поэзию, но тем не менее там были книги «Нового литературного обозрения», лауреаты Премии Андрея Белого, а самое главное, то, что меня сильно «повернуло», — антологии «Освобожденный Улисс» и «Девять измерений». И в какой-то момент, когда я прочитал все поэтическое, что было в библиотеке у отца, я начал исследовать челябинские магазины, искал все, что связано с современной поэзией.
Четко помню, как в 2002 году в районном книжном через дорогу от школы купил сборник «Плотность ожиданий» (первый «дебютный» поэтический сборник), где были Екатерина Боярских, Василий Чепелев, Данила Давыдов, Елена Костылева, и это был, конечно, взрыв мозга. Мне кажется, премия «Дебют» в информационном смысле так и должна была работать, чтобы человек четырнадцати лет в Челябинске случайно купил эту книжку и у него что-то перевернулось в голове.
Это был один из поворотных моментов — потом я начал покупать и читать все. Прочитал много странных, ненужных, бессмысленных текстов. Понятно, я брал за скобки Дементьева, Рубальскую, Губермана, Шендеровича и так далее, а остальное скупал, чтобы разобраться потом. В основном это были хорошие книги, выпущенные ОГИ, НЛО, «Колонной», ну, и другие, уже прозаические, книги, которые тоже повлияли на меня, но иначе.
ВК: Сейчас попробуй книги издательства Kolonna в Челябинске найти…
АЧ: На самом деле книги «Колонны» мало кто покупал в Челябинске. Но тогда были распространены книжные стоки: в большой ангар на окраине свозили книги, которые оказались невостребованными, чтобы хоть как-то продать. Там было много «колонновских» книг, в частности крайне редких. К примеру, я купил там «Китайское солнце» Аркадия Драгомощенко всего за тридцать рублей, когда его уже нигде было не достать.
И вот сочетание «дикого, но симпатичного» книжного рынка начала 2000-х, который выплевывал в регионы какие-то книги, и отцовской библиотеки, которая формировалась из того же самого (потом ее стал пополнять и я, привозя из Москвы полный чемодан — тридцать килограммов — книг из «Фаланстера»), и формировало мои вкусы и круг чтения.
ВК: А если говорить о влияниях, ты попал под чье-то?
АЧ: Эстрадно-футуристическая парадигма из школьной программы, про которую я уже сказал, органично сплеталась с активным слушанием русского рока и сибирского панка. И «дикой» сетературы, причем больше «падонкаффской», чем стихирушной, хотя на Стихи.ру у меня тоже была страница и я там довольно активно общался.
Тут нужен жирный дисклеймер: писать стихи я начал в 2002 году, и все, что написано до 2006–2007-го, — кромешный кошмар. Конечно, о каких-то текстах можно думать с нежностью, что-то можно было бы, как делали поэты Серебряного века, отредактировать и пустить в повторный оборот, но в целом это был гумус. В основном это происходило в интернете, хотя, когда я тусовался с нефорами на Арбате, я писал в духе футуристов: играл со шрифтами, собирал в «Ворде», распечатывал, брошюровал и распространял небольшие книжки. Страницу на Udaff.com я уничтожил. ЖЖ сознательно закрывать не стал, и тексты того времени легли в основу блэкаут-книжки «Ветер по частям».
ВК: Ранние тексты в кальпидиевских антологиях, случаем, не опубликованы?
АЧ: Первая антология, в которую я попал, была издана, кажется, в 2008 году. Там тексты неуклюжие, но за них не так стыдно. Самая стыдная — автобиография. Вообще, писать автобиографию, когда тебе исполнилось двадцать, — странное занятие. Когда ты не воспринимаешь это как упражнение литературное. Если бы прошло хотя бы лет пять, это была бы парабиография, метабиография, текст с элементом игры, а тогда я просто отобрал некие значимые события — и сейчас есть желание от нее дистанцироваться. От текста, конечно, не от своей жизни.
ВК: А в школе современных авторов не проходили?
АЧ: В нашем учебнике литературы была страничка или две с новейшими, с точки зрения авторов, тенденциями в современной русской поэзии, условно после Бродского. Там были концептуалисты и метареалисты: Пригов, Рубинштейн, под общую гребенку причисляемый к концептуалистскому кругу Кибиров и Жданов с Еременко. Парщикова, по-моему, не было.
ВК: От Урала там был, наверное, только Борис Рыжий?
АЧ: В школе его не было вообще. Единственный уральский поэт, который находится условно в школьном каноне, — это Людмила Татьяничева. Ее именем названа улица. Урал тогда вообще не был представлен на моей внутренней литературной карте. Хотя я параллельно с антологиями Кузьмина прочитал первый том антологии УПШ, но почему-то не мог представить, что эти люди живут в Челябинске, Перми и так далее.
Был курьез, относящийся к стихирушной эпохе. Мы активно читали друг друга с Сашей Петрушкиным, который был зарегистрирован под одним из многочисленных псевдонимов — Александр Вронников. Я, конечно, не знал, что он из Челябинска, а в тот момент, когда мы сидели на Стихи.ру и оставляли друг другу комментарии, жили в двух кварталах друг от друга.
ВК: Он тогда в Челябинске жил?
АЧ: На улице Цвиллинга, в доме, мимо которого я много раз проходил. По дороге была общага театрального института, где я регулярно бывал: вначале вместе с мамой у ее друзей, потом уже у моих, которые учились в театральном.
ВК: Сам не играл?
АЧ: Я был звездой школьных поэтических чтений, концертов, где читал стихи.
ВК: Как чтец или как автор?
АЧ: Как чтец исключительно. Своих текстов я нигде не читал, не считая неформальских сборищ, до первого курса института. А потом мы уже познакомились с Сашей Маниченко и стали ездить на фестивали.
ВК: «ЛитератуРРентген» в твоей жизни случилась до переезда в Москву?
АЧ: В премиальной истории — уже когда переехал. Это был конец 2007 года. Мои тексты номинировали, а единственной причиной моего появления там (раньше я приезжал на «Рентген» как слушатель) была Екатерина Костицына, которая отказалась от участия. Она была в тройке, а я — четвертым.
ВК: Неужели и победить удалось?
АЧ: Я не получил ни одной премии, хотя был в бесконечных шорт-листах. На моем счету три или четыре финальных списка «ЛитератуРРентгена». Там, кстати, побеждали мои хорошие друзья, в один год — Сережа Луговик, в другой — Саша Маниченко. «Рентгену», кстати, я могу быть благодарен за одну вещь: в тот сезон, когда победил Луговик, мы познакомились с Катей. А через год она переехала ко мне в Москву.
ВК: А ты сам переезжал конкретно в Литинститут или вначале был переезд, а потом поступление?
АЧ: Тут нужна предыстория. Я поступил в Челябинске на политолога и проучился два года. В год поступления, кстати, предпринял попытку уехать в Москву и подал документы в МГУ, но из-за определенных причин вернулся в Челябинск, и вариантов было уже не так-то много.
В ЧелГУ я познакомился с Сашей Маниченко, через него — с другими молодыми уральскими авторами, и на протяжении двух лет мы участвовали в любой движухе: фестивалях, тусовках, слушали кого-то и друг друга, и за эти два года возникло ощущение исчерпанности. Тогда же мы с Сашей в шутку отправили подборки на творческий конкурс в Литинститут, были абсолютно уверены, что не пройдем: наши тексты казались абсолютно перпендикулярными тому, чем нам виделся Лит.
На наше счастье или несчастье в том году семинар набирал Евгений Юрьевич Сидоров, человек широких взглядов. И вот через несколько месяцев, когда мы и думать забыли про подборки, нам пришли письма: ребята, приезжайте поступать. К тому времени мы настолько устали от Челябинска, что сели у Саши в квартире — я хорошо помню этот день — и стали обсуждать: ну что, поехали? И поехали.
Это был не худший способ провести пять лет (улыбается). И однозначно лучше, чем доучиться в Челябинске и пытаться в текущей политической реальности быть политологом, политконсультантом, да кем угодно в этом поле. А еще нам повезло: курс был фантастическим! Помимо нас с Сашей, это были Эдик Лукоянов, Сережа Луговик, Таня Барботина, Оля Машинец…
ВК: Люди, оставшиеся в литературе?
АЧ: Не все. Та же Таня Барботина, к сожалению, мало пишет и публикуется. Остались многие, но важнее не это, а среда, которая не разъедала, а, наоборот, взаимно подпитывала всеми возможными способами.
ВК: С общажной жизнью столкнуться удалось?
АЧ: Я изначально снимал квартиру, и она была одной из наших главных баз. Поэтому эпоха квартиры на Большой Грузинской до того, как у меня появилась семья, тоже может быть отмечена в истории молодой московской литературы (улыбается).
ВК: Как двигалась кривая твоей поэтики? Повлиял ли Литинститут, тот же Сидоров?
АЧ: Евгений Юрьевич сам по себе, думаю, не влиял ни на кого — у него природа такая. Зато он сформировал многоголосый, разнонаправленный семинар и наблюдал, как он развивается. Не скажу, как конкретно влиял Литинститут. В целом за десять лет, с 2002-го до выпуска в 2012-м, у меня было довольно неотрефлексированное письмо. Что-то происходило и менялось внутри, но твое состояние не должно влиять на твои тексты.
ВК: А что? Мир? Конкретные люди?
АЧ: Целеполагание — когда ставишь цели или видишь что-то. Вот повод для текстов. А не состояния, когда тебе плохо или хорошо, или ты, например, влюблен.
ВК: То есть нужен концепт?
АЧ: Скорее, некая дистилляция, не связанная с тем, что происходит с тобой ежедневно. В целом могу сказать, что все тексты, написанные с 2002-го по 2012-й, в частности тексты, вошедшие в книгу «Легче, чем кажется», написаны из очень нерефлексивной позиции, из влияний и состояний, которые претворились в тексты той или иной удачности.
ВК: Откуда у тебя тяга к эксперименту? Имею в виду и блэкауты, и found poetry, и тексты из переводчиков, и так далее. Получается, поэзию можно извлечь из чего угодно?
АЧ: В принципе, да. Это началось еще во время учебы в Литинституте, а потом я стал рефлексировать метод и осваивать ранее неосвоенные территории. Пространство, которое не было задействовано литературой, может быть наиболее продуктивным. Авангардный жест любого свойства возможен только на пересечении двух кругов — конвенции и новизны.
Хотя в своих проектах я все равно остаюсь на орбите, которая соединяет меня с конвенциональным полем литературы, в виде того, как эти тексты выглядят: как текст — не камень, не код.
АЧ: У нас было общее книжное пространство — я имею в виду квартиру отца. Поначалу мы жили с бабушкой, а потом переехали в отдельную квартиру и у меня появился доступ к библиотеке и фонотеке отца. Он собирал и собирает диски. Преимущественно это русский рок, порой запредельные штуки, и я это слушал в довольно раннем возрасте.
ВК: Какие имена?
АЧ: БГ («Аквариум»), «Аукцыон», Майк Науменко («Зоопарк») и «Крематорий» — он, кстати, был едва ли не на виниле. А первые текстоцентричные впечатления — альбомы Вени Д'ркина, широко изданные уже после его смерти, и первые выпущенные официально диски Псоя Короленко: «Fioretti», «Песня про Бога» и т. д., самое начало двухтысячных.
ВК: Когда он только-только бородатым стал?
АЧ: Примерно. Там как раз на одной из обложек этот его образ а-ля отшельник.
ВК: Помнишь книги, которые особенно повлияли на тебя в детстве?
АЧ: Да, «Муми-тролли». У нас была серия тонких книг, в которых истории о муми-троллях выходили отдельными повестями. Они произвели на меня сильное впечатление и сохранились на всю дальнейшую жизнь на уровне цитат, образов, ролевых моделей.
Еще вспоминается «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла. Но он запомнился больше благодаря иллюстрациям, потому что, когда я перечитывал его с Олей года три-четыре назад, книга не произвела большого впечатления.
Сложно выделить что-то еще из детской литературы, ее было много, но она довольно быстро заслонилась самостоятельным чтением. У меня был период, года три или четыре (примерно с десяти до четырнадцати лет), когда я читал бесконечные фэнтези и фантастику. У отца была огромная библиотека издательства «Северо-Запад», — тогда это еще не выродилось в тот трэш, которым стала сейчас массовая фантастика, — и я прочитал томов двести, наверное. Из них мне мало что запомнилось, разве что Терри Пратчетт.
ВК: А как ты полюбил поэзию — через детские книги, в школе или вопреки ей?
АЧ: Не могу вспомнить точно, но вот именно интерес к русскому року привел меня на челябинский Арбат. Там было все вместе.
ВК: Играли? Читали?
АЧ: Не то чтобы читали, но у некоторых был литературный крен — через сибирский панк, через Летова — такая мерцающая металитературная история. И я одно время был участником совершенно неформальской литературной группы, которая называлась вполне в духе, с приветом в сторону декадентства, — «Обществом безумных поэтов». Там были люди из Челябинска, Саратова. Мы делали самиздатовские сборники, записывали альбомы, которые распространялись на кассетах. К тому времени я уже писал какие-то тексты и был подвержен сразу нескольким странным влияниям. С одной стороны, это школьный курс литературы, который докатился до начала XX века, где появились то, что было мне интересно. Не символизм и акмеизм, конечно, а футуризм. Литература, которая содержала внешнюю позу. Интересовали Вертинский, Маяковский.
Вторая — «падонкаффские» ресурсы, куда я попал, когда вышел в интернет. Читал Udaff.com, потом зарегистрировался и публиковал «креатиффы» в духе сайта, некие неуклюжие рифмованные эпатажные тексты. Через какое-то время я в ужасе грохнул эту страницу. Оттуда в 2003-м откочевал в ЖЖ, когда Udaff.com был уже в кризисе.
И третья история — собственно книжная, потому что у отца была и есть огромная библиотека. Она не очень заточена под поэзию, но тем не менее там были книги «Нового литературного обозрения», лауреаты Премии Андрея Белого, а самое главное, то, что меня сильно «повернуло», — антологии «Освобожденный Улисс» и «Девять измерений». И в какой-то момент, когда я прочитал все поэтическое, что было в библиотеке у отца, я начал исследовать челябинские магазины, искал все, что связано с современной поэзией.
Четко помню, как в 2002 году в районном книжном через дорогу от школы купил сборник «Плотность ожиданий» (первый «дебютный» поэтический сборник), где были Екатерина Боярских, Василий Чепелев, Данила Давыдов, Елена Костылева, и это был, конечно, взрыв мозга. Мне кажется, премия «Дебют» в информационном смысле так и должна была работать, чтобы человек четырнадцати лет в Челябинске случайно купил эту книжку и у него что-то перевернулось в голове.
Это был один из поворотных моментов — потом я начал покупать и читать все. Прочитал много странных, ненужных, бессмысленных текстов. Понятно, я брал за скобки Дементьева, Рубальскую, Губермана, Шендеровича и так далее, а остальное скупал, чтобы разобраться потом. В основном это были хорошие книги, выпущенные ОГИ, НЛО, «Колонной», ну, и другие, уже прозаические, книги, которые тоже повлияли на меня, но иначе.
ВК: Сейчас попробуй книги издательства Kolonna в Челябинске найти…
АЧ: На самом деле книги «Колонны» мало кто покупал в Челябинске. Но тогда были распространены книжные стоки: в большой ангар на окраине свозили книги, которые оказались невостребованными, чтобы хоть как-то продать. Там было много «колонновских» книг, в частности крайне редких. К примеру, я купил там «Китайское солнце» Аркадия Драгомощенко всего за тридцать рублей, когда его уже нигде было не достать.
И вот сочетание «дикого, но симпатичного» книжного рынка начала 2000-х, который выплевывал в регионы какие-то книги, и отцовской библиотеки, которая формировалась из того же самого (потом ее стал пополнять и я, привозя из Москвы полный чемодан — тридцать килограммов — книг из «Фаланстера»), и формировало мои вкусы и круг чтения.
ВК: А если говорить о влияниях, ты попал под чье-то?
АЧ: Эстрадно-футуристическая парадигма из школьной программы, про которую я уже сказал, органично сплеталась с активным слушанием русского рока и сибирского панка. И «дикой» сетературы, причем больше «падонкаффской», чем стихирушной, хотя на Стихи.ру у меня тоже была страница и я там довольно активно общался.
Тут нужен жирный дисклеймер: писать стихи я начал в 2002 году, и все, что написано до 2006–2007-го, — кромешный кошмар. Конечно, о каких-то текстах можно думать с нежностью, что-то можно было бы, как делали поэты Серебряного века, отредактировать и пустить в повторный оборот, но в целом это был гумус. В основном это происходило в интернете, хотя, когда я тусовался с нефорами на Арбате, я писал в духе футуристов: играл со шрифтами, собирал в «Ворде», распечатывал, брошюровал и распространял небольшие книжки. Страницу на Udaff.com я уничтожил. ЖЖ сознательно закрывать не стал, и тексты того времени легли в основу блэкаут-книжки «Ветер по частям».
ВК: Ранние тексты в кальпидиевских антологиях, случаем, не опубликованы?
АЧ: Первая антология, в которую я попал, была издана, кажется, в 2008 году. Там тексты неуклюжие, но за них не так стыдно. Самая стыдная — автобиография. Вообще, писать автобиографию, когда тебе исполнилось двадцать, — странное занятие. Когда ты не воспринимаешь это как упражнение литературное. Если бы прошло хотя бы лет пять, это была бы парабиография, метабиография, текст с элементом игры, а тогда я просто отобрал некие значимые события — и сейчас есть желание от нее дистанцироваться. От текста, конечно, не от своей жизни.
ВК: А в школе современных авторов не проходили?
АЧ: В нашем учебнике литературы была страничка или две с новейшими, с точки зрения авторов, тенденциями в современной русской поэзии, условно после Бродского. Там были концептуалисты и метареалисты: Пригов, Рубинштейн, под общую гребенку причисляемый к концептуалистскому кругу Кибиров и Жданов с Еременко. Парщикова, по-моему, не было.
ВК: От Урала там был, наверное, только Борис Рыжий?
АЧ: В школе его не было вообще. Единственный уральский поэт, который находится условно в школьном каноне, — это Людмила Татьяничева. Ее именем названа улица. Урал тогда вообще не был представлен на моей внутренней литературной карте. Хотя я параллельно с антологиями Кузьмина прочитал первый том антологии УПШ, но почему-то не мог представить, что эти люди живут в Челябинске, Перми и так далее.
Был курьез, относящийся к стихирушной эпохе. Мы активно читали друг друга с Сашей Петрушкиным, который был зарегистрирован под одним из многочисленных псевдонимов — Александр Вронников. Я, конечно, не знал, что он из Челябинска, а в тот момент, когда мы сидели на Стихи.ру и оставляли друг другу комментарии, жили в двух кварталах друг от друга.
ВК: Он тогда в Челябинске жил?
АЧ: На улице Цвиллинга, в доме, мимо которого я много раз проходил. По дороге была общага театрального института, где я регулярно бывал: вначале вместе с мамой у ее друзей, потом уже у моих, которые учились в театральном.
ВК: Сам не играл?
АЧ: Я был звездой школьных поэтических чтений, концертов, где читал стихи.
ВК: Как чтец или как автор?
АЧ: Как чтец исключительно. Своих текстов я нигде не читал, не считая неформальских сборищ, до первого курса института. А потом мы уже познакомились с Сашей Маниченко и стали ездить на фестивали.
ВК: «ЛитератуРРентген» в твоей жизни случилась до переезда в Москву?
АЧ: В премиальной истории — уже когда переехал. Это был конец 2007 года. Мои тексты номинировали, а единственной причиной моего появления там (раньше я приезжал на «Рентген» как слушатель) была Екатерина Костицына, которая отказалась от участия. Она была в тройке, а я — четвертым.
ВК: Неужели и победить удалось?
АЧ: Я не получил ни одной премии, хотя был в бесконечных шорт-листах. На моем счету три или четыре финальных списка «ЛитератуРРентгена». Там, кстати, побеждали мои хорошие друзья, в один год — Сережа Луговик, в другой — Саша Маниченко. «Рентгену», кстати, я могу быть благодарен за одну вещь: в тот сезон, когда победил Луговик, мы познакомились с Катей. А через год она переехала ко мне в Москву.
ВК: А ты сам переезжал конкретно в Литинститут или вначале был переезд, а потом поступление?
АЧ: Тут нужна предыстория. Я поступил в Челябинске на политолога и проучился два года. В год поступления, кстати, предпринял попытку уехать в Москву и подал документы в МГУ, но из-за определенных причин вернулся в Челябинск, и вариантов было уже не так-то много.
В ЧелГУ я познакомился с Сашей Маниченко, через него — с другими молодыми уральскими авторами, и на протяжении двух лет мы участвовали в любой движухе: фестивалях, тусовках, слушали кого-то и друг друга, и за эти два года возникло ощущение исчерпанности. Тогда же мы с Сашей в шутку отправили подборки на творческий конкурс в Литинститут, были абсолютно уверены, что не пройдем: наши тексты казались абсолютно перпендикулярными тому, чем нам виделся Лит.
На наше счастье или несчастье в том году семинар набирал Евгений Юрьевич Сидоров, человек широких взглядов. И вот через несколько месяцев, когда мы и думать забыли про подборки, нам пришли письма: ребята, приезжайте поступать. К тому времени мы настолько устали от Челябинска, что сели у Саши в квартире — я хорошо помню этот день — и стали обсуждать: ну что, поехали? И поехали.
Это был не худший способ провести пять лет (улыбается). И однозначно лучше, чем доучиться в Челябинске и пытаться в текущей политической реальности быть политологом, политконсультантом, да кем угодно в этом поле. А еще нам повезло: курс был фантастическим! Помимо нас с Сашей, это были Эдик Лукоянов, Сережа Луговик, Таня Барботина, Оля Машинец…
ВК: Люди, оставшиеся в литературе?
АЧ: Не все. Та же Таня Барботина, к сожалению, мало пишет и публикуется. Остались многие, но важнее не это, а среда, которая не разъедала, а, наоборот, взаимно подпитывала всеми возможными способами.
ВК: С общажной жизнью столкнуться удалось?
АЧ: Я изначально снимал квартиру, и она была одной из наших главных баз. Поэтому эпоха квартиры на Большой Грузинской до того, как у меня появилась семья, тоже может быть отмечена в истории молодой московской литературы (улыбается).
ВК: Как двигалась кривая твоей поэтики? Повлиял ли Литинститут, тот же Сидоров?
АЧ: Евгений Юрьевич сам по себе, думаю, не влиял ни на кого — у него природа такая. Зато он сформировал многоголосый, разнонаправленный семинар и наблюдал, как он развивается. Не скажу, как конкретно влиял Литинститут. В целом за десять лет, с 2002-го до выпуска в 2012-м, у меня было довольно неотрефлексированное письмо. Что-то происходило и менялось внутри, но твое состояние не должно влиять на твои тексты.
ВК: А что? Мир? Конкретные люди?
АЧ: Целеполагание — когда ставишь цели или видишь что-то. Вот повод для текстов. А не состояния, когда тебе плохо или хорошо, или ты, например, влюблен.
ВК: То есть нужен концепт?
АЧ: Скорее, некая дистилляция, не связанная с тем, что происходит с тобой ежедневно. В целом могу сказать, что все тексты, написанные с 2002-го по 2012-й, в частности тексты, вошедшие в книгу «Легче, чем кажется», написаны из очень нерефлексивной позиции, из влияний и состояний, которые претворились в тексты той или иной удачности.
ВК: Откуда у тебя тяга к эксперименту? Имею в виду и блэкауты, и found poetry, и тексты из переводчиков, и так далее. Получается, поэзию можно извлечь из чего угодно?
АЧ: В принципе, да. Это началось еще во время учебы в Литинституте, а потом я стал рефлексировать метод и осваивать ранее неосвоенные территории. Пространство, которое не было задействовано литературой, может быть наиболее продуктивным. Авангардный жест любого свойства возможен только на пересечении двух кругов — конвенции и новизны.
Хотя в своих проектах я все равно остаюсь на орбите, которая соединяет меня с конвенциональным полем литературы, в виде того, как эти тексты выглядят: как текст — не камень, не код.

ВК: А вот, посмотри, у тебя есть строки: «снаружи осыпается / сквозит / везет бессильный / двигатель по кругу». Читатель ждет определенного ритмического продолжения, но ты меняешь ритм: «и вот опять / я как в начальной школе / деревьев глажу листья / дорогих». Это ведь тоже разрушение конвенции?
АЧ: Не в такой степени. Этот эксперимент был, скорее, органикой в русле общего дрейфа русской поэзии в сторону гетероморфного стиха, который не является чистым свободным стихом, а содержит осколки регулярных метров той или иной длины, просто не придерживается одной твердой формы. И на внутреннем уровне, когда идешь за дыханием, речью, она не является ни регулярной, ни чистым свободным стихом.
ВК: В твоих работах (я не только о блэкаутах, а и о текстах вообще, и графике) заметна тяга к минимализму. Даже твой издательский проект «всегоничего» — это книжки-малютки (если убрать за скобки сборники Андрея Сен-Сенькова и Аси Энгеле). Как родилась идея проекта?
АЧ: Я несколько лет хотел создать проект, посвященный минимализму в современной литературе. Мне кажется, это явление в силу вынужденной маргинальности оставалось у нас недопредставленным. Мне хотелось высветить его четче, причем в разных формах — от конкретизма и концептуализма, как у Ивана Ахметьева, до комбинаторных практик, малой прозы, хайку на русском языке, как у Марины Хаген. Не считая формата книг, мне кажется, сборники Аси Энгеле и Андрея Сен-Сенькова в эту концепцию укладываются.
В случае Энгеле это более очевидно. Ее сравнительно длинные стихи разложены практически по одному слову в строке и воспринимаются как хрупкие конструкции. И родственны по типу работы поэтическому минимализму. А у Сен-Сенькова каждый текст — микромир, шарик со снегом. Несмотря на то, что они детализированы и в среднем достаточно длинны, мне кажется, они тоже имеют отношение к минимализму.
Я этим занимаюсь потому, что минималистические практики мне кажутся важными. И, если у этого направления будет хотя бы мерцающая институциализация, возможно, больше авторов задумаются о том, чтобы двигаться в этом направлении. То есть у меня отчасти эгоистический интерес: мне интересно читать подобные тексты и хочется, чтобы их стало больше.
ВК: Помимо поэзии, ты обращаешься и к прозе. Я имею в виду разделенный на фрагменты роман Сергея Васильева (в серию «всего ничего» взят один фрагмент).
АЧ: В проекте вышли две прозаических книги: «49» Сергея Васильева и «Рецепторы бытия» Марии Ботевой, повесть в фрагментах. Так что пока это не отдельные тексты. Отчасти к ним тяготеет книга Михаила Бараша — стихотворения в прозе, на грани с поэзией.
Скоро появится и первая переводная книга: Деннис Силк в переводе Гали-Даны Зингер и Некогда Зингера, и это тоже сборник, состоящий из небольших главок.
ВК: Как автору вписаться в издательскую логику? Тебе важны конкретные или абсолютно любые направления минимализма?
АЧ: У меня установка на минимализм и малые формы, обычно фрагментарные, плюс собственная логика. Я не могу полностью отстраниться от того, как я прочитываю и понимаю тексты. Все-таки это мой личный проект, и вещи, которые мне не кажутся достойными публикации, я не буду публиковать, потому что это мое время и ресурсы. Я не хочу их тратить и транслировать то, что мне не кажется важным. А рукописи, конечно, можно присылать, я все прочитаю и сделаю выводы.
Если говорить об именах и возможных книгах, пока у меня достаточно планов, но скоро мое знание этого поля закончится, а оно должно быть шире, чем я его представляю. Из ближайшего: следом за Деннисом Силком выйдут две прозаические книги — дебютный сборник Александры Киселевой «Цветы 24» (проза и текстовые проекты на грани прозы и современного искусства с коллажными интервенциями в газетный текст) и книга коротких, сгущенных, очень сюжетных миниатюр Данилы Давыдова «Не рыба».
ВК: Как я понимаю, финансирования у проекта нет? Удается ли отбивать затраты с помощью подписки или это еще, помимо времени, твои личные траты?
АЧ: Конечно, и мои личные. В первый год, плюс-минус, предзаказами покрывалась значительная часть стоимости тиража, но тоже не на сто процентов. Исключением была книга Сен-Сенькова, которую Андрей предложил распространять только по подписке, и мы напечатали ровно столько книг, сколько заказали. Я честно не стал печатать ничего сверху. Но в целом да, ресурсы.
Где-то удается подписка, где-то нет. Деннис Силк, например, не очень известен, понятно, он не может за себя агитировать, поэтому предзаказов пока практически нет. Но я все равно издам эту книгу. Важно, чтобы она была напечатана.
ВК: Как популяризатор ты рассказываешь и о поэзии нейросетей. Что она собой представляет сегодня и не обесценивает ли опыт поэта-экспериментатора?
АЧ: Мне кажется, нейропоэзия не ставит под сомнение деятельность поэтов-экспериментаторов, наоборот, дает новый ценный инструмент для их работы. Понятно, что нейропоэты и нейропоэтические проекты проблематизируют фигуру автора и границы авторского высказывания. Чьим считать поэтическое произведение, сгенерированное нейросетью, за которым стоят минимум два человека: ее автор (тот, кто написал сеть) и оператор, который сгенерировал конкретный текст либо воспитал нейросеть на определенном корпусе текстов. Это, конечно, влияет на результат.
ВК: Например, можно воспитать сеть на корпусе текстов Мандельштама…
АЧ: Допустим. То, как это было сделано в сборнике «Нейролирика», эксперименте Бориса Орехова. Но там был виден явный исследовательский характер. Интересно было бы не просто научить нейросеть на чем-нибудь определенном, а делать это какое-то время, совершенствовать ее обучение, посмотреть, до какого предела оно может дойти и как его можно повернуть в ту или другую сторону.
ВК: Смогут ли нейросети когда-нибудь писать лучше людей?
АЧ: Уже сейчас у нейропоэта есть тексты, в которых условный читатель современной поэзии ничего не заподозрит. Но если мы выставим рамку условной подозрительности — вот, посмотрите на пять текстов и скажите, какие из них написал человек, а какие — нейросеть, — тогда можно будет анализировать результаты. Но и тут, мне кажется, если тщательно подобрать тексты, все будет неочевидно. И до нейрописьма поэтики живых авторов двигались в сторону нарочито разъятого высказывания.
Конечно, кто-то считает, что развитие нейропоэзии похоронит этот тип высказывания, потому что нет смысла имитировать диффузное машинное письмо, если это может делать машина. Я с этим не согласен, но наверняка авторы трижды подумают, прежде чем встраиваться в подобную поэтику.
ВК: Когда появилась фотография, реалистичные портреты стали по большому счету не нужны и изобразительное искусство пошло в сторону эксперимента.
АЧ: Здесь, мне кажется, нет прямой связи. Задача была упрощена, и, естественно, люди начали пользоваться тем, что проще. И мы логично переходим от реалистичных портретов к студийным портретам, потом к любительским камерам, наконец, к селфи.
У поэзии такой прагматичной логики нет. Вот если бы у нас до сих пор была развита культура од, например, на чье-нибудь восшествие на престол, то нейросеть могла бы генерировать подобные тексты километрами. И авторы од быстро бы лишились работы. То есть если бы была индустрия. А здесь, мне кажется, перераспределяется концептуальное поле поэзии. Ты входишь в него, уже зная, что есть нейротексты, и как-то от них отстраиваешься.
ВК: Силовое поле перекраивают и периодически возникающие конфликты. Тебя не беспокоит повышенная конфликтность в литсреде, тот же кейс с «Моей вагиной»?
АЧ: В целом, конечно, беспокоит, потому что я человек мирный и хотел бы, чтобы все жили дружно. Понятно, что это невозможно и, наверное, не нужно, потому что здоровая конфликтность требуется для прояснения собственных принципов, для развития литературы в целом. Полемика, которая помогает сформулировать собственные принципы, отстроить и отстоять их перед другими, — это здоровые вещи.
Естественно, это не касается кейса, сложившегося вокруг стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина», потому что это было за гранью добра и зла. Со всем хамством и переходом на недопустимые для полемики приемы, он произошел за пределами того литературного поля, к которому я себя причисляю. Это, конечно, немного эскапистская позиция. Я как бы считаю, что это находится за пределами моего поля и этого как бы нет. Но оно есть, и это территория, к которой мне не хочется иметь никакого отношения.
ВК: Что может втянуть тебя в конфликт в литсреде?
АЧ: Это мало возможно. Хотя, если это коснется меня лично, я не буду молчать. А в остальном у меня достаточно пассивная позиция. Конечно, я принимаю внутренние решения, и они могут на что-то влиять в публикаторских и редакторских вещах.
ВК: Давай тогда перейдем к публикаторским и редакторским темам. Имею в виду твое сотрудничество с «Грезой» и «Полутонами». Чем ты руководствуешься, размещая те или иные тексты на «Полутонах»? В частности, у тебя достаточно много редакторских публикаций в «Звательном падеже» — порой не самых сильных текстов.
АЧ: У «Полутонов» в прошлом году появился общий редакционный ящик, куда стал приходить внешний самотек. Долгое время им никто особо не занимался, и, наконец, я решил делать это сам. Большое количество публикаций в «Звательном падеже» связано в первую очередь с этим. Я разбираю самотек, нахожу тексты, в которых мне видится некое обещание, перспектива, разумеется с оглядкой на эту сумеречную рубрику.
Конечно, я не публикую все подряд. Примерно половина самотека отправляется куда-то дальше. Сейчас на «Полутонах» у меня нет редакторской стратегии, кроме вот этого общего редакционного фильтра. Да и раньше не было цели выстраивать сквозное редакторское высказывание. Мне кажется, формат ресурса это не совсем предполагает.
ВК: А в случае «Грезы»?
АЧ: В «Грезе» я являюсь членом редсовета, но не очень активно участвую в публикаторской деятельности. В основном подбираю иллюстрации для материалов, но иногда предлагаю и подборки. В последнее время это, скорее, проекты, которые могут стать виртуальными выставками в разделе «Галерея». Эта область в логике «Грезы» мне оказалась ближе всего остального.
Недавно я подготовил выставку Снежаны Рейзен. Это коллажи, которые она делала для книги Аси Энгеле «Ускорение собственное». На обложке два коллажа, в книге еще четыре, а всего сделано порядка двадцати штук. Вот мы их и собрали в выставку, а Энгеле написала сопроводительный текст.
ВК: В прошлом году ты пришел в «Новое литературное обозрение» на должность арт-менеджера. Как возникло сотрудничество? В чем заключаются твои обязанности?
АЧ: Меня уже несколько лет звали на разные должности в «Новом литературном обозрении». Сначала, когда Сережа Луговик был PR-директором, — к себе в отдел, потом в отдел реализации и так далее, но мне все время хотелось другого.
И вот прошлой зимой Ирина Дмитриевна Прохорова предложила мне стать арт-менеджером. Эта относительно новая должность. Я координирую процесс создания книжных обложек, чтобы мысли, идеи и решения, связанные с ними, работали в согласии. Здесь нет творческой составляющей. Понятно, что сам я тоже делаю обложки — в своем проекте и в некоторых других: в «Парадигме», ранее для «Контекста». Но в целом это чисто менеджерская задача.
Кроме того, многим сериям «Нового литературного обозрения» требуется редизайн. Это тоже часть моей работы — находить новых дизайнеров и новые студии, которые занимаются редизайном серий или разработкой новых дизайнов.
ВК: Обогащает ли твой поэтический инструментарий общение с Олей, Колей и Яной? Можно ли сказать, что ты — творчеством и экспериментом, а они — детством говорите на одном языке?
АЧ: Сложно сказать, потому что и моя поэтика изменилась, и дети еще не вполне освоили стихию языка. Кто-то совсем нет, как Яна, кто-то, как Коля, только в нее вступает. Но я помню, когда Оля начала говорить и взаимодействовать с языком, какие-то сказанные ею вещи попали в мои тексты тех времен. Впоследствии моя поэтика настолько изменилась, что из нее выпали отголоски человеческого общения. Все оказалось замещено внешними языковыми конструкциями, но не потому, что в детском языке для меня ничего нет, а потому, что мое письмо стало питаться от других источников. Возможно, это вернется, когда Коля и Яна подрастут и возникнет новое полифоническое поле общего разговора.
АЧ: Не в такой степени. Этот эксперимент был, скорее, органикой в русле общего дрейфа русской поэзии в сторону гетероморфного стиха, который не является чистым свободным стихом, а содержит осколки регулярных метров той или иной длины, просто не придерживается одной твердой формы. И на внутреннем уровне, когда идешь за дыханием, речью, она не является ни регулярной, ни чистым свободным стихом.
ВК: В твоих работах (я не только о блэкаутах, а и о текстах вообще, и графике) заметна тяга к минимализму. Даже твой издательский проект «всегоничего» — это книжки-малютки (если убрать за скобки сборники Андрея Сен-Сенькова и Аси Энгеле). Как родилась идея проекта?
АЧ: Я несколько лет хотел создать проект, посвященный минимализму в современной литературе. Мне кажется, это явление в силу вынужденной маргинальности оставалось у нас недопредставленным. Мне хотелось высветить его четче, причем в разных формах — от конкретизма и концептуализма, как у Ивана Ахметьева, до комбинаторных практик, малой прозы, хайку на русском языке, как у Марины Хаген. Не считая формата книг, мне кажется, сборники Аси Энгеле и Андрея Сен-Сенькова в эту концепцию укладываются.
В случае Энгеле это более очевидно. Ее сравнительно длинные стихи разложены практически по одному слову в строке и воспринимаются как хрупкие конструкции. И родственны по типу работы поэтическому минимализму. А у Сен-Сенькова каждый текст — микромир, шарик со снегом. Несмотря на то, что они детализированы и в среднем достаточно длинны, мне кажется, они тоже имеют отношение к минимализму.
Я этим занимаюсь потому, что минималистические практики мне кажутся важными. И, если у этого направления будет хотя бы мерцающая институциализация, возможно, больше авторов задумаются о том, чтобы двигаться в этом направлении. То есть у меня отчасти эгоистический интерес: мне интересно читать подобные тексты и хочется, чтобы их стало больше.
ВК: Помимо поэзии, ты обращаешься и к прозе. Я имею в виду разделенный на фрагменты роман Сергея Васильева (в серию «всего ничего» взят один фрагмент).
АЧ: В проекте вышли две прозаических книги: «49» Сергея Васильева и «Рецепторы бытия» Марии Ботевой, повесть в фрагментах. Так что пока это не отдельные тексты. Отчасти к ним тяготеет книга Михаила Бараша — стихотворения в прозе, на грани с поэзией.
Скоро появится и первая переводная книга: Деннис Силк в переводе Гали-Даны Зингер и Некогда Зингера, и это тоже сборник, состоящий из небольших главок.
ВК: Как автору вписаться в издательскую логику? Тебе важны конкретные или абсолютно любые направления минимализма?
АЧ: У меня установка на минимализм и малые формы, обычно фрагментарные, плюс собственная логика. Я не могу полностью отстраниться от того, как я прочитываю и понимаю тексты. Все-таки это мой личный проект, и вещи, которые мне не кажутся достойными публикации, я не буду публиковать, потому что это мое время и ресурсы. Я не хочу их тратить и транслировать то, что мне не кажется важным. А рукописи, конечно, можно присылать, я все прочитаю и сделаю выводы.
Если говорить об именах и возможных книгах, пока у меня достаточно планов, но скоро мое знание этого поля закончится, а оно должно быть шире, чем я его представляю. Из ближайшего: следом за Деннисом Силком выйдут две прозаические книги — дебютный сборник Александры Киселевой «Цветы 24» (проза и текстовые проекты на грани прозы и современного искусства с коллажными интервенциями в газетный текст) и книга коротких, сгущенных, очень сюжетных миниатюр Данилы Давыдова «Не рыба».
ВК: Как я понимаю, финансирования у проекта нет? Удается ли отбивать затраты с помощью подписки или это еще, помимо времени, твои личные траты?
АЧ: Конечно, и мои личные. В первый год, плюс-минус, предзаказами покрывалась значительная часть стоимости тиража, но тоже не на сто процентов. Исключением была книга Сен-Сенькова, которую Андрей предложил распространять только по подписке, и мы напечатали ровно столько книг, сколько заказали. Я честно не стал печатать ничего сверху. Но в целом да, ресурсы.
Где-то удается подписка, где-то нет. Деннис Силк, например, не очень известен, понятно, он не может за себя агитировать, поэтому предзаказов пока практически нет. Но я все равно издам эту книгу. Важно, чтобы она была напечатана.
ВК: Как популяризатор ты рассказываешь и о поэзии нейросетей. Что она собой представляет сегодня и не обесценивает ли опыт поэта-экспериментатора?
АЧ: Мне кажется, нейропоэзия не ставит под сомнение деятельность поэтов-экспериментаторов, наоборот, дает новый ценный инструмент для их работы. Понятно, что нейропоэты и нейропоэтические проекты проблематизируют фигуру автора и границы авторского высказывания. Чьим считать поэтическое произведение, сгенерированное нейросетью, за которым стоят минимум два человека: ее автор (тот, кто написал сеть) и оператор, который сгенерировал конкретный текст либо воспитал нейросеть на определенном корпусе текстов. Это, конечно, влияет на результат.
ВК: Например, можно воспитать сеть на корпусе текстов Мандельштама…
АЧ: Допустим. То, как это было сделано в сборнике «Нейролирика», эксперименте Бориса Орехова. Но там был виден явный исследовательский характер. Интересно было бы не просто научить нейросеть на чем-нибудь определенном, а делать это какое-то время, совершенствовать ее обучение, посмотреть, до какого предела оно может дойти и как его можно повернуть в ту или другую сторону.
ВК: Смогут ли нейросети когда-нибудь писать лучше людей?
АЧ: Уже сейчас у нейропоэта есть тексты, в которых условный читатель современной поэзии ничего не заподозрит. Но если мы выставим рамку условной подозрительности — вот, посмотрите на пять текстов и скажите, какие из них написал человек, а какие — нейросеть, — тогда можно будет анализировать результаты. Но и тут, мне кажется, если тщательно подобрать тексты, все будет неочевидно. И до нейрописьма поэтики живых авторов двигались в сторону нарочито разъятого высказывания.
Конечно, кто-то считает, что развитие нейропоэзии похоронит этот тип высказывания, потому что нет смысла имитировать диффузное машинное письмо, если это может делать машина. Я с этим не согласен, но наверняка авторы трижды подумают, прежде чем встраиваться в подобную поэтику.
ВК: Когда появилась фотография, реалистичные портреты стали по большому счету не нужны и изобразительное искусство пошло в сторону эксперимента.
АЧ: Здесь, мне кажется, нет прямой связи. Задача была упрощена, и, естественно, люди начали пользоваться тем, что проще. И мы логично переходим от реалистичных портретов к студийным портретам, потом к любительским камерам, наконец, к селфи.
У поэзии такой прагматичной логики нет. Вот если бы у нас до сих пор была развита культура од, например, на чье-нибудь восшествие на престол, то нейросеть могла бы генерировать подобные тексты километрами. И авторы од быстро бы лишились работы. То есть если бы была индустрия. А здесь, мне кажется, перераспределяется концептуальное поле поэзии. Ты входишь в него, уже зная, что есть нейротексты, и как-то от них отстраиваешься.
ВК: Силовое поле перекраивают и периодически возникающие конфликты. Тебя не беспокоит повышенная конфликтность в литсреде, тот же кейс с «Моей вагиной»?
АЧ: В целом, конечно, беспокоит, потому что я человек мирный и хотел бы, чтобы все жили дружно. Понятно, что это невозможно и, наверное, не нужно, потому что здоровая конфликтность требуется для прояснения собственных принципов, для развития литературы в целом. Полемика, которая помогает сформулировать собственные принципы, отстроить и отстоять их перед другими, — это здоровые вещи.
Естественно, это не касается кейса, сложившегося вокруг стихотворения Галины Рымбу «Моя вагина», потому что это было за гранью добра и зла. Со всем хамством и переходом на недопустимые для полемики приемы, он произошел за пределами того литературного поля, к которому я себя причисляю. Это, конечно, немного эскапистская позиция. Я как бы считаю, что это находится за пределами моего поля и этого как бы нет. Но оно есть, и это территория, к которой мне не хочется иметь никакого отношения.
ВК: Что может втянуть тебя в конфликт в литсреде?
АЧ: Это мало возможно. Хотя, если это коснется меня лично, я не буду молчать. А в остальном у меня достаточно пассивная позиция. Конечно, я принимаю внутренние решения, и они могут на что-то влиять в публикаторских и редакторских вещах.
ВК: Давай тогда перейдем к публикаторским и редакторским темам. Имею в виду твое сотрудничество с «Грезой» и «Полутонами». Чем ты руководствуешься, размещая те или иные тексты на «Полутонах»? В частности, у тебя достаточно много редакторских публикаций в «Звательном падеже» — порой не самых сильных текстов.
АЧ: У «Полутонов» в прошлом году появился общий редакционный ящик, куда стал приходить внешний самотек. Долгое время им никто особо не занимался, и, наконец, я решил делать это сам. Большое количество публикаций в «Звательном падеже» связано в первую очередь с этим. Я разбираю самотек, нахожу тексты, в которых мне видится некое обещание, перспектива, разумеется с оглядкой на эту сумеречную рубрику.
Конечно, я не публикую все подряд. Примерно половина самотека отправляется куда-то дальше. Сейчас на «Полутонах» у меня нет редакторской стратегии, кроме вот этого общего редакционного фильтра. Да и раньше не было цели выстраивать сквозное редакторское высказывание. Мне кажется, формат ресурса это не совсем предполагает.
ВК: А в случае «Грезы»?
АЧ: В «Грезе» я являюсь членом редсовета, но не очень активно участвую в публикаторской деятельности. В основном подбираю иллюстрации для материалов, но иногда предлагаю и подборки. В последнее время это, скорее, проекты, которые могут стать виртуальными выставками в разделе «Галерея». Эта область в логике «Грезы» мне оказалась ближе всего остального.
Недавно я подготовил выставку Снежаны Рейзен. Это коллажи, которые она делала для книги Аси Энгеле «Ускорение собственное». На обложке два коллажа, в книге еще четыре, а всего сделано порядка двадцати штук. Вот мы их и собрали в выставку, а Энгеле написала сопроводительный текст.
ВК: В прошлом году ты пришел в «Новое литературное обозрение» на должность арт-менеджера. Как возникло сотрудничество? В чем заключаются твои обязанности?
АЧ: Меня уже несколько лет звали на разные должности в «Новом литературном обозрении». Сначала, когда Сережа Луговик был PR-директором, — к себе в отдел, потом в отдел реализации и так далее, но мне все время хотелось другого.
И вот прошлой зимой Ирина Дмитриевна Прохорова предложила мне стать арт-менеджером. Эта относительно новая должность. Я координирую процесс создания книжных обложек, чтобы мысли, идеи и решения, связанные с ними, работали в согласии. Здесь нет творческой составляющей. Понятно, что сам я тоже делаю обложки — в своем проекте и в некоторых других: в «Парадигме», ранее для «Контекста». Но в целом это чисто менеджерская задача.
Кроме того, многим сериям «Нового литературного обозрения» требуется редизайн. Это тоже часть моей работы — находить новых дизайнеров и новые студии, которые занимаются редизайном серий или разработкой новых дизайнов.
ВК: Обогащает ли твой поэтический инструментарий общение с Олей, Колей и Яной? Можно ли сказать, что ты — творчеством и экспериментом, а они — детством говорите на одном языке?
АЧ: Сложно сказать, потому что и моя поэтика изменилась, и дети еще не вполне освоили стихию языка. Кто-то совсем нет, как Яна, кто-то, как Коля, только в нее вступает. Но я помню, когда Оля начала говорить и взаимодействовать с языком, какие-то сказанные ею вещи попали в мои тексты тех времен. Впоследствии моя поэтика настолько изменилась, что из нее выпали отголоски человеческого общения. Все оказалось замещено внешними языковыми конструкциями, но не потому, что в детском языке для меня ничего нет, а потому, что мое письмо стало питаться от других источников. Возможно, это вернется, когда Коля и Яна подрастут и возникнет новое полифоническое поле общего разговора.
вас может заинтересовать
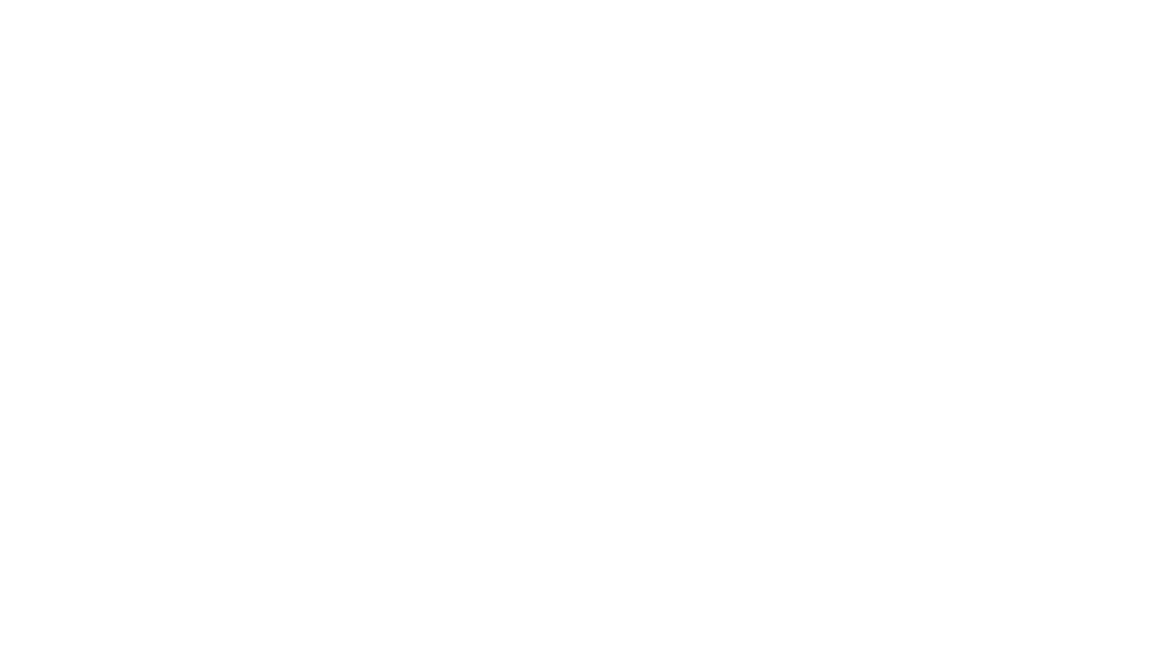
Сохранить воздух и пустоту
Публикуем беседу Владимира Коркунова с поэтом Андреем Черкасовым о его литературных и издательских проектах, истории вхождения в литературу и экспериментальной поэтике.
Владимир Коркунов: Андрей, в описаниях твоих лекций и мастер-классов на площадке «Носорога» была примерно такая фраза: «Как и зачем создавать экспериментальную литературу из всего подряд». Давай ответим на второй вопрос.
Андрей Черкасов: Любой выход за границу конвенции — эксперимент, освоить новые территории без него невозможно. Делаешь шаг и смотришь, кочка там или трясина, что вообще происходит. И, если ты не экспериментируешь, ты не расширяешь территорию. Можно, конечно, углубиться внутрь существующей конвенции и доводить до совершенства то, что находится в уже очерченном круге. Но моя идея в том, что экспериментировать необходимо, это самостоятельная ценность. И как популяризатор я пытаюсь рассказать о возможной культуре эксперимента, чтобы он не был диким.
У многих возникает желание трансгрессировать из пузыря, в котором они находятся, сделать что-то запредельное. Но, когда ты делаешь это в рамках «дикой» парадигмы, чаще всего получается неубедительно. Авангардный жест — жест дикий, дерзкий, но, мне кажется, он должен быть подкреплен определенной культурой.
ВК: На стыке авангардных практик с конвенциональными?
АЧ: Не совсем. Хотя любая конвенциональная практика может быть обозначена в рамках экспериментального проекта, и это мне тоже кажется важным. Ты можешь взять набор метрических структур и на их основе сделать экспериментальный проект. Но это не всегда факт литературы. «Яндекс.Автопоэт», например, проект, который соединяет метрические структуры и поисковые запросы, и на выходе мы получаем экспериментальный, а не традиционный текст. Литература ли это, можно дискутировать, но результат есть.
Я говорю даже не о базисе, потому что ясно: первый авангардный жест — авангард, следующий такой же — конвенция. Но если мы говорим не про авангард, а про эксперимент, то это как с химией и физикой: ты изучаешь основы эксперимента, затем его повторяешь. Важно понимать, как устроены эксперименты в литературе и сопредельных полях, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, а с другой — чтобы твой шаг, каким бы он ни был, находился в контексте других шагов, которые происходят в том же поле.
ВК: Ты говоришь о возможности эксперимента практически из всего подряд. Мы находимся в кафе «Зинзивер», смотрим на изрисованные стены. Можно ли отсюда извлечь поэзию?
Андрей Черкасов: Любой выход за границу конвенции — эксперимент, освоить новые территории без него невозможно. Делаешь шаг и смотришь, кочка там или трясина, что вообще происходит. И, если ты не экспериментируешь, ты не расширяешь территорию. Можно, конечно, углубиться внутрь существующей конвенции и доводить до совершенства то, что находится в уже очерченном круге. Но моя идея в том, что экспериментировать необходимо, это самостоятельная ценность. И как популяризатор я пытаюсь рассказать о возможной культуре эксперимента, чтобы он не был диким.
У многих возникает желание трансгрессировать из пузыря, в котором они находятся, сделать что-то запредельное. Но, когда ты делаешь это в рамках «дикой» парадигмы, чаще всего получается неубедительно. Авангардный жест — жест дикий, дерзкий, но, мне кажется, он должен быть подкреплен определенной культурой.
ВК: На стыке авангардных практик с конвенциональными?
АЧ: Не совсем. Хотя любая конвенциональная практика может быть обозначена в рамках экспериментального проекта, и это мне тоже кажется важным. Ты можешь взять набор метрических структур и на их основе сделать экспериментальный проект. Но это не всегда факт литературы. «Яндекс.Автопоэт», например, проект, который соединяет метрические структуры и поисковые запросы, и на выходе мы получаем экспериментальный, а не традиционный текст. Литература ли это, можно дискутировать, но результат есть.
Я говорю даже не о базисе, потому что ясно: первый авангардный жест — авангард, следующий такой же — конвенция. Но если мы говорим не про авангард, а про эксперимент, то это как с химией и физикой: ты изучаешь основы эксперимента, затем его повторяешь. Важно понимать, как устроены эксперименты в литературе и сопредельных полях, чтобы, с одной стороны, не изобретать велосипед, а с другой — чтобы твой шаг, каким бы он ни был, находился в контексте других шагов, которые происходят в том же поле.
ВК: Ты говоришь о возможности эксперимента практически из всего подряд. Мы находимся в кафе «Зинзивер», смотрим на изрисованные стены. Можно ли отсюда извлечь поэзию?
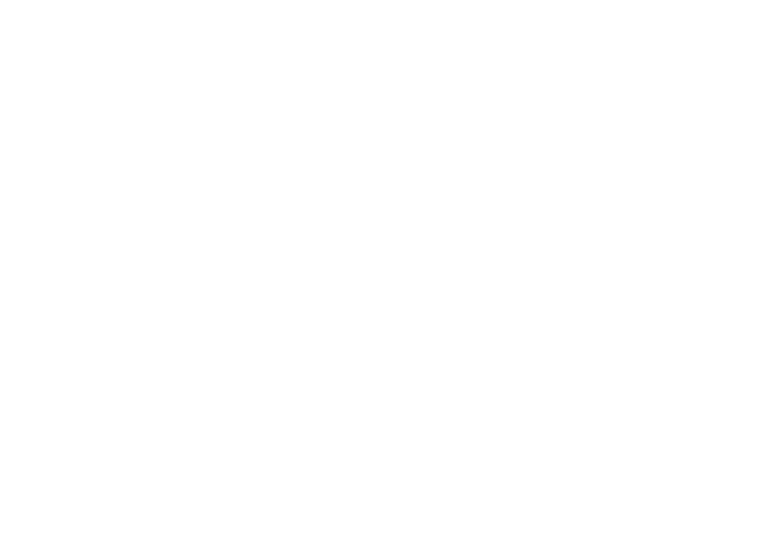
АЧ: Почему нет? К тексту, который вокруг нас, можно применить множество разных техник. Назову некоторые.
Первая мысль, конечно, блэкаут: можно убрать какое-то количество слов и получить текст. Вторая мысль связана с распознаванием. Тексты на стенах написаны почерками разной степени разборчивости. Некоторые из них — теги, не предназначенные для того, чтобы быть прочитанными, и, если применить к ним средства распознавания, можно получить совершенно разные результаты. Например, если снять их и засунуть в программу, настроенную на распознавание печатного текста, или в средство поиска по похожим изображениям и так далее. Разумеется, можно придумать еще пять-десять разных техник.
ВК: Здесь множество отсылок. Опишу некоторые: Крым понятно чей, далее икона, вон там — «мама» и сердечко, слова «Люби своего ближнего, как себя самого»…
АЧ: А вот одна анаграмматичная штука: слово «кленовый», а потом слова, которые можно составить из него. То есть, в принципе, здесь есть все.
ВК: Да, абсолютно поэтическое место, и хорошо, что ты предложил пойти именно сюда. Говоря об экспериментах — вспоминается твоя книга «Домашнее хозяйство». Она очень небольшим тиражом вышла? Я ее видел только раз, в Нижнем Новгороде, большущая такая книга.
АЧ: Эта книга — арт-объект. У нее был заявленный тираж, как у тиражных объектов художников, сто экземпляров, каждый из которых нумеруется. К сожалению, в реальности я не вышел за пределы пятидесяти, потому что каждый печатал вручную. Причем книгой ее можно назвать лишь условно: это набор листов, и набор каждого экземпляра — результат случайный выборки. Порядок определял генератор случайных чисел. Естественно, человек, который прочитает эту книгу, может перекладывать листы как угодно.
ВК: Увеличившиеся в размерах карточки Рубинштейна…
АЧ: Карточки Рубинштейна имеют вполне определенный порядок, потому что это библиотечные карточки и есть перформативный элемент — перелистывание. Здесь же принципиален случайный порядок фрагментов. В изначальной книге был и первопорядок, но я не уверен, что он сохранился.
ВК: В ее основу легла реальная книга?
АЧ: Да, советская энциклопедия домашнего хозяйства, изданная в конце то ли пятидесятых, то ли шестидесятых годов, а потом выходившая в переизданиях.
ВК: Как ты с ней работал, чтобы извлечь поэтическое?
АЧ: Энциклопедия была набрана в две колонки, и я делал whiteout, то есть «выбеливал» текст, оставляя точки сгущения, когда на границах колонок появлялись как бы реальные словосочетания. В литературе есть традиция двухколоночных текстов, которые читаются насквозь, но в моем случае это были несвязанные между собой колонки, которые сталкивались в самых электрических моментах.
ВК: Как ты вообще заметил в книге о домашнем хозяйстве что-то поэтическое?
АЧ: Это довольно просто. Если у тебя в принципе жадный взгляд, ты всматриваешься в окружающее пространство, в том числе пространство текста, и замечаешь композиционные связи. Они могут быть визуальными или словесными. Так или иначе, это устройство оптики. Примерно через год после выхода первой книги у меня стали появляться тексты именно благодаря «жадному зрению», и они вошли во вторую книгу.
ВК: Тоже вышедшую у Кузьмина?
АЧ: Да, но уже в книжном приложении к «Воздуху». Она называлась «Децентрализованное наблюдение», и что важно: я окончил институт, стал работать и ходил на работу пешком, довольно долго для пешей прогулки, примерно сорок минут. Но это была крутая тренировка «жадного зрения». Когда ты идешь и подмечаешь вещи, которые становятся потом фотографией, некоторые — текстом. Довольно большой процент текстов в «Децентрализованном наблюдении» был написан, придуман как раз во время этих дорог на работу и с работы. Я просто впитывал все, что видел, на одном и том же пути.
То же и с текстом. Когда ты не просто его употребляешь, а когда на него смотришь, он становится не просто словами с неким месседжем, а синтаксическим целым, обладающим нелинейной природой. Двухколоночная структура, в частности, эту нелинейность подчеркивает.
ВК: Жаль, что книга вышла таким небольшим тиражом. У тебя же была идея ее переиздать?
АЧ: Я пытаюсь придумать, как адекватно передать природу случайного следования фрагментов. Мне нужен программист, который предложил бы, как это сделать, чтобы сохранить и принцип чтения, и исходную графику. Это еще и листы А4, приближенные к формату книги, и пустота соответствует отсутствующему тексту, который есть в оригинальной энциклопедии, то есть с приветом идеям Чарльза Олсена и его проективного стиха. Мне хотелось бы сделать другую версию «Домашнего хозяйства», но все-таки сохранить воздух и пустоту.
ВК: На фестивале Kyiv poetry week Дмитрий Кузьмин говорил, что ты перешел на создание книг-концептов. Насколько для тебя важен именно такой подход?
АЧ: В какой-то момент я сказал себе, а может, даже публично, что больше не буду писать просто тексты, но все равно периодически продолжаю их писать, и в них не участвуют внешние агенты. У меня есть такие книги, и «Обстоятельства вне контроля» — последняя на сегодняшний день. А может, вообще последняя. В целом мне кажется, моя практика связана с комбинированием и созданием новых методов производства с участием тех или иных рамок, нечеловеческих агентов и всего на свете.
ВК: Кстати, про «Обстоятельства вне контроля». Я ее перечитывал, готовясь к интервью, и заметил «жадное зрение», выхваченные глазом фрагменты. Это ведь в какой-то мере whiteout мира получается?
АЧ: В принципе, да, потому что, когда ты дрейфуешь через пространство и фиксируешься на какой-то вещи, ты ее сгущаешь. Это может быть фрагмент, который содержит текст. Это может быть фрагмент реальности, который текста не содержит, но который ты все равно передаешь в виде текста. Мне кажется, это даже не фокус, а свойство любого поэтического зрения, когда ты рамируешь реальность, чтобы она передавала определенные волны смыслов.
ВК: Еще одна твоя книга, «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова», сравнительно большой текст с определенными романными приемами (мне попалась некая рукопись и т. д.). Сам текст темный, его оптика не вполне понятна. Расскажи о задумке этого концепта и как его правильно прочитать.
АЧ: Тут два сюжета. Первый связан с тем, как издана книга: это результат ошибки. Текст должен был выйти без моего имени на обложке, как псевдоанонимный. Я должен был быть указан только в выходных данных. Но Игорь Улангин недопонял меня, и книга вышла как вышла.
Так или иначе, этот текст — результат моего сотворчества с автоподсказкой в одном из смартфонов, опыт перевода автозаменой текста, написанного на кириллице, но не на русском языке. В предисловии об этом не сказано, но текст, послуживший основой, — «Слово о полку Игореве». Не в том виде, в каком оно переведено на русский язык, а в том, в каком был изначально, на кириллическом древнерусском.
ВК: Такой электронный Лихачев получился.
АЧ: Устроено все было следующим образом: у тебя есть набранный на древнерусском текст, и, когда ты наводишь палец на определенное слово, система выдает несколько вариантов. На обычных клавиатурах — два-три наиболее близких, а на клавиатуре используемого мною смартфона — примерно пятнадцать — двадцать. Как правило, если смартфон опознает слово как глагол, это будет набор глаголов.
Для чистоты эксперимента я полностью очистил смартфон. В автозамене иногда проскакивали слова из рабочего лексикона (я этим телефоном пользовался как рабочим), но я их старался отфильтровать, то есть переводил оригинальный текст «Слова о полку Игореве» на язык словаря, который был заложен в телефоне.
На мой взгляд, адекватного способа прочитать этот текст нет. Ты можешь читать его как анонимный памятник, а можешь — обладая информацией о том, как этот текст сделан. Промежуточный вариант —книга, в которой есть предисловие, не вполне открывающее способ производства этого текста, но пересоздающее отношения с ним.
ВК: В каком направлении движется современное искусство?
АЧ: Если бы я был идеологом, то мог бы ответить на этот вопрос и назвать тенденции, которые мне кажутся нужными и важными. Но это было бы тенденциозно. Это была бы ложь, потому что картина заведомо сложна. Современное искусство и современная поэзия в частности движутся во всех направлениях. Некоторые из них более магистральны, другие менее сильны. Если мы представим эту картину, для каждого смотрящего она будет полна слепых пятен, окажется похожей на одуванчик, где линии движутся во все стороны, но насколько важна каждая из них, сейчас мы не можем оценить.
ВК: Хобсбаум говорил, что искусство будет ускоряться. Не ошибся?
АЧ: В этой парадигме самое быстрое искусство прямо сейчас — соцсети. Мгновенная реакция, использующая нервную систему современных медиа. Условно говоря, какой-нибудь твиттер-флешмоб на летучем хештеге. Это если рассматривать его точку зрения.
Но мне кажется, что искусство, напротив, замедляется, становится аналитичнее, потому что происходит его осмысление — с небольшим опозданием, постфактум. А если мы говорим о той картине, которую предлагает Хобсбаум, то все происходит один в один, но сейчас такого нет, и если что-то происходит, то осмысляется как факт современного искусства.
ВК: Заканчивая тему с твоими личными экспериментами — не мог бы ты сделать блэкаут на основе одного из заготовленных мною текстов?
АЧ: Легко. [Андрей выбрал текст Ольги Туркиной. — В. К.]
Первая мысль, конечно, блэкаут: можно убрать какое-то количество слов и получить текст. Вторая мысль связана с распознаванием. Тексты на стенах написаны почерками разной степени разборчивости. Некоторые из них — теги, не предназначенные для того, чтобы быть прочитанными, и, если применить к ним средства распознавания, можно получить совершенно разные результаты. Например, если снять их и засунуть в программу, настроенную на распознавание печатного текста, или в средство поиска по похожим изображениям и так далее. Разумеется, можно придумать еще пять-десять разных техник.
ВК: Здесь множество отсылок. Опишу некоторые: Крым понятно чей, далее икона, вон там — «мама» и сердечко, слова «Люби своего ближнего, как себя самого»…
АЧ: А вот одна анаграмматичная штука: слово «кленовый», а потом слова, которые можно составить из него. То есть, в принципе, здесь есть все.
ВК: Да, абсолютно поэтическое место, и хорошо, что ты предложил пойти именно сюда. Говоря об экспериментах — вспоминается твоя книга «Домашнее хозяйство». Она очень небольшим тиражом вышла? Я ее видел только раз, в Нижнем Новгороде, большущая такая книга.
АЧ: Эта книга — арт-объект. У нее был заявленный тираж, как у тиражных объектов художников, сто экземпляров, каждый из которых нумеруется. К сожалению, в реальности я не вышел за пределы пятидесяти, потому что каждый печатал вручную. Причем книгой ее можно назвать лишь условно: это набор листов, и набор каждого экземпляра — результат случайный выборки. Порядок определял генератор случайных чисел. Естественно, человек, который прочитает эту книгу, может перекладывать листы как угодно.
ВК: Увеличившиеся в размерах карточки Рубинштейна…
АЧ: Карточки Рубинштейна имеют вполне определенный порядок, потому что это библиотечные карточки и есть перформативный элемент — перелистывание. Здесь же принципиален случайный порядок фрагментов. В изначальной книге был и первопорядок, но я не уверен, что он сохранился.
ВК: В ее основу легла реальная книга?
АЧ: Да, советская энциклопедия домашнего хозяйства, изданная в конце то ли пятидесятых, то ли шестидесятых годов, а потом выходившая в переизданиях.
ВК: Как ты с ней работал, чтобы извлечь поэтическое?
АЧ: Энциклопедия была набрана в две колонки, и я делал whiteout, то есть «выбеливал» текст, оставляя точки сгущения, когда на границах колонок появлялись как бы реальные словосочетания. В литературе есть традиция двухколоночных текстов, которые читаются насквозь, но в моем случае это были несвязанные между собой колонки, которые сталкивались в самых электрических моментах.
ВК: Как ты вообще заметил в книге о домашнем хозяйстве что-то поэтическое?
АЧ: Это довольно просто. Если у тебя в принципе жадный взгляд, ты всматриваешься в окружающее пространство, в том числе пространство текста, и замечаешь композиционные связи. Они могут быть визуальными или словесными. Так или иначе, это устройство оптики. Примерно через год после выхода первой книги у меня стали появляться тексты именно благодаря «жадному зрению», и они вошли во вторую книгу.
ВК: Тоже вышедшую у Кузьмина?
АЧ: Да, но уже в книжном приложении к «Воздуху». Она называлась «Децентрализованное наблюдение», и что важно: я окончил институт, стал работать и ходил на работу пешком, довольно долго для пешей прогулки, примерно сорок минут. Но это была крутая тренировка «жадного зрения». Когда ты идешь и подмечаешь вещи, которые становятся потом фотографией, некоторые — текстом. Довольно большой процент текстов в «Децентрализованном наблюдении» был написан, придуман как раз во время этих дорог на работу и с работы. Я просто впитывал все, что видел, на одном и том же пути.
То же и с текстом. Когда ты не просто его употребляешь, а когда на него смотришь, он становится не просто словами с неким месседжем, а синтаксическим целым, обладающим нелинейной природой. Двухколоночная структура, в частности, эту нелинейность подчеркивает.
ВК: Жаль, что книга вышла таким небольшим тиражом. У тебя же была идея ее переиздать?
АЧ: Я пытаюсь придумать, как адекватно передать природу случайного следования фрагментов. Мне нужен программист, который предложил бы, как это сделать, чтобы сохранить и принцип чтения, и исходную графику. Это еще и листы А4, приближенные к формату книги, и пустота соответствует отсутствующему тексту, который есть в оригинальной энциклопедии, то есть с приветом идеям Чарльза Олсена и его проективного стиха. Мне хотелось бы сделать другую версию «Домашнего хозяйства», но все-таки сохранить воздух и пустоту.
ВК: На фестивале Kyiv poetry week Дмитрий Кузьмин говорил, что ты перешел на создание книг-концептов. Насколько для тебя важен именно такой подход?
АЧ: В какой-то момент я сказал себе, а может, даже публично, что больше не буду писать просто тексты, но все равно периодически продолжаю их писать, и в них не участвуют внешние агенты. У меня есть такие книги, и «Обстоятельства вне контроля» — последняя на сегодняшний день. А может, вообще последняя. В целом мне кажется, моя практика связана с комбинированием и созданием новых методов производства с участием тех или иных рамок, нечеловеческих агентов и всего на свете.
ВК: Кстати, про «Обстоятельства вне контроля». Я ее перечитывал, готовясь к интервью, и заметил «жадное зрение», выхваченные глазом фрагменты. Это ведь в какой-то мере whiteout мира получается?
АЧ: В принципе, да, потому что, когда ты дрейфуешь через пространство и фиксируешься на какой-то вещи, ты ее сгущаешь. Это может быть фрагмент, который содержит текст. Это может быть фрагмент реальности, который текста не содержит, но который ты все равно передаешь в виде текста. Мне кажется, это даже не фокус, а свойство любого поэтического зрения, когда ты рамируешь реальность, чтобы она передавала определенные волны смыслов.
ВК: Еще одна твоя книга, «Метод от собак игрокам, шторы цвета устройств, наука острова», сравнительно большой текст с определенными романными приемами (мне попалась некая рукопись и т. д.). Сам текст темный, его оптика не вполне понятна. Расскажи о задумке этого концепта и как его правильно прочитать.
АЧ: Тут два сюжета. Первый связан с тем, как издана книга: это результат ошибки. Текст должен был выйти без моего имени на обложке, как псевдоанонимный. Я должен был быть указан только в выходных данных. Но Игорь Улангин недопонял меня, и книга вышла как вышла.
Так или иначе, этот текст — результат моего сотворчества с автоподсказкой в одном из смартфонов, опыт перевода автозаменой текста, написанного на кириллице, но не на русском языке. В предисловии об этом не сказано, но текст, послуживший основой, — «Слово о полку Игореве». Не в том виде, в каком оно переведено на русский язык, а в том, в каком был изначально, на кириллическом древнерусском.
ВК: Такой электронный Лихачев получился.
АЧ: Устроено все было следующим образом: у тебя есть набранный на древнерусском текст, и, когда ты наводишь палец на определенное слово, система выдает несколько вариантов. На обычных клавиатурах — два-три наиболее близких, а на клавиатуре используемого мною смартфона — примерно пятнадцать — двадцать. Как правило, если смартфон опознает слово как глагол, это будет набор глаголов.
Для чистоты эксперимента я полностью очистил смартфон. В автозамене иногда проскакивали слова из рабочего лексикона (я этим телефоном пользовался как рабочим), но я их старался отфильтровать, то есть переводил оригинальный текст «Слова о полку Игореве» на язык словаря, который был заложен в телефоне.
На мой взгляд, адекватного способа прочитать этот текст нет. Ты можешь читать его как анонимный памятник, а можешь — обладая информацией о том, как этот текст сделан. Промежуточный вариант —книга, в которой есть предисловие, не вполне открывающее способ производства этого текста, но пересоздающее отношения с ним.
ВК: В каком направлении движется современное искусство?
АЧ: Если бы я был идеологом, то мог бы ответить на этот вопрос и назвать тенденции, которые мне кажутся нужными и важными. Но это было бы тенденциозно. Это была бы ложь, потому что картина заведомо сложна. Современное искусство и современная поэзия в частности движутся во всех направлениях. Некоторые из них более магистральны, другие менее сильны. Если мы представим эту картину, для каждого смотрящего она будет полна слепых пятен, окажется похожей на одуванчик, где линии движутся во все стороны, но насколько важна каждая из них, сейчас мы не можем оценить.
ВК: Хобсбаум говорил, что искусство будет ускоряться. Не ошибся?
АЧ: В этой парадигме самое быстрое искусство прямо сейчас — соцсети. Мгновенная реакция, использующая нервную систему современных медиа. Условно говоря, какой-нибудь твиттер-флешмоб на летучем хештеге. Это если рассматривать его точку зрения.
Но мне кажется, что искусство, напротив, замедляется, становится аналитичнее, потому что происходит его осмысление — с небольшим опозданием, постфактум. А если мы говорим о той картине, которую предлагает Хобсбаум, то все происходит один в один, но сейчас такого нет, и если что-то происходит, то осмысляется как факт современного искусства.
ВК: Заканчивая тему с твоими личными экспериментами — не мог бы ты сделать блэкаут на основе одного из заготовленных мною текстов?
АЧ: Легко. [Андрей выбрал текст Ольги Туркиной. — В. К.]
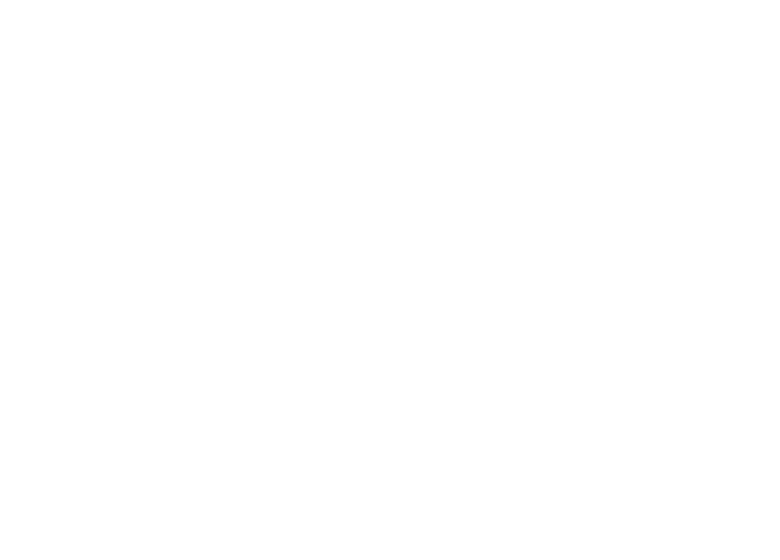
ВК: В детстве у меня была своя библиотека, несколько личных полок. А у тебя?
АЧ: У нас было общее книжное пространство — я имею в виду квартиру отца. Поначалу мы жили с бабушкой, а потом переехали в отдельную квартиру и у меня появился доступ к библиотеке и фонотеке отца. Он собирал и собирает диски. Преимущественно это русский рок, порой запредельные штуки, и я это слушал в довольно раннем возрасте.
ВК: Какие имена?
АЧ: БГ («Аквариум»), «Аукцыон», Майк Науменко («Зоопарк») и «Крематорий» — он, кстати, был едва ли не на виниле. А первые текстоцентричные впечатления — альбомы Вени Д'ркина, широко изданные уже после его смерти, и первые выпущенные официально диски Псоя Короленко: «Fioretti», «Песня про Бога» и т. д., самое начало двухтысячных.
ВК: Когда он только-только бородатым стал?
АЧ: Примерно. Там как раз на одной из обложек этот его образ а-ля отшельник.
ВК: Помнишь книги, которые особенно повлияли на тебя в детстве?
АЧ: Да, «Муми-тролли». У нас была серия тонких книг, в которых истории о муми-троллях выходили отдельными повестями. Они произвели на меня сильное впечатление и сохранились на всю дальнейшую жизнь на уровне цитат, образов, ролевых моделей.
Еще вспоминается «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла. Но он запомнился больше благодаря иллюстрациям, потому что, когда я перечитывал его с Олей года три-четыре назад, книга не произвела большого впечатления.
Сложно выделить что-то еще из детской литературы, ее было много, но она довольно быстро заслонилась самостоятельным чтением. У меня был период, года три или четыре (примерно с десяти до четырнадцати лет), когда я читал бесконечные фэнтези и фантастику. У отца была огромная библиотека издательства «Северо-Запад», — тогда это еще не выродилось в тот трэш, которым стала сейчас массовая фантастика, — и я прочитал томов двести, наверное. Из них мне мало что запомнилось, разве что Терри Пратчетт.
ВК: А как ты полюбил поэзию — через детские книги, в школе или вопреки ей?
АЧ: Не могу вспомнить точно, но вот именно интерес к русскому року привел меня на челябинский Арбат. Там было все вместе.
ВК: Играли? Читали?
АЧ: Не то чтобы читали, но у некоторых был литературный крен — через сибирский панк, через Летова — такая мерцающая металитературная история. И я одно время был участником совершенно неформальской литературной группы, которая называлась вполне в духе, с приветом в сторону декадентства, — «Обществом безумных поэтов». Там были люди из Челябинска, Саратова. Мы делали самиздатовские сборники, записывали альбомы, которые распространялись на кассетах. К тому времени я уже писал какие-то тексты и был подвержен сразу нескольким странным влияниям. С одной стороны, это школьный курс литературы, который докатился до начала XX века, где появились то, что было мне интересно. Не символизм и акмеизм, конечно, а футуризм. Литература, которая содержала внешнюю позу. Интересовали Вертинский, Маяковский.
Вторая — «падонкаффские» ресурсы, куда я попал, когда вышел в интернет. Читал Udaff.com, потом зарегистрировался и публиковал «креатиффы» в духе сайта, некие неуклюжие рифмованные эпатажные тексты. Через какое-то время я в ужасе грохнул эту страницу. Оттуда в 2003-м откочевал в ЖЖ, когда Udaff.com был уже в кризисе.
И третья история — собственно книжная, потому что у отца была и есть огромная библиотека. Она не очень заточена под поэзию, но тем не менее там были книги «Нового литературного обозрения», лауреаты Премии Андрея Белого, а самое главное, то, что меня сильно «повернуло», — антологии «Освобожденный Улисс» и «Девять измерений». И в какой-то момент, когда я прочитал все поэтическое, что было в библиотеке у отца, я начал исследовать челябинские магазины, искал все, что связано с современной поэзией.
Четко помню, как в 2002 году в районном книжном через дорогу от школы купил сборник «Плотность ожиданий» (первый «дебютный» поэтический сборник), где были Екатерина Боярских, Василий Чепелев, Данила Давыдов, Елена Костылева, и это был, конечно, взрыв мозга. Мне кажется, премия «Дебют» в информационном смысле так и должна была работать, чтобы человек четырнадцати лет в Челябинске случайно купил эту книжку и у него что-то перевернулось в голове.
Это был один из поворотных моментов — потом я начал покупать и читать все. Прочитал много странных, ненужных, бессмысленных текстов. Понятно, я брал за скобки Дементьева, Рубальскую, Губермана, Шендеровича и так далее, а остальное скупал, чтобы разобраться потом. В основном это были хорошие книги, выпущенные ОГИ, НЛО, «Колонной», ну, и другие, уже прозаические, книги, которые тоже повлияли на меня, но иначе.
ВК: Сейчас попробуй книги издательства Kolonna в Челябинске найти…
АЧ: На самом деле книги «Колонны» мало кто покупал в Челябинске. Но тогда были распространены книжные стоки: в большой ангар на окраине свозили книги, которые оказались невостребованными, чтобы хоть как-то продать. Там было много «колонновских» книг, в частности крайне редких. К примеру, я купил там «Китайское солнце» Аркадия Драгомощенко всего за тридцать рублей, когда его уже нигде было не достать.
И вот сочетание «дикого, но симпатичного» книжного рынка начала 2000-х, который выплевывал в регионы какие-то книги, и отцовской библиотеки, которая формировалась из того же самого (потом ее стал пополнять и я, привозя из Москвы полный чемодан — тридцать килограммов — книг из «Фаланстера»), и формировало мои вкусы и круг чтения.
ВК: А если говорить о влияниях, ты попал под чье-то?
АЧ: Эстрадно-футуристическая парадигма из школьной программы, про которую я уже сказал, органично сплеталась с активным слушанием русского рока и сибирского панка. И «дикой» сетературы, причем больше «падонкаффской», чем стихирушной, хотя на Стихи.ру у меня тоже была страница и я там довольно активно общался.
Тут нужен жирный дисклеймер: писать стихи я начал в 2002 году, и все, что написано до 2006–2007-го, — кромешный кошмар. Конечно, о каких-то текстах можно думать с нежностью, что-то можно было бы, как делали поэты Серебряного века, отредактировать и пустить в повторный оборот, но в целом это был гумус. В основном это происходило в интернете, хотя, когда я тусовался с нефорами на Арбате, я писал в духе футуристов: играл со шрифтами, собирал в «Ворде», распечатывал, брошюровал и распространял небольшие книжки. Страницу на Udaff.com я уничтожил. ЖЖ сознательно закрывать не стал, и тексты того времени легли в основу блэкаут-книжки «Ветер по частям».
ВК: Ранние тексты в кальпидиевских антологиях, случаем, не опубликованы?
АЧ: Первая антология, в которую я попал, была издана, кажется, в 2008 году. Там тексты неуклюжие, но за них не так стыдно. Самая стыдная — автобиография. Вообще, писать автобиографию, когда тебе исполнилось двадцать, — странное занятие. Когда ты не воспринимаешь это как упражнение литературное. Если бы прошло хотя бы лет пять, это была бы парабиография, метабиография, текст с элементом игры, а тогда я просто отобрал некие значимые события — и сейчас есть желание от нее дистанцироваться. От текста, конечно, не от своей жизни.
ВК: А в школе современных авторов не проходили?
АЧ: В нашем учебнике литературы была страничка или две с новейшими, с точки зрения авторов, тенденциями в современной русской поэзии, условно после Бродского. Там были концептуалисты и метареалисты: Пригов, Рубинштейн, под общую гребенку причисляемый к концептуалистскому кругу Кибиров и Жданов с Еременко. Парщикова, по-моему, не было.
ВК: От Урала там был, наверное, только Борис Рыжий?
АЧ: В школе его не было вообще. Единственный уральский поэт, который находится условно в школьном каноне, — это Людмила Татьяничева. Ее именем названа улица. Урал тогда вообще не был представлен на моей внутренней литературной карте. Хотя я параллельно с антологиями Кузьмина прочитал первый том антологии УПШ, но почему-то не мог представить, что эти люди живут в Челябинске, Перми и так далее.
Был курьез, относящийся к стихирушной эпохе. Мы активно читали друг друга с Сашей Петрушкиным, который был зарегистрирован под одним из многочисленных псевдонимов — Александр Вронников. Я, конечно, не знал, что он из Челябинска, а в тот момент, когда мы сидели на Стихи.ру и оставляли друг другу комментарии, жили в двух кварталах друг от друга.
ВК: Он тогда в Челябинске жил?
АЧ: На улице Цвиллинга, в доме, мимо которого я много раз проходил. По дороге была общага театрального института, где я регулярно бывал: вначале вместе с мамой у ее друзей, потом уже у моих, которые учились в театральном.
ВК: Сам не играл?
АЧ: Я был звездой школьных поэтических чтений, концертов, где читал стихи.
ВК: Как чтец или как автор?
АЧ: Как чтец исключительно. Своих текстов я нигде не читал, не считая неформальских сборищ, до первого курса института. А потом мы уже познакомились с Сашей Маниченко и стали ездить на фестивали.
ВК: «ЛитератуРРентген» в твоей жизни случилась до переезда в Москву?
АЧ: В премиальной истории — уже когда переехал. Это был конец 2007 года. Мои тексты номинировали, а единственной причиной моего появления там (раньше я приезжал на «Рентген» как слушатель) была Екатерина Костицына, которая отказалась от участия. Она была в тройке, а я — четвертым.
ВК: Неужели и победить удалось?
АЧ: Я не получил ни одной премии, хотя был в бесконечных шорт-листах. На моем счету три или четыре финальных списка «ЛитератуРРентгена». Там, кстати, побеждали мои хорошие друзья, в один год — Сережа Луговик, в другой — Саша Маниченко. «Рентгену», кстати, я могу быть благодарен за одну вещь: в тот сезон, когда победил Луговик, мы познакомились с Катей. А через год она переехала ко мне в Москву.
ВК: А ты сам переезжал конкретно в Литинститут или вначале был переезд, а потом поступление?
АЧ: Тут нужна предыстория. Я поступил в Челябинске на политолога и проучился два года. В год поступления, кстати, предпринял попытку уехать в Москву и подал документы в МГУ, но из-за определенных причин вернулся в Челябинск, и вариантов было уже не так-то много.
В ЧелГУ я познакомился с Сашей Маниченко, через него — с другими молодыми уральскими авторами, и на протяжении двух лет мы участвовали в любой движухе: фестивалях, тусовках, слушали кого-то и друг друга, и за эти два года возникло ощущение исчерпанности. Тогда же мы с Сашей в шутку отправили подборки на творческий конкурс в Литинститут, были абсолютно уверены, что не пройдем: наши тексты казались абсолютно перпендикулярными тому, чем нам виделся Лит.
На наше счастье или несчастье в том году семинар набирал Евгений Юрьевич Сидоров, человек широких взглядов. И вот через несколько месяцев, когда мы и думать забыли про подборки, нам пришли письма: ребята, приезжайте поступать. К тому времени мы настолько устали от Челябинска, что сели у Саши в квартире — я хорошо помню этот день — и стали обсуждать: ну что, поехали? И поехали.
Это был не худший способ провести пять лет (улыбается). И однозначно лучше, чем доучиться в Челябинске и пытаться в текущей политической реальности быть политологом, политконсультантом, да кем угодно в этом поле. А еще нам повезло: курс был фантастическим! Помимо нас с Сашей, это были Эдик Лукоянов, Сережа Луговик, Таня Барботина, Оля Машинец…
ВК: Люди, оставшиеся в литературе?
АЧ: Не все. Та же Таня Барботина, к сожалению, мало пишет и публикуется. Остались многие, но важнее не это, а среда, которая не разъедала, а, наоборот, взаимно подпитывала всеми возможными способами.
ВК: С общажной жизнью столкнуться удалось?
АЧ: Я изначально снимал квартиру, и она была одной из наших главных баз. Поэтому эпоха квартиры на Большой Грузинской до того, как у меня появилась семья, тоже может быть отмечена в истории молодой московской литературы (улыбается).
ВК: Как двигалась кривая твоей поэтики? Повлиял ли Литинститут, тот же Сидоров?
АЧ: Евгений Юрьевич сам по себе, думаю, не влиял ни на кого — у него природа такая. Зато он сформировал многоголосый, разнонаправленный семинар и наблюдал, как он развивается. Не скажу, как конкретно влиял Литинститут. В целом за десять лет, с 2002-го до выпуска в 2012-м, у меня было довольно неотрефлексированное письмо. Что-то происходило и менялось внутри, но твое состояние не должно влиять на твои тексты.
ВК: А что? Мир? Конкретные люди?
АЧ: Целеполагание — когда ставишь цели или видишь что-то. Вот повод для текстов. А не состояния, когда тебе плохо или хорошо, или ты, например, влюблен.
ВК: То есть нужен концепт?
АЧ: Скорее, некая дистилляция, не связанная с тем, что происходит с тобой ежедневно. В целом могу сказать, что все тексты, написанные с 2002-го по 2012-й, в частности тексты, вошедшие в книгу «Легче, чем кажется», написаны из очень нерефлексивной позиции, из влияний и состояний, которые претворились в тексты той или иной удачности.
ВК: Откуда у тебя тяга к эксперименту? Имею в виду и блэкауты, и found poetry, и тексты из переводчиков, и так далее. Получается, поэзию можно извлечь из чего угодно?
АЧ: В принципе, да. Это началось еще во время учебы в Литинституте, а потом я стал рефлексировать метод и осваивать ранее неосвоенные территории. Пространство, которое не было задействовано литературой, может быть наиболее продуктивным. Авангардный жест любого свойства возможен только на пересечении двух кругов — конвенции и новизны.
Хотя в своих проектах я все равно остаюсь на орбите, которая соединяет меня с конвенциональным полем литературы, в виде того, как эти тексты выглядят: как текст — не камень, не код.
АЧ: У нас было общее книжное пространство — я имею в виду квартиру отца. Поначалу мы жили с бабушкой, а потом переехали в отдельную квартиру и у меня появился доступ к библиотеке и фонотеке отца. Он собирал и собирает диски. Преимущественно это русский рок, порой запредельные штуки, и я это слушал в довольно раннем возрасте.
ВК: Какие имена?
АЧ: БГ («Аквариум»), «Аукцыон», Майк Науменко («Зоопарк») и «Крематорий» — он, кстати, был едва ли не на виниле. А первые текстоцентричные впечатления — альбомы Вени Д'ркина, широко изданные уже после его смерти, и первые выпущенные официально диски Псоя Короленко: «Fioretti», «Песня про Бога» и т. д., самое начало двухтысячных.
ВК: Когда он только-только бородатым стал?
АЧ: Примерно. Там как раз на одной из обложек этот его образ а-ля отшельник.
ВК: Помнишь книги, которые особенно повлияли на тебя в детстве?
АЧ: Да, «Муми-тролли». У нас была серия тонких книг, в которых истории о муми-троллях выходили отдельными повестями. Они произвели на меня сильное впечатление и сохранились на всю дальнейшую жизнь на уровне цитат, образов, ролевых моделей.
Еще вспоминается «Говорящий сверток» Джеральда Даррелла. Но он запомнился больше благодаря иллюстрациям, потому что, когда я перечитывал его с Олей года три-четыре назад, книга не произвела большого впечатления.
Сложно выделить что-то еще из детской литературы, ее было много, но она довольно быстро заслонилась самостоятельным чтением. У меня был период, года три или четыре (примерно с десяти до четырнадцати лет), когда я читал бесконечные фэнтези и фантастику. У отца была огромная библиотека издательства «Северо-Запад», — тогда это еще не выродилось в тот трэш, которым стала сейчас массовая фантастика, — и я прочитал томов двести, наверное. Из них мне мало что запомнилось, разве что Терри Пратчетт.
ВК: А как ты полюбил поэзию — через детские книги, в школе или вопреки ей?
АЧ: Не могу вспомнить точно, но вот именно интерес к русскому року привел меня на челябинский Арбат. Там было все вместе.
ВК: Играли? Читали?
АЧ: Не то чтобы читали, но у некоторых был литературный крен — через сибирский панк, через Летова — такая мерцающая металитературная история. И я одно время был участником совершенно неформальской литературной группы, которая называлась вполне в духе, с приветом в сторону декадентства, — «Обществом безумных поэтов». Там были люди из Челябинска, Саратова. Мы делали самиздатовские сборники, записывали альбомы, которые распространялись на кассетах. К тому времени я уже писал какие-то тексты и был подвержен сразу нескольким странным влияниям. С одной стороны, это школьный курс литературы, который докатился до начала XX века, где появились то, что было мне интересно. Не символизм и акмеизм, конечно, а футуризм. Литература, которая содержала внешнюю позу. Интересовали Вертинский, Маяковский.
Вторая — «падонкаффские» ресурсы, куда я попал, когда вышел в интернет. Читал Udaff.com, потом зарегистрировался и публиковал «креатиффы» в духе сайта, некие неуклюжие рифмованные эпатажные тексты. Через какое-то время я в ужасе грохнул эту страницу. Оттуда в 2003-м откочевал в ЖЖ, когда Udaff.com был уже в кризисе.
И третья история — собственно книжная, потому что у отца была и есть огромная библиотека. Она не очень заточена под поэзию, но тем не менее там были книги «Нового литературного обозрения», лауреаты Премии Андрея Белого, а самое главное, то, что меня сильно «повернуло», — антологии «Освобожденный Улисс» и «Девять измерений». И в какой-то момент, когда я прочитал все поэтическое, что было в библиотеке у отца, я начал исследовать челябинские магазины, искал все, что связано с современной поэзией.
Четко помню, как в 2002 году в районном книжном через дорогу от школы купил сборник «Плотность ожиданий» (первый «дебютный» поэтический сборник), где были Екатерина Боярских, Василий Чепелев, Данила Давыдов, Елена Костылева, и это был, конечно, взрыв мозга. Мне кажется, премия «Дебют» в информационном смысле так и должна была работать, чтобы человек четырнадцати лет в Челябинске случайно купил эту книжку и у него что-то перевернулось в голове.
Это был один из поворотных моментов — потом я начал покупать и читать все. Прочитал много странных, ненужных, бессмысленных текстов. Понятно, я брал за скобки Дементьева, Рубальскую, Губермана, Шендеровича и так далее, а остальное скупал, чтобы разобраться потом. В основном это были хорошие книги, выпущенные ОГИ, НЛО, «Колонной», ну, и другие, уже прозаические, книги, которые тоже повлияли на меня, но иначе.
ВК: Сейчас попробуй книги издательства Kolonna в Челябинске найти…
АЧ: На самом деле книги «Колонны» мало кто покупал в Челябинске. Но тогда были распространены книжные стоки: в большой ангар на окраине свозили книги, которые оказались невостребованными, чтобы хоть как-то продать. Там было много «колонновских» книг, в частности крайне редких. К примеру, я купил там «Китайское солнце» Аркадия Драгомощенко всего за тридцать рублей, когда его уже нигде было не достать.
И вот сочетание «дикого, но симпатичного» книжного рынка начала 2000-х, который выплевывал в регионы какие-то книги, и отцовской библиотеки, которая формировалась из того же самого (потом ее стал пополнять и я, привозя из Москвы полный чемодан — тридцать килограммов — книг из «Фаланстера»), и формировало мои вкусы и круг чтения.
ВК: А если говорить о влияниях, ты попал под чье-то?
АЧ: Эстрадно-футуристическая парадигма из школьной программы, про которую я уже сказал, органично сплеталась с активным слушанием русского рока и сибирского панка. И «дикой» сетературы, причем больше «падонкаффской», чем стихирушной, хотя на Стихи.ру у меня тоже была страница и я там довольно активно общался.
Тут нужен жирный дисклеймер: писать стихи я начал в 2002 году, и все, что написано до 2006–2007-го, — кромешный кошмар. Конечно, о каких-то текстах можно думать с нежностью, что-то можно было бы, как делали поэты Серебряного века, отредактировать и пустить в повторный оборот, но в целом это был гумус. В основном это происходило в интернете, хотя, когда я тусовался с нефорами на Арбате, я писал в духе футуристов: играл со шрифтами, собирал в «Ворде», распечатывал, брошюровал и распространял небольшие книжки. Страницу на Udaff.com я уничтожил. ЖЖ сознательно закрывать не стал, и тексты того времени легли в основу блэкаут-книжки «Ветер по частям».
ВК: Ранние тексты в кальпидиевских антологиях, случаем, не опубликованы?
АЧ: Первая антология, в которую я попал, была издана, кажется, в 2008 году. Там тексты неуклюжие, но за них не так стыдно. Самая стыдная — автобиография. Вообще, писать автобиографию, когда тебе исполнилось двадцать, — странное занятие. Когда ты не воспринимаешь это как упражнение литературное. Если бы прошло хотя бы лет пять, это была бы парабиография, метабиография, текст с элементом игры, а тогда я просто отобрал некие значимые события — и сейчас есть желание от нее дистанцироваться. От текста, конечно, не от своей жизни.
ВК: А в школе современных авторов не проходили?
АЧ: В нашем учебнике литературы была страничка или две с новейшими, с точки зрения авторов, тенденциями в современной русской поэзии, условно после Бродского. Там были концептуалисты и метареалисты: Пригов, Рубинштейн, под общую гребенку причисляемый к концептуалистскому кругу Кибиров и Жданов с Еременко. Парщикова, по-моему, не было.
ВК: От Урала там был, наверное, только Борис Рыжий?
АЧ: В школе его не было вообще. Единственный уральский поэт, который находится условно в школьном каноне, — это Людмила Татьяничева. Ее именем названа улица. Урал тогда вообще не был представлен на моей внутренней литературной карте. Хотя я параллельно с антологиями Кузьмина прочитал первый том антологии УПШ, но почему-то не мог представить, что эти люди живут в Челябинске, Перми и так далее.
Был курьез, относящийся к стихирушной эпохе. Мы активно читали друг друга с Сашей Петрушкиным, который был зарегистрирован под одним из многочисленных псевдонимов — Александр Вронников. Я, конечно, не знал, что он из Челябинска, а в тот момент, когда мы сидели на Стихи.ру и оставляли друг другу комментарии, жили в двух кварталах друг от друга.
ВК: Он тогда в Челябинске жил?
АЧ: На улице Цвиллинга, в доме, мимо которого я много раз проходил. По дороге была общага театрального института, где я регулярно бывал: вначале вместе с мамой у ее друзей, потом уже у моих, которые учились в театральном.
ВК: Сам не играл?
АЧ: Я был звездой школьных поэтических чтений, концертов, где читал стихи.
ВК: Как чтец или как автор?
АЧ: Как чтец исключительно. Своих текстов я нигде не читал, не считая неформальских сборищ, до первого курса института. А потом мы уже познакомились с Сашей Маниченко и стали ездить на фестивали.
ВК: «ЛитератуРРентген» в твоей жизни случилась до переезда в Москву?
АЧ: В премиальной истории — уже когда переехал. Это был конец 2007 года. Мои тексты номинировали, а единственной причиной моего появления там (раньше я приезжал на «Рентген» как слушатель) была Екатерина Костицына, которая отказалась от участия. Она была в тройке, а я — четвертым.
ВК: Неужели и победить удалось?
АЧ: Я не получил ни одной премии, хотя был в бесконечных шорт-листах. На моем счету три или четыре финальных списка «ЛитератуРРентгена». Там, кстати, побеждали мои хорошие друзья, в один год — Сережа Луговик, в другой — Саша Маниченко. «Рентгену», кстати, я могу быть благодарен за одну вещь: в тот сезон, когда победил Луговик, мы познакомились с Катей. А через год она переехала ко мне в Москву.
ВК: А ты сам переезжал конкретно в Литинститут или вначале был переезд, а потом поступление?
АЧ: Тут нужна предыстория. Я поступил в Челябинске на политолога и проучился два года. В год поступления, кстати, предпринял попытку уехать в Москву и подал документы в МГУ, но из-за определенных причин вернулся в Челябинск, и вариантов было уже не так-то много.
В ЧелГУ я познакомился с Сашей Маниченко, через него — с другими молодыми уральскими авторами, и на протяжении двух лет мы участвовали в любой движухе: фестивалях, тусовках, слушали кого-то и друг друга, и за эти два года возникло ощущение исчерпанности. Тогда же мы с Сашей в шутку отправили подборки на творческий конкурс в Литинститут, были абсолютно уверены, что не пройдем: наши тексты казались абсолютно перпендикулярными тому, чем нам виделся Лит.
На наше счастье или несчастье в том году семинар набирал Евгений Юрьевич Сидоров, человек широких взглядов. И вот через несколько месяцев, когда мы и думать забыли про подборки, нам пришли письма: ребята, приезжайте поступать. К тому времени мы настолько устали от Челябинска, что сели у Саши в квартире — я хорошо помню этот день — и стали обсуждать: ну что, поехали? И поехали.
Это был не худший способ провести пять лет (улыбается). И однозначно лучше, чем доучиться в Челябинске и пытаться в текущей политической реальности быть политологом, политконсультантом, да кем угодно в этом поле. А еще нам повезло: курс был фантастическим! Помимо нас с Сашей, это были Эдик Лукоянов, Сережа Луговик, Таня Барботина, Оля Машинец…
ВК: Люди, оставшиеся в литературе?
АЧ: Не все. Та же Таня Барботина, к сожалению, мало пишет и публикуется. Остались многие, но важнее не это, а среда, которая не разъедала, а, наоборот, взаимно подпитывала всеми возможными способами.
ВК: С общажной жизнью столкнуться удалось?
АЧ: Я изначально снимал квартиру, и она была одной из наших главных баз. Поэтому эпоха квартиры на Большой Грузинской до того, как у меня появилась семья, тоже может быть отмечена в истории молодой московской литературы (улыбается).
ВК: Как двигалась кривая твоей поэтики? Повлиял ли Литинститут, тот же Сидоров?
АЧ: Евгений Юрьевич сам по себе, думаю, не влиял ни на кого — у него природа такая. Зато он сформировал многоголосый, разнонаправленный семинар и наблюдал, как он развивается. Не скажу, как конкретно влиял Литинститут. В целом за десять лет, с 2002-го до выпуска в 2012-м, у меня было довольно неотрефлексированное письмо. Что-то происходило и менялось внутри, но твое состояние не должно влиять на твои тексты.
ВК: А что? Мир? Конкретные люди?
АЧ: Целеполагание — когда ставишь цели или видишь что-то. Вот повод для текстов. А не состояния, когда тебе плохо или хорошо, или ты, например, влюблен.
ВК: То есть нужен концепт?
АЧ: Скорее, некая дистилляция, не связанная с тем, что происходит с тобой ежедневно. В целом могу сказать, что все тексты, написанные с 2002-го по 2012-й, в частности тексты, вошедшие в книгу «Легче, чем кажется», написаны из очень нерефлексивной позиции, из влияний и состояний, которые претворились в тексты той или иной удачности.
ВК: Откуда у тебя тяга к эксперименту? Имею в виду и блэкауты, и found poetry, и тексты из переводчиков, и так далее. Получается, поэзию можно извлечь из чего угодно?
АЧ: В принципе, да. Это началось еще во время учебы в Литинституте, а потом я стал рефлексировать метод и осваивать ранее неосвоенные территории. Пространство, которое не было задействовано литературой, может быть наиболее продуктивным. Авангардный жест любого свойства возможен только на пересечении двух кругов — конвенции и новизны.
Хотя в своих проектах я все равно остаюсь на орбите, которая соединяет меня с конвенциональным полем литературы, в виде того, как эти тексты выглядят: как текст — не камень, не код.
вас может заинтересовать

