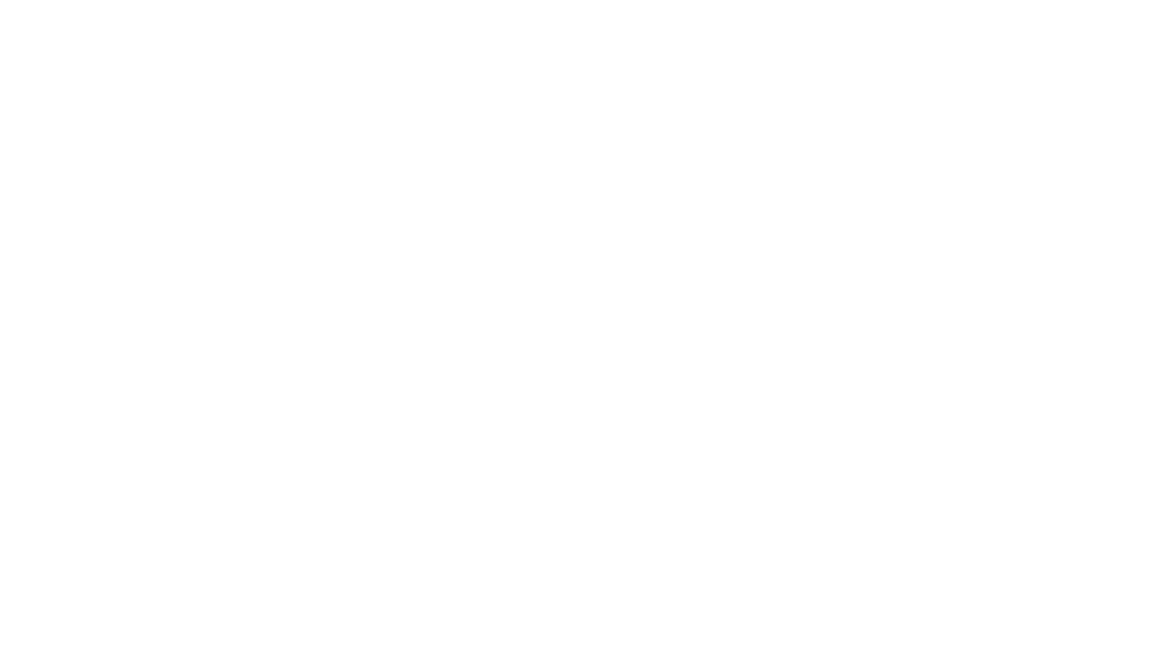
Никакого «Я»
Публикуем фрагменты беседы Кати Морозовой с поэтом Александром Скиданом, поводом для которой стал выход книжной версии романа «Путеводитель по N», написанного еще в 90-е годы и впервые напечатанного в журнале «Комментарии».
Катя Морозова: Разговор о романе «Путеводитель по N» хочется выстроить вокруг двух основных тем: его особенного и сложносочиненного устройства и фигуры N, которой роман посвящен. Расскажи подробнее о выборе романного метода и о своих отношениях с Ницше, позволивших тебе приблизиться к нему настолько, что авторская позиция, с которой ты должен был бы на него смотреть, сместилась в болезненное пространство безумия персонажа.
Александр Скидан: Роман написан как бы поверх текстов самого Фридриха Ницше, прежде всего поверх его писем разным адресатам, поверх его поздних вещей и записей, сделанных уже на грани безумия. Написан в коллажном стиле. В «Путеводителе по N» я впервые опробовал метод сэмплирования чужих текстов с их последующей минимальной аранжировкой, то есть в романе, строго говоря, нет ни одного моего собственного слова, кроме каких-то чисто грамматически, синтаксически необходимых переходов от одного текстового блока к другому.
К этой технике меня подвело, в общем-то, очень сильное, фантазматическое отождествление с Ницше. В 1990 году вышло его двухтомное собрание сочинений, подготовленное Кареном Свасьяном, — меня оно буквально перевернуло. После этого я кинулся читать о Ницше все, что было тогда доступно. Меня захватила и судьба Ницше, и то, как она оказалась вплетена в его тексты: за каждое свое слово он заплатил. Довольно рано, когда ему еще не было тридцати, у него начались страшные головные боли, которые по несколько месяцев не позволяли ему работать. Он употреблял сильные средства, в том числе наркотические, чтобы глушить эту боль, и постепенно они, конечно, способствовали его разрушению.
Меня поразила история о том, что спустя какое-то время после заключения в психиатрическую лечебницу, когда он уже не мог разговаривать (т. е. потерял дар речи), не узнавал ни свою сестру, ни мать, не говоря уже о знакомых, он тем не менее иногда спускался в гостиную и, не фальшивя, играл на рояле. Как человек с помутившимся сознанием может исполнять довольно сложную музыку, попадая в нужную ноту? О чем это говорит? Что какие-то участки мозга все еще продолжали функционировать? Что краешком сознания он в некотором смысле продолжал быть собой? Он и сам был композитором. А искусство композитора, как и исполнителя, — это величайшая самодисциплина и жесточайшая дрессура. Вот этот парадокс меня глубоко потряс.
Ну и потом, конечно, Ницше — самый светлый ум Европы своего времени. И процесс обрушения этого сознания, этого светлейшего европейского ума как бы совпадает с пророчеством Ницше о том, что Европа будет лежать в руинах. Это встречается в его письмах, в его поздних произведениях и в предисловиях, которые он под конец жизни писал к своим ранним вещам. В Ecce homo он говорил: «Я не человек, я — динамит». Иными словами, в каком-то смысле он видел себя русским бомбистом — нигилистом. Он был одним из первых, кто узнал в Достоевском великого прорицателя и оттолкнулся от фигуры нигилиста, переосмыслив ее в планетарном контексте как завершение западноевропейской метафизики. Узнавание Достоевского и узнавание этой фигуры нигилиста как определяющей горизонт будущего вплоть до сегодняшнего дня: если следовать Ницше, терроризм, с моей точки зрения, является своего рода пароксизмом нигилизма, который действительно начинается с индивидуального террора, как отчаянная реакция на бессилие революционным образом изменить общество. Позднее, уже в нашу эпоху, нигилизм входит в циническую фазу. Ницше был первым, кто это понял, понял еще до знакомства с Лу Андреас-Саломе. К слову, в своей книге Лу предложила формулу андрогинности художественных натур: такие развитые личности, как Ницше, даже будучи биологически мужского рода, благодаря творчеству трансформируются в двуполое существо. Это вырастает из их разговоров с Ницше, ведь Ницше тоже видел в ней андрогина, Заратустру в юбке.Этот мотив двуполости я использую в романе — через «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке, с которым Лу долгое время тоже связывали близкие отношения.
Что еще необходимо добавить? Ницше меня как-то влек. До того как я сел писать роман, я перевел несколько философских работ Жан-Люка Нанси, в том числе одно эссе, посвященное прогрессивному параличу Ницше. А еще в 1994 году я оказался в Америке, и там мне в руки попался роман Ирвина Ялома «Когда Ницше плакал», тогда еще не переведенный на русский. Я начал его листать — меня заинтриговало название. Но сам роман разочаровал своей конвенциональностью и убогостью вымысла. Ялом предлагает такую воображаемую ситуацию: когда Ницше заболевает, Лу Саломе идет к старшему коллеге и наставнику Фрейда (он тогда еще не изобрел психоанализ) Йозефу Брейеру, который начинает курс лечения Ницше, и именно благодаря этому курсу изобретается психоанализ. Сюжетный ход очень интригующий и любопытный, мне он понравился, но роман написан очень традиционно, с описанием персонажей по типу «он подумал то-то и то-то», «он встал и посмотрел на часы» и т. д. Это просто меня взбесило, потому что настолько не соответствует ни темпераменту, ни скорости, на которой жил и мыслил Ницше, а значит и Лу Саломе, — вообще ничему не соответствует. Это просто попытка реконструкции Вены XIX века, довольно убогое, домодернистское письмо. И вот, отчасти оттолкнувшись от этой идеи («Когда Ницше плакал»), я решил, даже толком не прочитав этот роман Ялома, переписать его своими средствами, т. е. раскромсать все это вдребезги, чтобы приблизиться к прогрессивному параличу Ницше. И приближался я через того же Достоевского, через Набокова, Беккета, Бланшо, Селина. Их тексты я микшировал, исходя из одного наброска Ницше. Сохранился план «совершенной книги», его цитирует Карен Свасьян в своем предисловии к двухтомнику. И в этом плане-наброске Ницше не различает философский и литературный, художественный дискурс, он говорит, что стиль должен быть един. Еще там есть такая запись: «Никакого „я"… Идеальный монолог…» Это тоже своего рода ключ к тому, что я стал делать. С одной стороны, это монолог, который подразумевает некоего субъекта высказывания, некое «я», с другой — Ницше говорит: «Никакого „я"». Как это возможно? Я исхожу из допущения — довольно скандального, но творчески, как мне кажется, очень мощного, — что вот этот сошедший с ума Ницше, который продолжает, не фальшивя, играть на рояле, после своей смерти — или после смерти своего рассудка — начинает говорить голосами тех, кто стали возможны благодаря его прогрессивному параличу: голосами Лу, Рильке, Пруста, Томаса Манна, Селина, Набокова, Бланшо, Беккета, Бруно Шульца… Все стилистические швы, швы модальностей разных высказываний я сглаживал, убирал, чтобы сделать итоговый текст абсолютно неузнаваемым. Это было одной из задач. Если мне сейчас понадобится восстановить, где чей текст, я не смогу этого сделать: я не помню точно, где заканчивается Пруст, и где начинается Достоевский, и какие именно их тексты использованы. Их там много. И ни одного моего слова, чистое микширование.
Александр Скидан: Роман написан как бы поверх текстов самого Фридриха Ницше, прежде всего поверх его писем разным адресатам, поверх его поздних вещей и записей, сделанных уже на грани безумия. Написан в коллажном стиле. В «Путеводителе по N» я впервые опробовал метод сэмплирования чужих текстов с их последующей минимальной аранжировкой, то есть в романе, строго говоря, нет ни одного моего собственного слова, кроме каких-то чисто грамматически, синтаксически необходимых переходов от одного текстового блока к другому.
К этой технике меня подвело, в общем-то, очень сильное, фантазматическое отождествление с Ницше. В 1990 году вышло его двухтомное собрание сочинений, подготовленное Кареном Свасьяном, — меня оно буквально перевернуло. После этого я кинулся читать о Ницше все, что было тогда доступно. Меня захватила и судьба Ницше, и то, как она оказалась вплетена в его тексты: за каждое свое слово он заплатил. Довольно рано, когда ему еще не было тридцати, у него начались страшные головные боли, которые по несколько месяцев не позволяли ему работать. Он употреблял сильные средства, в том числе наркотические, чтобы глушить эту боль, и постепенно они, конечно, способствовали его разрушению.
Меня поразила история о том, что спустя какое-то время после заключения в психиатрическую лечебницу, когда он уже не мог разговаривать (т. е. потерял дар речи), не узнавал ни свою сестру, ни мать, не говоря уже о знакомых, он тем не менее иногда спускался в гостиную и, не фальшивя, играл на рояле. Как человек с помутившимся сознанием может исполнять довольно сложную музыку, попадая в нужную ноту? О чем это говорит? Что какие-то участки мозга все еще продолжали функционировать? Что краешком сознания он в некотором смысле продолжал быть собой? Он и сам был композитором. А искусство композитора, как и исполнителя, — это величайшая самодисциплина и жесточайшая дрессура. Вот этот парадокс меня глубоко потряс.
Ну и потом, конечно, Ницше — самый светлый ум Европы своего времени. И процесс обрушения этого сознания, этого светлейшего европейского ума как бы совпадает с пророчеством Ницше о том, что Европа будет лежать в руинах. Это встречается в его письмах, в его поздних произведениях и в предисловиях, которые он под конец жизни писал к своим ранним вещам. В Ecce homo он говорил: «Я не человек, я — динамит». Иными словами, в каком-то смысле он видел себя русским бомбистом — нигилистом. Он был одним из первых, кто узнал в Достоевском великого прорицателя и оттолкнулся от фигуры нигилиста, переосмыслив ее в планетарном контексте как завершение западноевропейской метафизики. Узнавание Достоевского и узнавание этой фигуры нигилиста как определяющей горизонт будущего вплоть до сегодняшнего дня: если следовать Ницше, терроризм, с моей точки зрения, является своего рода пароксизмом нигилизма, который действительно начинается с индивидуального террора, как отчаянная реакция на бессилие революционным образом изменить общество. Позднее, уже в нашу эпоху, нигилизм входит в циническую фазу. Ницше был первым, кто это понял, понял еще до знакомства с Лу Андреас-Саломе. К слову, в своей книге Лу предложила формулу андрогинности художественных натур: такие развитые личности, как Ницше, даже будучи биологически мужского рода, благодаря творчеству трансформируются в двуполое существо. Это вырастает из их разговоров с Ницше, ведь Ницше тоже видел в ней андрогина, Заратустру в юбке.Этот мотив двуполости я использую в романе — через «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке, с которым Лу долгое время тоже связывали близкие отношения.
Что еще необходимо добавить? Ницше меня как-то влек. До того как я сел писать роман, я перевел несколько философских работ Жан-Люка Нанси, в том числе одно эссе, посвященное прогрессивному параличу Ницше. А еще в 1994 году я оказался в Америке, и там мне в руки попался роман Ирвина Ялома «Когда Ницше плакал», тогда еще не переведенный на русский. Я начал его листать — меня заинтриговало название. Но сам роман разочаровал своей конвенциональностью и убогостью вымысла. Ялом предлагает такую воображаемую ситуацию: когда Ницше заболевает, Лу Саломе идет к старшему коллеге и наставнику Фрейда (он тогда еще не изобрел психоанализ) Йозефу Брейеру, который начинает курс лечения Ницше, и именно благодаря этому курсу изобретается психоанализ. Сюжетный ход очень интригующий и любопытный, мне он понравился, но роман написан очень традиционно, с описанием персонажей по типу «он подумал то-то и то-то», «он встал и посмотрел на часы» и т. д. Это просто меня взбесило, потому что настолько не соответствует ни темпераменту, ни скорости, на которой жил и мыслил Ницше, а значит и Лу Саломе, — вообще ничему не соответствует. Это просто попытка реконструкции Вены XIX века, довольно убогое, домодернистское письмо. И вот, отчасти оттолкнувшись от этой идеи («Когда Ницше плакал»), я решил, даже толком не прочитав этот роман Ялома, переписать его своими средствами, т. е. раскромсать все это вдребезги, чтобы приблизиться к прогрессивному параличу Ницше. И приближался я через того же Достоевского, через Набокова, Беккета, Бланшо, Селина. Их тексты я микшировал, исходя из одного наброска Ницше. Сохранился план «совершенной книги», его цитирует Карен Свасьян в своем предисловии к двухтомнику. И в этом плане-наброске Ницше не различает философский и литературный, художественный дискурс, он говорит, что стиль должен быть един. Еще там есть такая запись: «Никакого „я"… Идеальный монолог…» Это тоже своего рода ключ к тому, что я стал делать. С одной стороны, это монолог, который подразумевает некоего субъекта высказывания, некое «я», с другой — Ницше говорит: «Никакого „я"». Как это возможно? Я исхожу из допущения — довольно скандального, но творчески, как мне кажется, очень мощного, — что вот этот сошедший с ума Ницше, который продолжает, не фальшивя, играть на рояле, после своей смерти — или после смерти своего рассудка — начинает говорить голосами тех, кто стали возможны благодаря его прогрессивному параличу: голосами Лу, Рильке, Пруста, Томаса Манна, Селина, Набокова, Бланшо, Беккета, Бруно Шульца… Все стилистические швы, швы модальностей разных высказываний я сглаживал, убирал, чтобы сделать итоговый текст абсолютно неузнаваемым. Это было одной из задач. Если мне сейчас понадобится восстановить, где чей текст, я не смогу этого сделать: я не помню точно, где заканчивается Пруст, и где начинается Достоевский, и какие именно их тексты использованы. Их там много. И ни одного моего слова, чистое микширование.
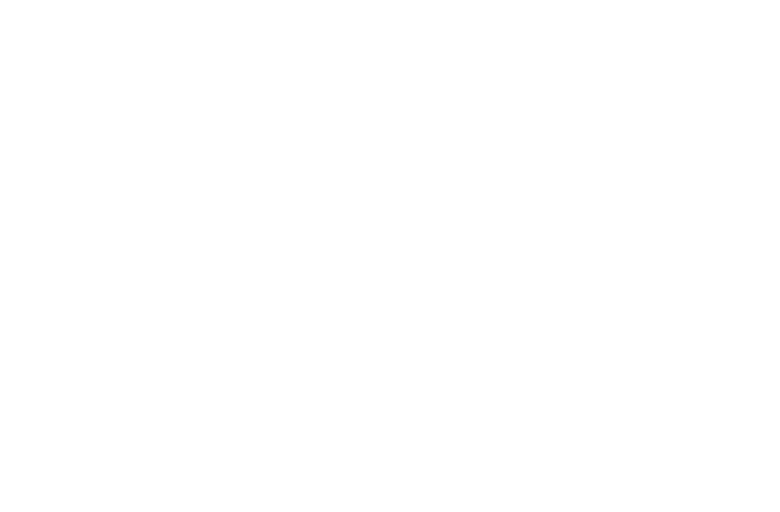
КМ: «Путеводитель...» и не предлагает читателю игру или квест в поисках разгадок о происхождении той или иной фразы. Тем не менее некоторые фрагменты весьма узнаваемы, если читатель хотя бы поверхностно знаком с «источниками»: например, самое начало — «Воспоминания террориста» Савинкова. Роман начинается с явного указания на террор, революцию, катастрофу с телом. И здесь распад, болезнь тела и духа Ницше ведут к метафоре революции самого текста, текста модернистского и твоего текста, в частности.
АС: Да, здесь есть такая амбивалентность, потому что ничего хорошего, конечно, в безумии и в прогрессивном параличе нет: человек медленно превращается в овощ. Но есть момент, близкий по описанию к эпилепсии Достоевского, когда за несколько мгновений до припадка ты переживаешь чувство просветления, слияния с миром, тебе открывается гармония сфер, захлестывает невероятное чувство любви и полноты бытия. Не только Достоевским это описано, есть много свидетельств. И Ницше испытал нечто похожее, может быть, не в таком концентрированном виде, как эпилептический удар, но он приближался к этому состоянию, закончив «Веселую науку» и в процессе работы над «Заратустрой». И после «Заратустры», когда писал две свои последние книги, «Антихрист» и Ecce homo (интеллектуальную автобиографию), он переживал в течение полугода это состояние эйфории. Он понимал, что ему открылось что-то неслыханное, и не знал, как с этим справиться (или не хотел справляться, а, наоборот, отдался этому чувству без остатка). Так проявляется двойственность самой болезни.
То же самое можно спроецировать на текстуальную работу. С одной стороны, это отчуждение: не я пишу, я просто беру чужие тексты и приспосабливаю их для своих нужд. С другой — я это делаю именно для того, чтобы приблизиться к физическому вживанию в Ницше, в его телесный распад. Понятно, что он переживает распад речи, распад сознания, но мне было важно представить, как человеческое, живое тело существует в этом режиме. Что оно может испытывать? То есть через отчуждающую технику я пытался приблизиться к вживанию в роль. Потому что, если бы я писал от себя, придумывая условные декорации, это было бы невыносимо фальшивым, как у Ялома. Если мы берем какой-то корпус модернистских текстов, включая тех же Батая, Бланшо, Шестова, Достоевского, может, и самого Ницше, то я как бы подрываю этот корпус, как террорист. Тем самым высвобождается историческое, травматическое ядро, к которому по-другому не подобраться. Это можно сравнить с вирусом, который прививает себе врач, чтобы создать возможную сыворотку против болезни, им исследуемой — по-другому этой сыворотки не откроешь. Есть здесь, конечно, определенный риск, но я как бы воспроизвожу этот риск, заимствуя его структуру — или «план» — у самого Ницше, потому что он и был таким врачом-симптоматологом. Он не нашел противоядия, но проникнул лучше других в прогрессивный паралич Европы (если понимать этот паралич не как чисто медицинский, а как политико-философский диагноз).
КМ: На самом деле есть большой соблазн рассматривать этот текст как «убийство» модернизма. Но, как ты сказал, на руинах вырастает что-то новое, уже некий метамодернизм. При первом знакомстве с текстом появляется ощущение постмодернистской игры, но при последующих обращениях уже кажется, что это попытка создать из «модернистского» трупа новую жизнь.
АС: Я для себя это так определял: конечно, я использую постмодернистские технологии, те же цитатность, принцип монтажа, алеаторики. Некоторые фрагменты я вставлял из книг, которые просто лежали поблизости, без всякой подготовки сшивал их с предыдущим корпусом. Момент спонтанности был запрограммирован с самого начала, и в этом не было ничего сверхнового.
Например, «Поп-механика» Курехина. Да и до него это многие делали: например, американская писательница Кэти Акер использовала в своих ранних текстах чужие (мужские) автобиографии, переписывая их от своего лица, от женского «я», а еще раньше — Берроуз со своим «методом разрезки». Это все было еще в 1960–70-е. Довольно распространенная постмодернистская стратегия. Можно вспомнить известную американскую художницу Синди Шерман, которая фотографировала себя в декорациях и костюмах кинодив, но привносила мотив извращенности, пародийности, тем самым подрывая разрекламированный образ-фетиш, который уже стал достоянием массовой культуры и объективирует женщину, превращает ее в объект желания. Или взять нашего Владимира Сорокина, виртуоза микширования чужих стилей. В постмодернистской парадигме эта стратегия обычно направлена на развенчание, на критику модернистских установок, критику цивилизации желания и художественного рынка, на демифологизацию образов великих модернистов, на деконструкцию. То есть мы связываем негативный критический запал с иронической постмодернистской парадигмой.
Для меня же игра здесь ведется на другом столе и ставки другие. Я использовал похожую технику, но с противоположной целью для того, чтобы «влипнуть» в образ Ницше без всякой иронии. Да, Ницше в своих текстах прибегает к пародированию, к иронии, к самоинсценировке и карикатуре (особенно в поэзии). И я это тоже использую по отношению к нему. Но я не ставлю себе задачи деконструировать Ницше или деконструировать модернистский канон. Напротив, через текстуальный взрыв и распад я показываю, что наша историческая эпоха является не перечеркиванием модернистской парадигмы, не неким другим началом, а продолжением того же, но другими средствами. Для меня важен этот момент, очень традиционный, даже домодернистский: серьезность и «влипание». Я не боюсь отождествить себя с распадом Ницше или с его безумной влюбленностью в Лу. В последнем случае, конечно, ирония возможна, с этим ничего не поделаешь. И в тексте тоже есть много грубого и смешного, связанного с беспомощностью Ницше как мужчины, как любовника, потому что он действительно был слаб здоровьем. (По полгода болел, постоянно мучился от головных болей, диареи, рвоты, близорукости. Если почитать его письма, волосы дыбом встают, непонятно, когда он вообще писал. А писал он на наркотиках с двадцати семи лет.) И, конечно, он был полностью убит, когда Лу Саломе его отвергла, причем дважды. Это была единственная женщина, которую он обожал, которой восхищался, потому что она была ему интеллектуальной ровней. Однако предпочла какого-то Пауля Рэ… И главной задачей для меня было пережить эту любовную катастрофу, ставшую прелюдией к другой, к окончательной катастрофе, через чужие тексты. Я совсем не пытался сводить счеты ни с Прустом, ни с Беккетом, ни с Бланшо, как не собирался деконструировать их подноготную, которая могла бы перечеркнуть достижения этих писателей или которая уязвляла бы их, упирая, например, на слепоту или самогероизацию, — можно сказать, я перекодировал постмодернистский иронический инструментарий обратно в абсолютную модернистскую серьезность.
КМ: Продвигаясь по тексту, можно заметить, как он ускоряется: в первой, более нарративной, части события происходят медленнее и разбираются более подробно. В финале же все происходит нелинейно, словно разрозненные воспоминания представлены в слайдовом режиме. Это похоже на приближение финала страшной болезни. И кажется, что факт физического недуга сказывается в каком-то смысле и на авторе, потому что текст с точки зрения швов и сцеплений ближе к концу становится более нервным, безумным. Плавные переходы в начале сменяются нервными стыками. Автор тоже теряет себя и нейтрализуется за счёт других голосов, действующих лиц, персонажей, которые переходят из других произведений, лишаются своей функции, обретая здесь новую. Расскажи, пожалуйста, про ключевых персонажей романа.
АС: Роман состоит из двух частей. Первая действительно более нарративна. Во второй части я все ключи и отмычки выкладываю на стол: пересказываю реальные истории о том, как, например, протонацисты пытались лечить уже сумасшедшего Ницше корибантскими танцами или устраивая ему инсценировки королевских приемов. Во второй части излагается в том числе фактическая сторона любовного — или псевдолюбовного — треугольника (Ницше — Лу — Пауль Рэ). Все персонажи в первой части фигурируют почти анонимно, как некие тени реальных исторических лиц, но при этом в каком-то повествовательном хороводе, а вот во второй части я в документальном стиле привожу фактическую сторону того, что в первой части было беллетризовано. Во второй части вводится фигура фон Больного, которая, как и весь текст, амбивалентна. В XX веке действительно был такой немецкий философ-экзистенциалист Отто Фридрих Больнов. Он начинал как физик, но увлекся философией жизни. В своем романе я его делаю «фон Больновым», который пишет статью о Ницше. И уже по мотивам, по краям этой статьи некий автор (нарративное «я») пишет роман, частью которого становится и фон Больнов. Это достаточно распространенный прием — псевдо- или даже фальшприем. В этой двойственности — с одной стороны, карикатурной и иронической, с другой стороны, правдивой — и заключается ключ ко всему устройству текста.
В Больнове я описываю и себя, и черты некоторых знакомых из предыдущей эпохи. Одним из его прототипов является реальный талантливый поэт и художник, которого врачи залечили до безумия. Я посещал его в психиатрической лечебнице. Это был незабываемый опыт, и он тоже отразился в стиле письма. В то же время моей писательской, даже диджейской задачей было убрать все швы и заставить читателя поверить, что все это пишется одним человеком.
АС: Да, здесь есть такая амбивалентность, потому что ничего хорошего, конечно, в безумии и в прогрессивном параличе нет: человек медленно превращается в овощ. Но есть момент, близкий по описанию к эпилепсии Достоевского, когда за несколько мгновений до припадка ты переживаешь чувство просветления, слияния с миром, тебе открывается гармония сфер, захлестывает невероятное чувство любви и полноты бытия. Не только Достоевским это описано, есть много свидетельств. И Ницше испытал нечто похожее, может быть, не в таком концентрированном виде, как эпилептический удар, но он приближался к этому состоянию, закончив «Веселую науку» и в процессе работы над «Заратустрой». И после «Заратустры», когда писал две свои последние книги, «Антихрист» и Ecce homo (интеллектуальную автобиографию), он переживал в течение полугода это состояние эйфории. Он понимал, что ему открылось что-то неслыханное, и не знал, как с этим справиться (или не хотел справляться, а, наоборот, отдался этому чувству без остатка). Так проявляется двойственность самой болезни.
То же самое можно спроецировать на текстуальную работу. С одной стороны, это отчуждение: не я пишу, я просто беру чужие тексты и приспосабливаю их для своих нужд. С другой — я это делаю именно для того, чтобы приблизиться к физическому вживанию в Ницше, в его телесный распад. Понятно, что он переживает распад речи, распад сознания, но мне было важно представить, как человеческое, живое тело существует в этом режиме. Что оно может испытывать? То есть через отчуждающую технику я пытался приблизиться к вживанию в роль. Потому что, если бы я писал от себя, придумывая условные декорации, это было бы невыносимо фальшивым, как у Ялома. Если мы берем какой-то корпус модернистских текстов, включая тех же Батая, Бланшо, Шестова, Достоевского, может, и самого Ницше, то я как бы подрываю этот корпус, как террорист. Тем самым высвобождается историческое, травматическое ядро, к которому по-другому не подобраться. Это можно сравнить с вирусом, который прививает себе врач, чтобы создать возможную сыворотку против болезни, им исследуемой — по-другому этой сыворотки не откроешь. Есть здесь, конечно, определенный риск, но я как бы воспроизвожу этот риск, заимствуя его структуру — или «план» — у самого Ницше, потому что он и был таким врачом-симптоматологом. Он не нашел противоядия, но проникнул лучше других в прогрессивный паралич Европы (если понимать этот паралич не как чисто медицинский, а как политико-философский диагноз).
КМ: На самом деле есть большой соблазн рассматривать этот текст как «убийство» модернизма. Но, как ты сказал, на руинах вырастает что-то новое, уже некий метамодернизм. При первом знакомстве с текстом появляется ощущение постмодернистской игры, но при последующих обращениях уже кажется, что это попытка создать из «модернистского» трупа новую жизнь.
АС: Я для себя это так определял: конечно, я использую постмодернистские технологии, те же цитатность, принцип монтажа, алеаторики. Некоторые фрагменты я вставлял из книг, которые просто лежали поблизости, без всякой подготовки сшивал их с предыдущим корпусом. Момент спонтанности был запрограммирован с самого начала, и в этом не было ничего сверхнового.
Например, «Поп-механика» Курехина. Да и до него это многие делали: например, американская писательница Кэти Акер использовала в своих ранних текстах чужие (мужские) автобиографии, переписывая их от своего лица, от женского «я», а еще раньше — Берроуз со своим «методом разрезки». Это все было еще в 1960–70-е. Довольно распространенная постмодернистская стратегия. Можно вспомнить известную американскую художницу Синди Шерман, которая фотографировала себя в декорациях и костюмах кинодив, но привносила мотив извращенности, пародийности, тем самым подрывая разрекламированный образ-фетиш, который уже стал достоянием массовой культуры и объективирует женщину, превращает ее в объект желания. Или взять нашего Владимира Сорокина, виртуоза микширования чужих стилей. В постмодернистской парадигме эта стратегия обычно направлена на развенчание, на критику модернистских установок, критику цивилизации желания и художественного рынка, на демифологизацию образов великих модернистов, на деконструкцию. То есть мы связываем негативный критический запал с иронической постмодернистской парадигмой.
Для меня же игра здесь ведется на другом столе и ставки другие. Я использовал похожую технику, но с противоположной целью для того, чтобы «влипнуть» в образ Ницше без всякой иронии. Да, Ницше в своих текстах прибегает к пародированию, к иронии, к самоинсценировке и карикатуре (особенно в поэзии). И я это тоже использую по отношению к нему. Но я не ставлю себе задачи деконструировать Ницше или деконструировать модернистский канон. Напротив, через текстуальный взрыв и распад я показываю, что наша историческая эпоха является не перечеркиванием модернистской парадигмы, не неким другим началом, а продолжением того же, но другими средствами. Для меня важен этот момент, очень традиционный, даже домодернистский: серьезность и «влипание». Я не боюсь отождествить себя с распадом Ницше или с его безумной влюбленностью в Лу. В последнем случае, конечно, ирония возможна, с этим ничего не поделаешь. И в тексте тоже есть много грубого и смешного, связанного с беспомощностью Ницше как мужчины, как любовника, потому что он действительно был слаб здоровьем. (По полгода болел, постоянно мучился от головных болей, диареи, рвоты, близорукости. Если почитать его письма, волосы дыбом встают, непонятно, когда он вообще писал. А писал он на наркотиках с двадцати семи лет.) И, конечно, он был полностью убит, когда Лу Саломе его отвергла, причем дважды. Это была единственная женщина, которую он обожал, которой восхищался, потому что она была ему интеллектуальной ровней. Однако предпочла какого-то Пауля Рэ… И главной задачей для меня было пережить эту любовную катастрофу, ставшую прелюдией к другой, к окончательной катастрофе, через чужие тексты. Я совсем не пытался сводить счеты ни с Прустом, ни с Беккетом, ни с Бланшо, как не собирался деконструировать их подноготную, которая могла бы перечеркнуть достижения этих писателей или которая уязвляла бы их, упирая, например, на слепоту или самогероизацию, — можно сказать, я перекодировал постмодернистский иронический инструментарий обратно в абсолютную модернистскую серьезность.
КМ: Продвигаясь по тексту, можно заметить, как он ускоряется: в первой, более нарративной, части события происходят медленнее и разбираются более подробно. В финале же все происходит нелинейно, словно разрозненные воспоминания представлены в слайдовом режиме. Это похоже на приближение финала страшной болезни. И кажется, что факт физического недуга сказывается в каком-то смысле и на авторе, потому что текст с точки зрения швов и сцеплений ближе к концу становится более нервным, безумным. Плавные переходы в начале сменяются нервными стыками. Автор тоже теряет себя и нейтрализуется за счёт других голосов, действующих лиц, персонажей, которые переходят из других произведений, лишаются своей функции, обретая здесь новую. Расскажи, пожалуйста, про ключевых персонажей романа.
АС: Роман состоит из двух частей. Первая действительно более нарративна. Во второй части я все ключи и отмычки выкладываю на стол: пересказываю реальные истории о том, как, например, протонацисты пытались лечить уже сумасшедшего Ницше корибантскими танцами или устраивая ему инсценировки королевских приемов. Во второй части излагается в том числе фактическая сторона любовного — или псевдолюбовного — треугольника (Ницше — Лу — Пауль Рэ). Все персонажи в первой части фигурируют почти анонимно, как некие тени реальных исторических лиц, но при этом в каком-то повествовательном хороводе, а вот во второй части я в документальном стиле привожу фактическую сторону того, что в первой части было беллетризовано. Во второй части вводится фигура фон Больного, которая, как и весь текст, амбивалентна. В XX веке действительно был такой немецкий философ-экзистенциалист Отто Фридрих Больнов. Он начинал как физик, но увлекся философией жизни. В своем романе я его делаю «фон Больновым», который пишет статью о Ницше. И уже по мотивам, по краям этой статьи некий автор (нарративное «я») пишет роман, частью которого становится и фон Больнов. Это достаточно распространенный прием — псевдо- или даже фальшприем. В этой двойственности — с одной стороны, карикатурной и иронической, с другой стороны, правдивой — и заключается ключ ко всему устройству текста.
В Больнове я описываю и себя, и черты некоторых знакомых из предыдущей эпохи. Одним из его прототипов является реальный талантливый поэт и художник, которого врачи залечили до безумия. Я посещал его в психиатрической лечебнице. Это был незабываемый опыт, и он тоже отразился в стиле письма. В то же время моей писательской, даже диджейской задачей было убрать все швы и заставить читателя поверить, что все это пишется одним человеком.
вас может заинтересовать
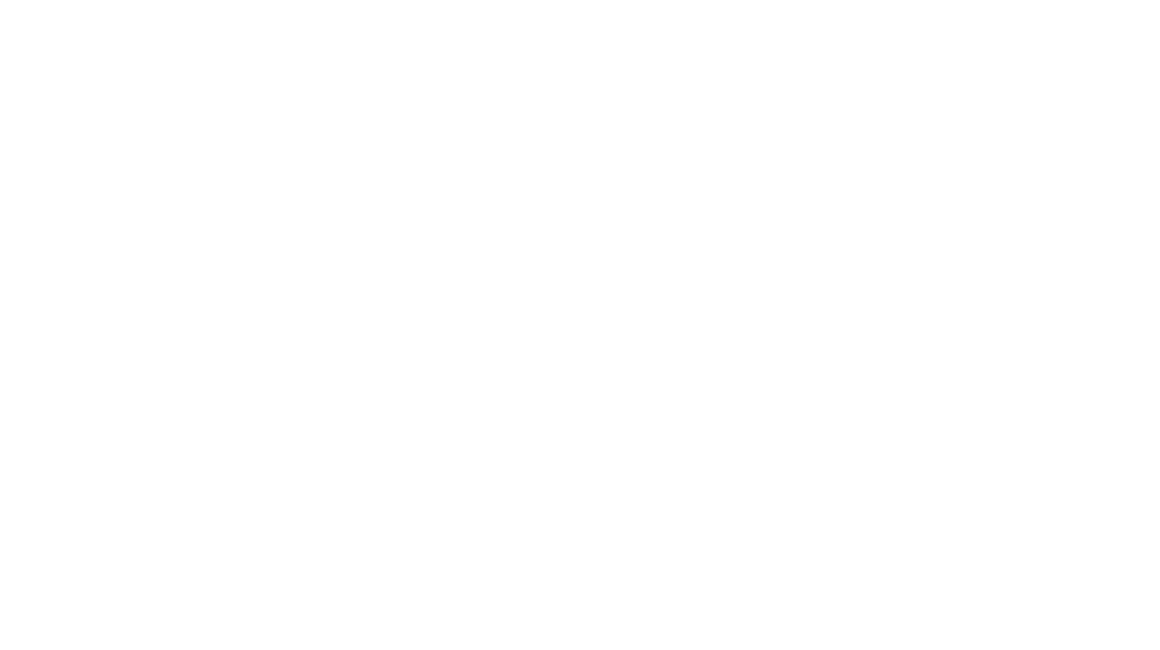
Никакого «Я»
Публикуем фрагменты беседы Кати Морозовой с поэтом Александром Скиданом, поводом для которой стал выход книжной версии романа «Путеводитель по N», написанного еще в 90-е годы и впервые напечатанного в журнале «Комментарии».
Катя Морозова: Разговор о романе «Путеводитель по N» хочется выстроить вокруг двух основных тем: его особенного и сложносочиненного устройства и фигуры N, которой роман посвящен. Расскажи подробнее о выборе романного метода и о своих отношениях с Ницше, позволивших тебе приблизиться к нему настолько, что авторская позиция, с которой ты должен был бы на него смотреть, сместилась в болезненное пространство безумия персонажа.
Александр Скидан: Роман написан как бы поверх текстов самого Фридриха Ницше, прежде всего поверх его писем разным адресатам, поверх его поздних вещей и записей, сделанных уже на грани безумия. Написан в коллажном стиле. В «Путеводителе по N» я впервые опробовал метод сэмплирования чужих текстов с их последующей минимальной аранжировкой, то есть в романе, строго говоря, нет ни одного моего собственного слова, кроме каких-то чисто грамматически, синтаксически необходимых переходов от одного текстового блока к другому.
К этой технике меня подвело, в общем-то, очень сильное, фантазматическое отождествление с Ницше. В 1990 году вышло его двухтомное собрание сочинений, подготовленное Кареном Свасьяном, — меня оно буквально перевернуло. После этого я кинулся читать о Ницше все, что было тогда доступно. Меня захватила и судьба Ницше, и то, как она оказалась вплетена в его тексты: за каждое свое слово он заплатил. Довольно рано, когда ему еще не было тридцати, у него начались страшные головные боли, которые по несколько месяцев не позволяли ему работать. Он употреблял сильные средства, в том числе наркотические, чтобы глушить эту боль, и постепенно они, конечно, способствовали его разрушению.
Меня поразила история о том, что спустя какое-то время после заключения в психиатрическую лечебницу, когда он уже не мог разговаривать (т. е. потерял дар речи), не узнавал ни свою сестру, ни мать, не говоря уже о знакомых, он тем не менее иногда спускался в гостиную и, не фальшивя, играл на рояле. Как человек с помутившимся сознанием может исполнять довольно сложную музыку, попадая в нужную ноту? О чем это говорит? Что какие-то участки мозга все еще продолжали функционировать? Что краешком сознания он в некотором смысле продолжал быть собой? Он и сам был композитором. А искусство композитора, как и исполнителя, — это величайшая самодисциплина и жесточайшая дрессура. Вот этот парадокс меня глубоко потряс.
Ну и потом, конечно, Ницше — самый светлый ум Европы своего времени. И процесс обрушения этого сознания, этого светлейшего европейского ума как бы совпадает с пророчеством Ницше о том, что Европа будет лежать в руинах. Это встречается в его письмах, в его поздних произведениях и в предисловиях, которые он под конец жизни писал к своим ранним вещам. В Ecce homo он говорил: «Я не человек, я — динамит». Иными словами, в каком-то смысле он видел себя русским бомбистом — нигилистом. Он был одним из первых, кто узнал в Достоевском великого прорицателя и оттолкнулся от фигуры нигилиста, переосмыслив ее в планетарном контексте как завершение западноевропейской метафизики. Узнавание Достоевского и узнавание этой фигуры нигилиста как определяющей горизонт будущего вплоть до сегодняшнего дня: если следовать Ницше, терроризм, с моей точки зрения, является своего рода пароксизмом нигилизма, который действительно начинается с индивидуального террора, как отчаянная реакция на бессилие революционным образом изменить общество. Позднее, уже в нашу эпоху, нигилизм входит в циническую фазу. Ницше был первым, кто это понял, понял еще до знакомства с Лу Андреас-Саломе. К слову, в своей книге Лу предложила формулу андрогинности художественных натур: такие развитые личности, как Ницше, даже будучи биологически мужского рода, благодаря творчеству трансформируются в двуполое существо. Это вырастает из их разговоров с Ницше, ведь Ницше тоже видел в ней андрогина, Заратустру в юбке.Этот мотив двуполости я использую в романе — через «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке, с которым Лу долгое время тоже связывали близкие отношения.
Что еще необходимо добавить? Ницше меня как-то влек. До того как я сел писать роман, я перевел несколько философских работ Жан-Люка Нанси, в том числе одно эссе, посвященное прогрессивному параличу Ницше. А еще в 1994 году я оказался в Америке, и там мне в руки попался роман Ирвина Ялома «Когда Ницше плакал», тогда еще не переведенный на русский. Я начал его листать — меня заинтриговало название. Но сам роман разочаровал своей конвенциональностью и убогостью вымысла. Ялом предлагает такую воображаемую ситуацию: когда Ницше заболевает, Лу Саломе идет к старшему коллеге и наставнику Фрейда (он тогда еще не изобрел психоанализ) Йозефу Брейеру, который начинает курс лечения Ницше, и именно благодаря этому курсу изобретается психоанализ. Сюжетный ход очень интригующий и любопытный, мне он понравился, но роман написан очень традиционно, с описанием персонажей по типу «он подумал то-то и то-то», «он встал и посмотрел на часы» и т. д. Это просто меня взбесило, потому что настолько не соответствует ни темпераменту, ни скорости, на которой жил и мыслил Ницше, а значит и Лу Саломе, — вообще ничему не соответствует. Это просто попытка реконструкции Вены XIX века, довольно убогое, домодернистское письмо. И вот, отчасти оттолкнувшись от этой идеи («Когда Ницше плакал»), я решил, даже толком не прочитав этот роман Ялома, переписать его своими средствами, т. е. раскромсать все это вдребезги, чтобы приблизиться к прогрессивному параличу Ницше. И приближался я через того же Достоевского, через Набокова, Беккета, Бланшо, Селина. Их тексты я микшировал, исходя из одного наброска Ницше. Сохранился план «совершенной книги», его цитирует Карен Свасьян в своем предисловии к двухтомнику. И в этом плане-наброске Ницше не различает философский и литературный, художественный дискурс, он говорит, что стиль должен быть един. Еще там есть такая запись: «Никакого „я"… Идеальный монолог…» Это тоже своего рода ключ к тому, что я стал делать. С одной стороны, это монолог, который подразумевает некоего субъекта высказывания, некое «я», с другой — Ницше говорит: «Никакого „я"». Как это возможно? Я исхожу из допущения — довольно скандального, но творчески, как мне кажется, очень мощного, — что вот этот сошедший с ума Ницше, который продолжает, не фальшивя, играть на рояле, после своей смерти — или после смерти своего рассудка — начинает говорить голосами тех, кто стали возможны благодаря его прогрессивному параличу: голосами Лу, Рильке, Пруста, Томаса Манна, Селина, Набокова, Бланшо, Беккета, Бруно Шульца… Все стилистические швы, швы модальностей разных высказываний я сглаживал, убирал, чтобы сделать итоговый текст абсолютно неузнаваемым. Это было одной из задач. Если мне сейчас понадобится восстановить, где чей текст, я не смогу этого сделать: я не помню точно, где заканчивается Пруст, и где начинается Достоевский, и какие именно их тексты использованы. Их там много. И ни одного моего слова, чистое микширование.
Александр Скидан: Роман написан как бы поверх текстов самого Фридриха Ницше, прежде всего поверх его писем разным адресатам, поверх его поздних вещей и записей, сделанных уже на грани безумия. Написан в коллажном стиле. В «Путеводителе по N» я впервые опробовал метод сэмплирования чужих текстов с их последующей минимальной аранжировкой, то есть в романе, строго говоря, нет ни одного моего собственного слова, кроме каких-то чисто грамматически, синтаксически необходимых переходов от одного текстового блока к другому.
К этой технике меня подвело, в общем-то, очень сильное, фантазматическое отождествление с Ницше. В 1990 году вышло его двухтомное собрание сочинений, подготовленное Кареном Свасьяном, — меня оно буквально перевернуло. После этого я кинулся читать о Ницше все, что было тогда доступно. Меня захватила и судьба Ницше, и то, как она оказалась вплетена в его тексты: за каждое свое слово он заплатил. Довольно рано, когда ему еще не было тридцати, у него начались страшные головные боли, которые по несколько месяцев не позволяли ему работать. Он употреблял сильные средства, в том числе наркотические, чтобы глушить эту боль, и постепенно они, конечно, способствовали его разрушению.
Меня поразила история о том, что спустя какое-то время после заключения в психиатрическую лечебницу, когда он уже не мог разговаривать (т. е. потерял дар речи), не узнавал ни свою сестру, ни мать, не говоря уже о знакомых, он тем не менее иногда спускался в гостиную и, не фальшивя, играл на рояле. Как человек с помутившимся сознанием может исполнять довольно сложную музыку, попадая в нужную ноту? О чем это говорит? Что какие-то участки мозга все еще продолжали функционировать? Что краешком сознания он в некотором смысле продолжал быть собой? Он и сам был композитором. А искусство композитора, как и исполнителя, — это величайшая самодисциплина и жесточайшая дрессура. Вот этот парадокс меня глубоко потряс.
Ну и потом, конечно, Ницше — самый светлый ум Европы своего времени. И процесс обрушения этого сознания, этого светлейшего европейского ума как бы совпадает с пророчеством Ницше о том, что Европа будет лежать в руинах. Это встречается в его письмах, в его поздних произведениях и в предисловиях, которые он под конец жизни писал к своим ранним вещам. В Ecce homo он говорил: «Я не человек, я — динамит». Иными словами, в каком-то смысле он видел себя русским бомбистом — нигилистом. Он был одним из первых, кто узнал в Достоевском великого прорицателя и оттолкнулся от фигуры нигилиста, переосмыслив ее в планетарном контексте как завершение западноевропейской метафизики. Узнавание Достоевского и узнавание этой фигуры нигилиста как определяющей горизонт будущего вплоть до сегодняшнего дня: если следовать Ницше, терроризм, с моей точки зрения, является своего рода пароксизмом нигилизма, который действительно начинается с индивидуального террора, как отчаянная реакция на бессилие революционным образом изменить общество. Позднее, уже в нашу эпоху, нигилизм входит в циническую фазу. Ницше был первым, кто это понял, понял еще до знакомства с Лу Андреас-Саломе. К слову, в своей книге Лу предложила формулу андрогинности художественных натур: такие развитые личности, как Ницше, даже будучи биологически мужского рода, благодаря творчеству трансформируются в двуполое существо. Это вырастает из их разговоров с Ницше, ведь Ницше тоже видел в ней андрогина, Заратустру в юбке.Этот мотив двуполости я использую в романе — через «Записки Мальте Лауридса Бригге» Рильке, с которым Лу долгое время тоже связывали близкие отношения.
Что еще необходимо добавить? Ницше меня как-то влек. До того как я сел писать роман, я перевел несколько философских работ Жан-Люка Нанси, в том числе одно эссе, посвященное прогрессивному параличу Ницше. А еще в 1994 году я оказался в Америке, и там мне в руки попался роман Ирвина Ялома «Когда Ницше плакал», тогда еще не переведенный на русский. Я начал его листать — меня заинтриговало название. Но сам роман разочаровал своей конвенциональностью и убогостью вымысла. Ялом предлагает такую воображаемую ситуацию: когда Ницше заболевает, Лу Саломе идет к старшему коллеге и наставнику Фрейда (он тогда еще не изобрел психоанализ) Йозефу Брейеру, который начинает курс лечения Ницше, и именно благодаря этому курсу изобретается психоанализ. Сюжетный ход очень интригующий и любопытный, мне он понравился, но роман написан очень традиционно, с описанием персонажей по типу «он подумал то-то и то-то», «он встал и посмотрел на часы» и т. д. Это просто меня взбесило, потому что настолько не соответствует ни темпераменту, ни скорости, на которой жил и мыслил Ницше, а значит и Лу Саломе, — вообще ничему не соответствует. Это просто попытка реконструкции Вены XIX века, довольно убогое, домодернистское письмо. И вот, отчасти оттолкнувшись от этой идеи («Когда Ницше плакал»), я решил, даже толком не прочитав этот роман Ялома, переписать его своими средствами, т. е. раскромсать все это вдребезги, чтобы приблизиться к прогрессивному параличу Ницше. И приближался я через того же Достоевского, через Набокова, Беккета, Бланшо, Селина. Их тексты я микшировал, исходя из одного наброска Ницше. Сохранился план «совершенной книги», его цитирует Карен Свасьян в своем предисловии к двухтомнику. И в этом плане-наброске Ницше не различает философский и литературный, художественный дискурс, он говорит, что стиль должен быть един. Еще там есть такая запись: «Никакого „я"… Идеальный монолог…» Это тоже своего рода ключ к тому, что я стал делать. С одной стороны, это монолог, который подразумевает некоего субъекта высказывания, некое «я», с другой — Ницше говорит: «Никакого „я"». Как это возможно? Я исхожу из допущения — довольно скандального, но творчески, как мне кажется, очень мощного, — что вот этот сошедший с ума Ницше, который продолжает, не фальшивя, играть на рояле, после своей смерти — или после смерти своего рассудка — начинает говорить голосами тех, кто стали возможны благодаря его прогрессивному параличу: голосами Лу, Рильке, Пруста, Томаса Манна, Селина, Набокова, Бланшо, Беккета, Бруно Шульца… Все стилистические швы, швы модальностей разных высказываний я сглаживал, убирал, чтобы сделать итоговый текст абсолютно неузнаваемым. Это было одной из задач. Если мне сейчас понадобится восстановить, где чей текст, я не смогу этого сделать: я не помню точно, где заканчивается Пруст, и где начинается Достоевский, и какие именно их тексты использованы. Их там много. И ни одного моего слова, чистое микширование.
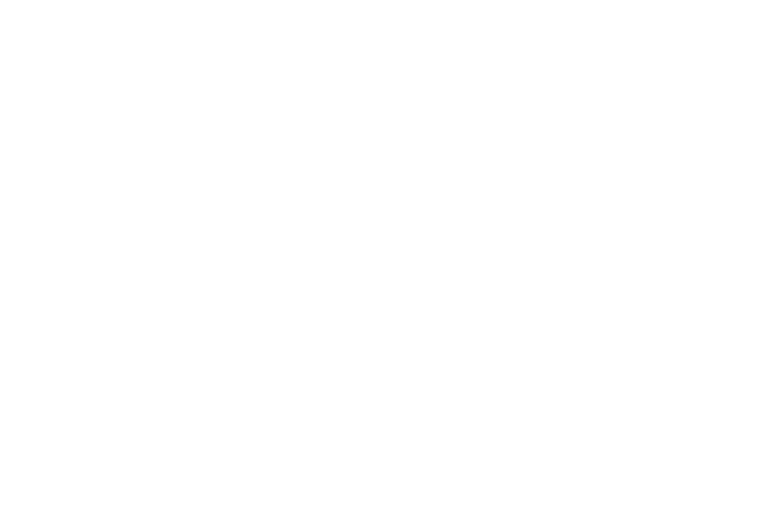
КМ: «Путеводитель...» и не предлагает читателю игру или квест в поисках разгадок о происхождении той или иной фразы. Тем не менее некоторые фрагменты весьма узнаваемы, если читатель хотя бы поверхностно знаком с «источниками»: например, самое начало — «Воспоминания террориста» Савинкова. Роман начинается с явного указания на террор, революцию, катастрофу с телом. И здесь распад, болезнь тела и духа Ницше ведут к метафоре революции самого текста, текста модернистского и твоего текста, в частности.
АС: Да, здесь есть такая амбивалентность, потому что ничего хорошего, конечно, в безумии и в прогрессивном параличе нет: человек медленно превращается в овощ. Но есть момент, близкий по описанию к эпилепсии Достоевского, когда за несколько мгновений до припадка ты переживаешь чувство просветления, слияния с миром, тебе открывается гармония сфер, захлестывает невероятное чувство любви и полноты бытия. Не только Достоевским это описано, есть много свидетельств. И Ницше испытал нечто похожее, может быть, не в таком концентрированном виде, как эпилептический удар, но он приближался к этому состоянию, закончив «Веселую науку» и в процессе работы над «Заратустрой». И после «Заратустры», когда писал две свои последние книги, «Антихрист» и Ecce homo (интеллектуальную автобиографию), он переживал в течение полугода это состояние эйфории. Он понимал, что ему открылось что-то неслыханное, и не знал, как с этим справиться (или не хотел справляться, а, наоборот, отдался этому чувству без остатка). Так проявляется двойственность самой болезни.
То же самое можно спроецировать на текстуальную работу. С одной стороны, это отчуждение: не я пишу, я просто беру чужие тексты и приспосабливаю их для своих нужд. С другой — я это делаю именно для того, чтобы приблизиться к физическому вживанию в Ницше, в его телесный распад. Понятно, что он переживает распад речи, распад сознания, но мне было важно представить, как человеческое, живое тело существует в этом режиме. Что оно может испытывать? То есть через отчуждающую технику я пытался приблизиться к вживанию в роль. Потому что, если бы я писал от себя, придумывая условные декорации, это было бы невыносимо фальшивым, как у Ялома. Если мы берем какой-то корпус модернистских текстов, включая тех же Батая, Бланшо, Шестова, Достоевского, может, и самого Ницше, то я как бы подрываю этот корпус, как террорист. Тем самым высвобождается историческое, травматическое ядро, к которому по-другому не подобраться. Это можно сравнить с вирусом, который прививает себе врач, чтобы создать возможную сыворотку против болезни, им исследуемой — по-другому этой сыворотки не откроешь. Есть здесь, конечно, определенный риск, но я как бы воспроизвожу этот риск, заимствуя его структуру — или «план» — у самого Ницше, потому что он и был таким врачом-симптоматологом. Он не нашел противоядия, но проникнул лучше других в прогрессивный паралич Европы (если понимать этот паралич не как чисто медицинский, а как политико-философский диагноз).
КМ: На самом деле есть большой соблазн рассматривать этот текст как «убийство» модернизма. Но, как ты сказал, на руинах вырастает что-то новое, уже некий метамодернизм. При первом знакомстве с текстом появляется ощущение постмодернистской игры, но при последующих обращениях уже кажется, что это попытка создать из «модернистского» трупа новую жизнь.
АС: Я для себя это так определял: конечно, я использую постмодернистские технологии, те же цитатность, принцип монтажа, алеаторики. Некоторые фрагменты я вставлял из книг, которые просто лежали поблизости, без всякой подготовки сшивал их с предыдущим корпусом. Момент спонтанности был запрограммирован с самого начала, и в этом не было ничего сверхнового.
Например, «Поп-механика» Курехина. Да и до него это многие делали: например, американская писательница Кэти Акер использовала в своих ранних текстах чужие (мужские) автобиографии, переписывая их от своего лица, от женского «я», а еще раньше — Берроуз со своим «методом разрезки». Это все было еще в 1960–70-е. Довольно распространенная постмодернистская стратегия. Можно вспомнить известную американскую художницу Синди Шерман, которая фотографировала себя в декорациях и костюмах кинодив, но привносила мотив извращенности, пародийности, тем самым подрывая разрекламированный образ-фетиш, который уже стал достоянием массовой культуры и объективирует женщину, превращает ее в объект желания. Или взять нашего Владимира Сорокина, виртуоза микширования чужих стилей. В постмодернистской парадигме эта стратегия обычно направлена на развенчание, на критику модернистских установок, критику цивилизации желания и художественного рынка, на демифологизацию образов великих модернистов, на деконструкцию. То есть мы связываем негативный критический запал с иронической постмодернистской парадигмой.
Для меня же игра здесь ведется на другом столе и ставки другие. Я использовал похожую технику, но с противоположной целью для того, чтобы «влипнуть» в образ Ницше без всякой иронии. Да, Ницше в своих текстах прибегает к пародированию, к иронии, к самоинсценировке и карикатуре (особенно в поэзии). И я это тоже использую по отношению к нему. Но я не ставлю себе задачи деконструировать Ницше или деконструировать модернистский канон. Напротив, через текстуальный взрыв и распад я показываю, что наша историческая эпоха является не перечеркиванием модернистской парадигмы, не неким другим началом, а продолжением того же, но другими средствами. Для меня важен этот момент, очень традиционный, даже домодернистский: серьезность и «влипание». Я не боюсь отождествить себя с распадом Ницше или с его безумной влюбленностью в Лу. В последнем случае, конечно, ирония возможна, с этим ничего не поделаешь. И в тексте тоже есть много грубого и смешного, связанного с беспомощностью Ницше как мужчины, как любовника, потому что он действительно был слаб здоровьем. (По полгода болел, постоянно мучился от головных болей, диареи, рвоты, близорукости. Если почитать его письма, волосы дыбом встают, непонятно, когда он вообще писал. А писал он на наркотиках с двадцати семи лет.) И, конечно, он был полностью убит, когда Лу Саломе его отвергла, причем дважды. Это была единственная женщина, которую он обожал, которой восхищался, потому что она была ему интеллектуальной ровней. Однако предпочла какого-то Пауля Рэ… И главной задачей для меня было пережить эту любовную катастрофу, ставшую прелюдией к другой, к окончательной катастрофе, через чужие тексты. Я совсем не пытался сводить счеты ни с Прустом, ни с Беккетом, ни с Бланшо, как не собирался деконструировать их подноготную, которая могла бы перечеркнуть достижения этих писателей или которая уязвляла бы их, упирая, например, на слепоту или самогероизацию, — можно сказать, я перекодировал постмодернистский иронический инструментарий обратно в абсолютную модернистскую серьезность.
КМ: Продвигаясь по тексту, можно заметить, как он ускоряется: в первой, более нарративной, части события происходят медленнее и разбираются более подробно. В финале же все происходит нелинейно, словно разрозненные воспоминания представлены в слайдовом режиме. Это похоже на приближение финала страшной болезни. И кажется, что факт физического недуга сказывается в каком-то смысле и на авторе, потому что текст с точки зрения швов и сцеплений ближе к концу становится более нервным, безумным. Плавные переходы в начале сменяются нервными стыками. Автор тоже теряет себя и нейтрализуется за счёт других голосов, действующих лиц, персонажей, которые переходят из других произведений, лишаются своей функции, обретая здесь новую. Расскажи, пожалуйста, про ключевых персонажей романа.
АС: Роман состоит из двух частей. Первая действительно более нарративна. Во второй части я все ключи и отмычки выкладываю на стол: пересказываю реальные истории о том, как, например, протонацисты пытались лечить уже сумасшедшего Ницше корибантскими танцами или устраивая ему инсценировки королевских приемов. Во второй части излагается в том числе фактическая сторона любовного — или псевдолюбовного — треугольника (Ницше — Лу — Пауль Рэ). Все персонажи в первой части фигурируют почти анонимно, как некие тени реальных исторических лиц, но при этом в каком-то повествовательном хороводе, а вот во второй части я в документальном стиле привожу фактическую сторону того, что в первой части было беллетризовано. Во второй части вводится фигура фон Больного, которая, как и весь текст, амбивалентна. В XX веке действительно был такой немецкий философ-экзистенциалист Отто Фридрих Больнов. Он начинал как физик, но увлекся философией жизни. В своем романе я его делаю «фон Больновым», который пишет статью о Ницше. И уже по мотивам, по краям этой статьи некий автор (нарративное «я») пишет роман, частью которого становится и фон Больнов. Это достаточно распространенный прием — псевдо- или даже фальшприем. В этой двойственности — с одной стороны, карикатурной и иронической, с другой стороны, правдивой — и заключается ключ ко всему устройству текста.
В Больнове я описываю и себя, и черты некоторых знакомых из предыдущей эпохи. Одним из его прототипов является реальный талантливый поэт и художник, которого врачи залечили до безумия. Я посещал его в психиатрической лечебнице. Это был незабываемый опыт, и он тоже отразился в стиле письма. В то же время моей писательской, даже диджейской задачей было убрать все швы и заставить читателя поверить, что все это пишется одним человеком.
АС: Да, здесь есть такая амбивалентность, потому что ничего хорошего, конечно, в безумии и в прогрессивном параличе нет: человек медленно превращается в овощ. Но есть момент, близкий по описанию к эпилепсии Достоевского, когда за несколько мгновений до припадка ты переживаешь чувство просветления, слияния с миром, тебе открывается гармония сфер, захлестывает невероятное чувство любви и полноты бытия. Не только Достоевским это описано, есть много свидетельств. И Ницше испытал нечто похожее, может быть, не в таком концентрированном виде, как эпилептический удар, но он приближался к этому состоянию, закончив «Веселую науку» и в процессе работы над «Заратустрой». И после «Заратустры», когда писал две свои последние книги, «Антихрист» и Ecce homo (интеллектуальную автобиографию), он переживал в течение полугода это состояние эйфории. Он понимал, что ему открылось что-то неслыханное, и не знал, как с этим справиться (или не хотел справляться, а, наоборот, отдался этому чувству без остатка). Так проявляется двойственность самой болезни.
То же самое можно спроецировать на текстуальную работу. С одной стороны, это отчуждение: не я пишу, я просто беру чужие тексты и приспосабливаю их для своих нужд. С другой — я это делаю именно для того, чтобы приблизиться к физическому вживанию в Ницше, в его телесный распад. Понятно, что он переживает распад речи, распад сознания, но мне было важно представить, как человеческое, живое тело существует в этом режиме. Что оно может испытывать? То есть через отчуждающую технику я пытался приблизиться к вживанию в роль. Потому что, если бы я писал от себя, придумывая условные декорации, это было бы невыносимо фальшивым, как у Ялома. Если мы берем какой-то корпус модернистских текстов, включая тех же Батая, Бланшо, Шестова, Достоевского, может, и самого Ницше, то я как бы подрываю этот корпус, как террорист. Тем самым высвобождается историческое, травматическое ядро, к которому по-другому не подобраться. Это можно сравнить с вирусом, который прививает себе врач, чтобы создать возможную сыворотку против болезни, им исследуемой — по-другому этой сыворотки не откроешь. Есть здесь, конечно, определенный риск, но я как бы воспроизвожу этот риск, заимствуя его структуру — или «план» — у самого Ницше, потому что он и был таким врачом-симптоматологом. Он не нашел противоядия, но проникнул лучше других в прогрессивный паралич Европы (если понимать этот паралич не как чисто медицинский, а как политико-философский диагноз).
КМ: На самом деле есть большой соблазн рассматривать этот текст как «убийство» модернизма. Но, как ты сказал, на руинах вырастает что-то новое, уже некий метамодернизм. При первом знакомстве с текстом появляется ощущение постмодернистской игры, но при последующих обращениях уже кажется, что это попытка создать из «модернистского» трупа новую жизнь.
АС: Я для себя это так определял: конечно, я использую постмодернистские технологии, те же цитатность, принцип монтажа, алеаторики. Некоторые фрагменты я вставлял из книг, которые просто лежали поблизости, без всякой подготовки сшивал их с предыдущим корпусом. Момент спонтанности был запрограммирован с самого начала, и в этом не было ничего сверхнового.
Например, «Поп-механика» Курехина. Да и до него это многие делали: например, американская писательница Кэти Акер использовала в своих ранних текстах чужие (мужские) автобиографии, переписывая их от своего лица, от женского «я», а еще раньше — Берроуз со своим «методом разрезки». Это все было еще в 1960–70-е. Довольно распространенная постмодернистская стратегия. Можно вспомнить известную американскую художницу Синди Шерман, которая фотографировала себя в декорациях и костюмах кинодив, но привносила мотив извращенности, пародийности, тем самым подрывая разрекламированный образ-фетиш, который уже стал достоянием массовой культуры и объективирует женщину, превращает ее в объект желания. Или взять нашего Владимира Сорокина, виртуоза микширования чужих стилей. В постмодернистской парадигме эта стратегия обычно направлена на развенчание, на критику модернистских установок, критику цивилизации желания и художественного рынка, на демифологизацию образов великих модернистов, на деконструкцию. То есть мы связываем негативный критический запал с иронической постмодернистской парадигмой.
Для меня же игра здесь ведется на другом столе и ставки другие. Я использовал похожую технику, но с противоположной целью для того, чтобы «влипнуть» в образ Ницше без всякой иронии. Да, Ницше в своих текстах прибегает к пародированию, к иронии, к самоинсценировке и карикатуре (особенно в поэзии). И я это тоже использую по отношению к нему. Но я не ставлю себе задачи деконструировать Ницше или деконструировать модернистский канон. Напротив, через текстуальный взрыв и распад я показываю, что наша историческая эпоха является не перечеркиванием модернистской парадигмы, не неким другим началом, а продолжением того же, но другими средствами. Для меня важен этот момент, очень традиционный, даже домодернистский: серьезность и «влипание». Я не боюсь отождествить себя с распадом Ницше или с его безумной влюбленностью в Лу. В последнем случае, конечно, ирония возможна, с этим ничего не поделаешь. И в тексте тоже есть много грубого и смешного, связанного с беспомощностью Ницше как мужчины, как любовника, потому что он действительно был слаб здоровьем. (По полгода болел, постоянно мучился от головных болей, диареи, рвоты, близорукости. Если почитать его письма, волосы дыбом встают, непонятно, когда он вообще писал. А писал он на наркотиках с двадцати семи лет.) И, конечно, он был полностью убит, когда Лу Саломе его отвергла, причем дважды. Это была единственная женщина, которую он обожал, которой восхищался, потому что она была ему интеллектуальной ровней. Однако предпочла какого-то Пауля Рэ… И главной задачей для меня было пережить эту любовную катастрофу, ставшую прелюдией к другой, к окончательной катастрофе, через чужие тексты. Я совсем не пытался сводить счеты ни с Прустом, ни с Беккетом, ни с Бланшо, как не собирался деконструировать их подноготную, которая могла бы перечеркнуть достижения этих писателей или которая уязвляла бы их, упирая, например, на слепоту или самогероизацию, — можно сказать, я перекодировал постмодернистский иронический инструментарий обратно в абсолютную модернистскую серьезность.
КМ: Продвигаясь по тексту, можно заметить, как он ускоряется: в первой, более нарративной, части события происходят медленнее и разбираются более подробно. В финале же все происходит нелинейно, словно разрозненные воспоминания представлены в слайдовом режиме. Это похоже на приближение финала страшной болезни. И кажется, что факт физического недуга сказывается в каком-то смысле и на авторе, потому что текст с точки зрения швов и сцеплений ближе к концу становится более нервным, безумным. Плавные переходы в начале сменяются нервными стыками. Автор тоже теряет себя и нейтрализуется за счёт других голосов, действующих лиц, персонажей, которые переходят из других произведений, лишаются своей функции, обретая здесь новую. Расскажи, пожалуйста, про ключевых персонажей романа.
АС: Роман состоит из двух частей. Первая действительно более нарративна. Во второй части я все ключи и отмычки выкладываю на стол: пересказываю реальные истории о том, как, например, протонацисты пытались лечить уже сумасшедшего Ницше корибантскими танцами или устраивая ему инсценировки королевских приемов. Во второй части излагается в том числе фактическая сторона любовного — или псевдолюбовного — треугольника (Ницше — Лу — Пауль Рэ). Все персонажи в первой части фигурируют почти анонимно, как некие тени реальных исторических лиц, но при этом в каком-то повествовательном хороводе, а вот во второй части я в документальном стиле привожу фактическую сторону того, что в первой части было беллетризовано. Во второй части вводится фигура фон Больного, которая, как и весь текст, амбивалентна. В XX веке действительно был такой немецкий философ-экзистенциалист Отто Фридрих Больнов. Он начинал как физик, но увлекся философией жизни. В своем романе я его делаю «фон Больновым», который пишет статью о Ницше. И уже по мотивам, по краям этой статьи некий автор (нарративное «я») пишет роман, частью которого становится и фон Больнов. Это достаточно распространенный прием — псевдо- или даже фальшприем. В этой двойственности — с одной стороны, карикатурной и иронической, с другой стороны, правдивой — и заключается ключ ко всему устройству текста.
В Больнове я описываю и себя, и черты некоторых знакомых из предыдущей эпохи. Одним из его прототипов является реальный талантливый поэт и художник, которого врачи залечили до безумия. Я посещал его в психиатрической лечебнице. Это был незабываемый опыт, и он тоже отразился в стиле письма. В то же время моей писательской, даже диджейской задачей было убрать все швы и заставить читателя поверить, что все это пишется одним человеком.
вас может заинтересовать

