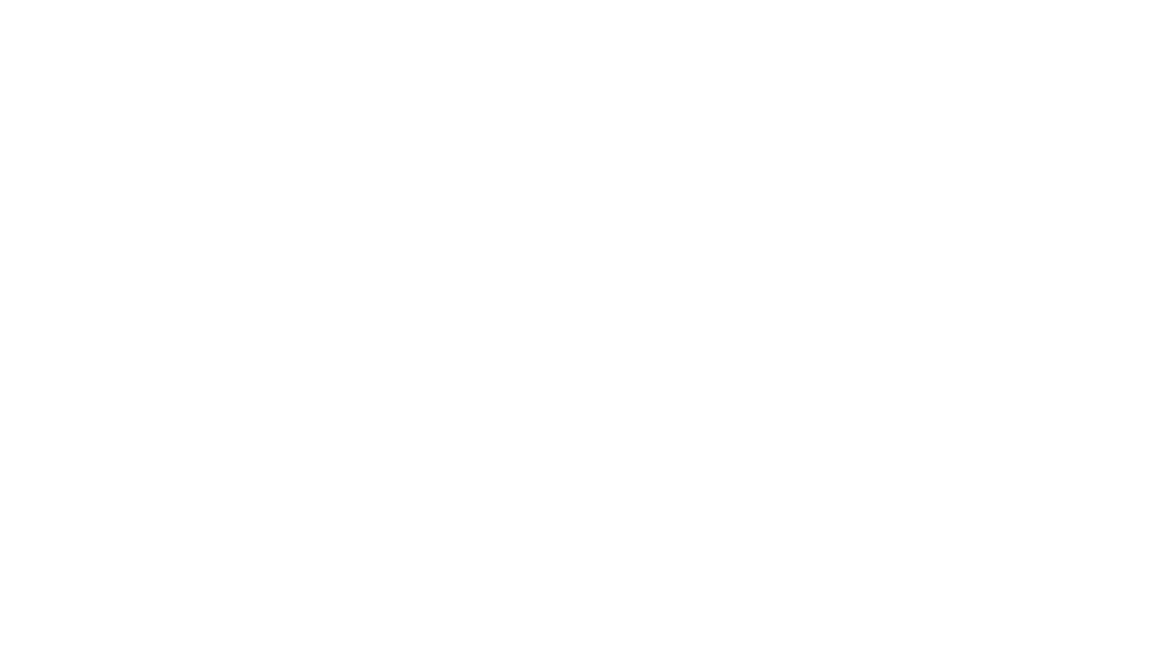
Определение пространства
Интервью Марии Нестеренко с поэтессой и писательницей Полиной Барсковой, в котором она рассказывает о своем поэтическом становлении и переходе к прозе, работе над новой книгой о блокадных поэтах и о том, из каких текстов вышла новая русская литература
МН: Расскажите о вашем детстве.
ПБ: Я родилась в 1976 году, поэтому отношу себя к одному из последних советских поколений. Школа с усиленным английским, куда я ходила, вызывала у меня запредельную тоску и ощущение бессмысленности происходящего, хотя там были какие-то замечательные вещи, например школьный музей [памяти] генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Это очень интересный персонаж, перешедший от белых к красным спец, которого уже стариком в концлагере Маутхаузен немцы за несговорчивость облили водой на морозе, превратив в ледяной столб. Я постоянно проходила мимо памятника-сосульки и макета концлагеря, это было очень страшно, а все остальное в школе было достаточно никак, блекло. В принципе, сочетание ужаса и скуки. Кроме одной очень важной дружбы и детского общения, я вообще не понимала, к чему это все может иметь отношение. Как заметил Князь Мышкин, для меня это было «не о том». Я чувствовала, что должна быть другая жизнь, что ее нужно лепить и искать.
Главное детское занятие — это чтение как ответ на все тревоги мира. Когда мне было лет восемь, со мной что-то стало происходить, я начала писать стихи, и меня отвели в студию Вячеслава Лейкина. Это было огромным явлением, принципиально отличавшимся от школы. В школе было все серое, а у Лейкина была комнатка в здании «Лениздата» на Фонтанке, там все было яркое, люди были живые, смешные. Это был конец советской эпохи, главное впечатление — именно блеклость совершенно иного уровня. На фоне всего этого я начала очень много писать. Самое важное, что дал ощутить Лейкин, — занятия литературой в некотором смысле игра в слова. Когда я думаю о том, как был устроен «Цех поэтов», мне кажется, что они тоже очень много играли. Есть странная грань между очень важными для тебя вещами и игрой. Когда мне было лет одиннадцать, например, Вячеслав Абрамович сказал, что на следующем занятии я должна почитать Анненского. Вот тебе том, выбери и читай нам. Там даже обсуждения не было: я просто «подземным», как у Вия, спецголосом, который у меня с детства, бурчала им Анненского. Это было какое-то важное другое и живое ощущение.
МН: С какими авторами Лейкин познакомил вас в плане чтения?
ПБ: В моей жизни таким образом появился Гумилев, мне было лет десять. Я считаю, что он должен входить именно в это время, Гумилев — детский поэт, конечно. Я испытывала огромное увлечение этими африканскими путешествиями, экзотическими потрясениями. Все это было очень вовремя. Я люблю об этом говорить с людьми. На вопрос: «Да что вы могли понимать в таком возрасте?» я отвечаю: «Мы очень многое понимали». Мы очень много воспринимали. В частности, звук. Это все спорно, но это интересный спор. Что это значит? То, что в нас в столь нежном возрасте был всажен модернистский, в частности, акмеистический звук, было очень хорошо. Это на меня оказало огромное влияние. Мы сегодня живем в поэзии, которая совсем по-другому работает со звуком, апофатически. Но тот опыт разнообразного модернистского мастерства вошел в мою жизнь.
Еще я очень хорошо помню, как в «Иностранной литературе» наткнулась на публикацию Целана. Впервые я прочитала «Золото волос твоих…». Я не знаю, в каком возрасте лучше говорить о лагерях. Когда ты это поймешь? Может быть, никогда. Я пятнадцать лет занимаюсь блокадой, и я не совсем знаю, что значит понять это. Но то, что ты сталкиваешься с какими-то мирами, когда ты максимально открыт, мне кажется, очень хорошо.
Конечно, тогда же сформировалось очень серьезное отношение к Бродскому. Он был «наше все». Юность я провела в чаду Бродского. Помню, что это была долгая, счастливая, мучительная болезнь, когда ты засыпаешь и просыпаешься в лихорадке, проживаешь это ощущение год за годом. Я жила в этом языке. Интересно, что этот сюжет недавно вернулся. Мой друг по студии в какой-то момент принес Аронзона — так я лет в двенадцать о нем узнала, то есть узнала о втором направлении ленинградского модернизма, связанном с заумью. С одной стороны, это показалось любопытным, но это был не Бродский, поэтому меня не очень впечатлило. Понадобилось очень много времени, чтобы понять, насколько это замечательно. Мы читали стихи в переводе, были какие-то свои предпочтения, но, в общем, с миром Бродского был впущен формализм и Серебряный век.
Мне кажется, что сейчас, в совсем другом состоянии ощущение мира, где чтение и письмо интимно связаны и все это игра, очень хорошо ощущается до сих пор. Это все постоянное упражнение, постоянная практика, где одно переливается в другое. Для меня это было совершенно упоительным, я ничего не хотела, кроме этого. Лейкин был невероятно остроумен, наблюдателен, мы все время смеялись. Было постоянное ощущение юношеского хохота, литературы, у которой ты все время учишься, и потока слов, который из тебя выходит.
МН: Вы назвали петроградских поэтов и ленинградцев, то есть вы жили в петроградско-ленинградском тексте?
ПБ: Скорее, да. Я в этом живу. Меня не взяли в семь лет в Вагановское, которое было рядом, потому что я была неуклюжая, а в соседнее здание, где была студия Лейкина, взяли. Мне это почему-то очень запомнилось: в балет нельзя, а стихи можно. Я об этом вспоминала каждый раз, когда шла мимо, в здание Лениздата. Это к тому, что было это городское ощущение невыносимой серой, блеклой красоты, когда ты идешь свой стишок Лейкину читать — и Севе, и Але, и Соне... Мы начинали занятие с того, что читали написанное за неделю. Никогда не говорилось, что хорошо, а что плохо, скорее, была реакция в виде пауз и улыбок. Это был такт. И вот ты идешь, несешь свой стишок по улице Росси — это была другая жизнь. Наверное, к вашему вопросу про городской текст могу ответить, что во мне остались отношения с ленинградскими и петроградскими текстами. Я сформирована всем этим, я так и осталась в этом: для меня московская поэзия, даже если это Цветаева и Пастернак, немного великовата и аляповата и громковата, такое.
МН: Люди, которые начинают рано писать, не боятся того, что это может кончиться, что этот дар пропадет?
ПБ: Это был чудовищный страх, конечно, особенно в юности. Очень это подействовало на меня, думаю. Не знаю, почему дар писать стихи не пропал у меня, и пропал у других. Или у других видоизменился, принял иную форму. Мы ничего об этом не знаем. Это мучительная вещь для пишущего: почему и как внутренняя пишущая машинка работает, когда ей хорошо, когда плохо, когда её включать, а когда выключать? У меня были моменты, когда я писала гораздо меньше или когда делала это совсем скверно. Тут ничего нового я сказать не могу. Я довольно рано поняла, что писание – это прежде всего практика, упорное вырабатывание мастерства. В последние годы, наверное, что-то еще изменилось, когда я стала писать прозу. Это то чувство, когда ты понимаешь, что можешь писать всегда, при этом ты понимаешь, что ты не можешь это делать по физиологическим и бытовым причинам, но ты в разговоре с этим находишься всегда. Это все время на грани с чтением, а в моей судьбе это связалось с преподаванием. Это одно почти бесшовное мероприятие: ты переливаешься из пишущего в читающего, из читающего — в говорящего. Для меня это оказалось ответом, моим способом.Наверное, избежание вот этого всего «мне голос был» — это ощущение мастерства. Работать нужно всегда, стремиться к этому постоянно, как художник выходит на пленэр и пишет свои этюдики, лужи, облака.
МН: Когда вы себя ощутили поэтом?
ПБ: Это вопрос внутренней наглости, наверное, но я с самого начала знала, что я — поэт. У меня было ощущение, что это то занятие, в котором от меня есть польза, в котором заключено мое отличие. Когда я сейчас смотрю на свои детские стихи, то я понимаю, что там есть почти все, что потом реализовалось, развилось. Эта машина в каком-то смысле стала работать очень рано. Еще у меня было ощущение, что с этим не связана категория хорошего и плохого, то есть я не знаю, хороший ли я поэт, или плохой. Я только знаю, что я воспринимаю мир в попытке его видеть другим, в попытке ощущать его звук, его интонации: я работаю словами. Это ощущение у меня было всегда.
ПБ: Я родилась в 1976 году, поэтому отношу себя к одному из последних советских поколений. Школа с усиленным английским, куда я ходила, вызывала у меня запредельную тоску и ощущение бессмысленности происходящего, хотя там были какие-то замечательные вещи, например школьный музей [памяти] генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Это очень интересный персонаж, перешедший от белых к красным спец, которого уже стариком в концлагере Маутхаузен немцы за несговорчивость облили водой на морозе, превратив в ледяной столб. Я постоянно проходила мимо памятника-сосульки и макета концлагеря, это было очень страшно, а все остальное в школе было достаточно никак, блекло. В принципе, сочетание ужаса и скуки. Кроме одной очень важной дружбы и детского общения, я вообще не понимала, к чему это все может иметь отношение. Как заметил Князь Мышкин, для меня это было «не о том». Я чувствовала, что должна быть другая жизнь, что ее нужно лепить и искать.
Главное детское занятие — это чтение как ответ на все тревоги мира. Когда мне было лет восемь, со мной что-то стало происходить, я начала писать стихи, и меня отвели в студию Вячеслава Лейкина. Это было огромным явлением, принципиально отличавшимся от школы. В школе было все серое, а у Лейкина была комнатка в здании «Лениздата» на Фонтанке, там все было яркое, люди были живые, смешные. Это был конец советской эпохи, главное впечатление — именно блеклость совершенно иного уровня. На фоне всего этого я начала очень много писать. Самое важное, что дал ощутить Лейкин, — занятия литературой в некотором смысле игра в слова. Когда я думаю о том, как был устроен «Цех поэтов», мне кажется, что они тоже очень много играли. Есть странная грань между очень важными для тебя вещами и игрой. Когда мне было лет одиннадцать, например, Вячеслав Абрамович сказал, что на следующем занятии я должна почитать Анненского. Вот тебе том, выбери и читай нам. Там даже обсуждения не было: я просто «подземным», как у Вия, спецголосом, который у меня с детства, бурчала им Анненского. Это было какое-то важное другое и живое ощущение.
МН: С какими авторами Лейкин познакомил вас в плане чтения?
ПБ: В моей жизни таким образом появился Гумилев, мне было лет десять. Я считаю, что он должен входить именно в это время, Гумилев — детский поэт, конечно. Я испытывала огромное увлечение этими африканскими путешествиями, экзотическими потрясениями. Все это было очень вовремя. Я люблю об этом говорить с людьми. На вопрос: «Да что вы могли понимать в таком возрасте?» я отвечаю: «Мы очень многое понимали». Мы очень много воспринимали. В частности, звук. Это все спорно, но это интересный спор. Что это значит? То, что в нас в столь нежном возрасте был всажен модернистский, в частности, акмеистический звук, было очень хорошо. Это на меня оказало огромное влияние. Мы сегодня живем в поэзии, которая совсем по-другому работает со звуком, апофатически. Но тот опыт разнообразного модернистского мастерства вошел в мою жизнь.
Еще я очень хорошо помню, как в «Иностранной литературе» наткнулась на публикацию Целана. Впервые я прочитала «Золото волос твоих…». Я не знаю, в каком возрасте лучше говорить о лагерях. Когда ты это поймешь? Может быть, никогда. Я пятнадцать лет занимаюсь блокадой, и я не совсем знаю, что значит понять это. Но то, что ты сталкиваешься с какими-то мирами, когда ты максимально открыт, мне кажется, очень хорошо.
Конечно, тогда же сформировалось очень серьезное отношение к Бродскому. Он был «наше все». Юность я провела в чаду Бродского. Помню, что это была долгая, счастливая, мучительная болезнь, когда ты засыпаешь и просыпаешься в лихорадке, проживаешь это ощущение год за годом. Я жила в этом языке. Интересно, что этот сюжет недавно вернулся. Мой друг по студии в какой-то момент принес Аронзона — так я лет в двенадцать о нем узнала, то есть узнала о втором направлении ленинградского модернизма, связанном с заумью. С одной стороны, это показалось любопытным, но это был не Бродский, поэтому меня не очень впечатлило. Понадобилось очень много времени, чтобы понять, насколько это замечательно. Мы читали стихи в переводе, были какие-то свои предпочтения, но, в общем, с миром Бродского был впущен формализм и Серебряный век.
Мне кажется, что сейчас, в совсем другом состоянии ощущение мира, где чтение и письмо интимно связаны и все это игра, очень хорошо ощущается до сих пор. Это все постоянное упражнение, постоянная практика, где одно переливается в другое. Для меня это было совершенно упоительным, я ничего не хотела, кроме этого. Лейкин был невероятно остроумен, наблюдателен, мы все время смеялись. Было постоянное ощущение юношеского хохота, литературы, у которой ты все время учишься, и потока слов, который из тебя выходит.
МН: Вы назвали петроградских поэтов и ленинградцев, то есть вы жили в петроградско-ленинградском тексте?
ПБ: Скорее, да. Я в этом живу. Меня не взяли в семь лет в Вагановское, которое было рядом, потому что я была неуклюжая, а в соседнее здание, где была студия Лейкина, взяли. Мне это почему-то очень запомнилось: в балет нельзя, а стихи можно. Я об этом вспоминала каждый раз, когда шла мимо, в здание Лениздата. Это к тому, что было это городское ощущение невыносимой серой, блеклой красоты, когда ты идешь свой стишок Лейкину читать — и Севе, и Але, и Соне... Мы начинали занятие с того, что читали написанное за неделю. Никогда не говорилось, что хорошо, а что плохо, скорее, была реакция в виде пауз и улыбок. Это был такт. И вот ты идешь, несешь свой стишок по улице Росси — это была другая жизнь. Наверное, к вашему вопросу про городской текст могу ответить, что во мне остались отношения с ленинградскими и петроградскими текстами. Я сформирована всем этим, я так и осталась в этом: для меня московская поэзия, даже если это Цветаева и Пастернак, немного великовата и аляповата и громковата, такое.
МН: Люди, которые начинают рано писать, не боятся того, что это может кончиться, что этот дар пропадет?
ПБ: Это был чудовищный страх, конечно, особенно в юности. Очень это подействовало на меня, думаю. Не знаю, почему дар писать стихи не пропал у меня, и пропал у других. Или у других видоизменился, принял иную форму. Мы ничего об этом не знаем. Это мучительная вещь для пишущего: почему и как внутренняя пишущая машинка работает, когда ей хорошо, когда плохо, когда её включать, а когда выключать? У меня были моменты, когда я писала гораздо меньше или когда делала это совсем скверно. Тут ничего нового я сказать не могу. Я довольно рано поняла, что писание – это прежде всего практика, упорное вырабатывание мастерства. В последние годы, наверное, что-то еще изменилось, когда я стала писать прозу. Это то чувство, когда ты понимаешь, что можешь писать всегда, при этом ты понимаешь, что ты не можешь это делать по физиологическим и бытовым причинам, но ты в разговоре с этим находишься всегда. Это все время на грани с чтением, а в моей судьбе это связалось с преподаванием. Это одно почти бесшовное мероприятие: ты переливаешься из пишущего в читающего, из читающего — в говорящего. Для меня это оказалось ответом, моим способом.Наверное, избежание вот этого всего «мне голос был» — это ощущение мастерства. Работать нужно всегда, стремиться к этому постоянно, как художник выходит на пленэр и пишет свои этюдики, лужи, облака.
МН: Когда вы себя ощутили поэтом?
ПБ: Это вопрос внутренней наглости, наверное, но я с самого начала знала, что я — поэт. У меня было ощущение, что это то занятие, в котором от меня есть польза, в котором заключено мое отличие. Когда я сейчас смотрю на свои детские стихи, то я понимаю, что там есть почти все, что потом реализовалось, развилось. Эта машина в каком-то смысле стала работать очень рано. Еще у меня было ощущение, что с этим не связана категория хорошего и плохого, то есть я не знаю, хороший ли я поэт, или плохой. Я только знаю, что я воспринимаю мир в попытке его видеть другим, в попытке ощущать его звук, его интонации: я работаю словами. Это ощущение у меня было всегда.
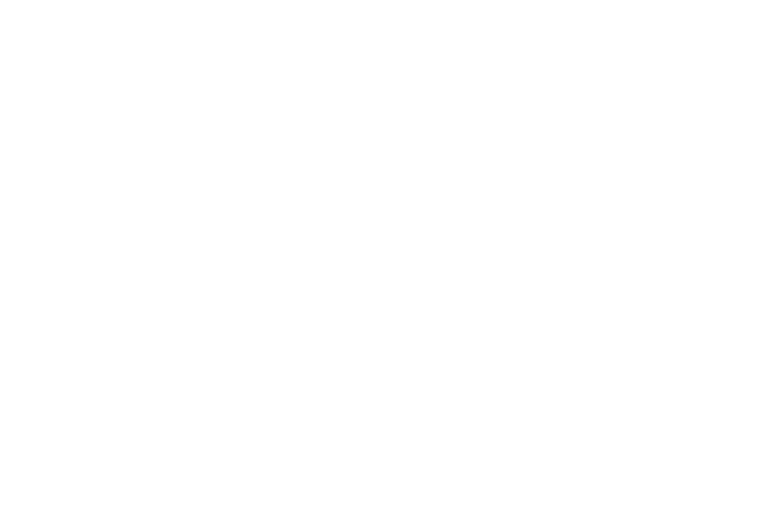
МН: Помните ли вы свою первую публикацию?
ПБ: Лет в девять в газете «Ленинские искры». У меня было ощущение, что это и мои, и не мои стихи. В прошлом году у меня вышло избранное в «Азбуке», и это было упражнение — собрать стихи за всю свою жизнь. Так вот, я смотрела на те стихи про кота, прогулку с папой за мороженым через парк Победы, и это были уже мои стихи, за которые я отвечаю. Тогда, когда я увидела эти стихи, то это было хорошее и правильное для меня ощущение, что так они должны уходить, что так я с ними прощаюсь и они перестают быть моим делом. Я часто об этом думаю, но на самом деле это не данность, в истории это складывалось миллионами разных вариантов, а мне была дана такая удача.
Я с девяти лет знала, что они уходят. Я недавно разговаривала с человеком, который делает скрипки и виолончели, так вот, у него нет какой-то любимой скрипки, он всегда знает, что сделает следующую и продаст ее. В каком-то смысле мое ощущение схожее с его: это мастерская, у стихов есть своя жизнь, их будут ругать или хвалить. У меня не совсем обычная судьба, потому что я публикуюсь с девяти лет, поэтому я услышала в свой адрес много чего: что я заводная куколка, что все это не мое, чужое, заемное…
Ну, у нас все чужое, кстати. Какое-то странное ощущение, что у стихов своя судьба, что они уходят. Я как ученый все больше занимаюсь людьми, которые никогда не публиковали свои тексты, то есть никогда с ними не расстались. Например, Гинзбург писала свою книгу всю взрослую жизнь, 40 лет. Этот опыт мне кажется привлекательным, потому что для меня это фильм ужасов: книга живет с человеком всю жизнь. Я люблю, когда мои юные, прекрасные и упругие стихи уходят, покидают меня.
МН: Вы поступили в Ленинградский университет на филологическое отделение на классику?
ПБ: Да. Совершенно бессознательно. Я и училась там так же. Поступила, потому что там был Сева Зельченко, который впоследствии стал замечательным ученым-классиком. В тот момент я не находила связи учебы с тем, что меня интересовало. Я не училась до того, как попала в Беркли. На классике происходило чтение авторов на греческом и латыни с огромным вниманием к устройству языка. Всем было понятно, что толку от меня нет, и в какой-то момент мне сказали, что надо написать выпускную работу о Катулле. Когда была сформулирована задача, мне стало дико интересно, но в каком-то смысле было поздно. Мир поэта, связанный с ощущением того, что мира почти нет (я занималась стихами об исчезнувшем брате); тема поэта на грани исчезновения мне была остро интересна. Тема «Катулл и дом» меня до сих пор интересует. Помню, что я бесконечно смотрела в окно на памятник Медному всаднику. Было невыносимо красиво. Я поняла, что все может быть в этом городе: бесконечная скука, несчастья, но как же тут красиво!
МН: «Поэт и дом». Вы развивали эту тему?
ПБ: Для меня важно понять, какое пространство возникает в тексте, как данный мастер умеет построить домик. Я только что преподавала американским детям «Преступление и наказание» и рассказывала о последних минутах жизни Свидригайлова возле Петровского острова в тумане и в целом о романе, где нет дома, где город — это дом. Одна из задач, которые могут быть задачами поэзии, — определение пространства. Чем мощнее и наблюдательнее поэт, тем мощнее его пространство, его дом. Бродский жил там, где я живу сейчас, но когда я в детстве читала его стихи, там везде было написано «Саут-Хадли». И ты живешь в Купчино и думаешь: что же такое Саут-Хадли? По какой-то причине поэт очень часто оказывается бездомным. Виновата его внутренняя машинка, тогда возникают какие-то другие способы работы с пространством. Мне кажется, что работа поэта говорит не свое «я», а свое «где».
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу?
ПБ: Это было связано с занятиями блокадной литературой, потому что первое, что я написала — это текст «Прощатель» про человека, который занимается блокадой, и про Максимова. Наверное, это тоже не очень ново в истории литературы, но я поняла, что поэтических средств мне не хватает, что мне нужен другой словарь и, главное, другое временное измерение — мне нужно много времени. Стих из меня вылетает как кусок огня, а проза выходит мучительно долго. При том, что я уже написала «Справочник ленинградских писателей» в свое время.
Я много написала стихов о блокадном Ленинграде, но стала чувствовать ограничение, мне нужно было развернуть ниточку, рассказать о судьбе Максимова. Вот сейчас я занимаюсь послеблокадными записями Шварца. Мне кажется, что новая возможность всегда появляется из невозможности, из кризиса, из неудачи. Из осознанной неудачи. Мало что интересует меня так, как творческая неудача. Для меня две главные книги моего русского ХХ века — это записки Шварца и записки Гинзбург. Новая русская проза появилась из того, что они оба не смогли написать что-то в жанрах, которыми вроде бы блестяще владели. Это совершенно убежденные в себе люди, которые бесстыдно, но и горько говорят о своих неудачах. Я начала писать прозу именно потому, что у меня не получается говорить о том, что мне надо сказать на поэтическом языке.
МН: Как изменилось ваше само- и мироощущение, когда вы переехали в Беркли?
ПБ: Мне очень повезло, потому что мои личные обстоятельства сложились так, что переезд был для меня чудесным приключением. Мне стало так плохо в Питере, что работа официанткой в Беркли казалась мне даром богов. Я уезжала из трудной ситуации, мне кажется, я не отдавала себе отчет, что это навсегда. Английский мой всегда был неадекватен, и русский язык был и будет коконом, через который я все воспринимаю. Я всегда знала, что я путешественник в чужом мире, и путешествие продолжается. Отношения с английским никогда даже близко не вставали рядом с отношениями с русским. Я знаю людей, которые замечательно встроились в новую языковую реальность, а я существую по-русски и читаю по-русски. Мне недавно сказали, что я недооцениваю свой английский, но по ощущениям я понимаю, что он нелепый, трудный, как ходить не со своей рукой или ногой. Это не мой язык. Все функционирует, но чудес не происходит.
ПБ: Лет в девять в газете «Ленинские искры». У меня было ощущение, что это и мои, и не мои стихи. В прошлом году у меня вышло избранное в «Азбуке», и это было упражнение — собрать стихи за всю свою жизнь. Так вот, я смотрела на те стихи про кота, прогулку с папой за мороженым через парк Победы, и это были уже мои стихи, за которые я отвечаю. Тогда, когда я увидела эти стихи, то это было хорошее и правильное для меня ощущение, что так они должны уходить, что так я с ними прощаюсь и они перестают быть моим делом. Я часто об этом думаю, но на самом деле это не данность, в истории это складывалось миллионами разных вариантов, а мне была дана такая удача.
Я с девяти лет знала, что они уходят. Я недавно разговаривала с человеком, который делает скрипки и виолончели, так вот, у него нет какой-то любимой скрипки, он всегда знает, что сделает следующую и продаст ее. В каком-то смысле мое ощущение схожее с его: это мастерская, у стихов есть своя жизнь, их будут ругать или хвалить. У меня не совсем обычная судьба, потому что я публикуюсь с девяти лет, поэтому я услышала в свой адрес много чего: что я заводная куколка, что все это не мое, чужое, заемное…
Ну, у нас все чужое, кстати. Какое-то странное ощущение, что у стихов своя судьба, что они уходят. Я как ученый все больше занимаюсь людьми, которые никогда не публиковали свои тексты, то есть никогда с ними не расстались. Например, Гинзбург писала свою книгу всю взрослую жизнь, 40 лет. Этот опыт мне кажется привлекательным, потому что для меня это фильм ужасов: книга живет с человеком всю жизнь. Я люблю, когда мои юные, прекрасные и упругие стихи уходят, покидают меня.
МН: Вы поступили в Ленинградский университет на филологическое отделение на классику?
ПБ: Да. Совершенно бессознательно. Я и училась там так же. Поступила, потому что там был Сева Зельченко, который впоследствии стал замечательным ученым-классиком. В тот момент я не находила связи учебы с тем, что меня интересовало. Я не училась до того, как попала в Беркли. На классике происходило чтение авторов на греческом и латыни с огромным вниманием к устройству языка. Всем было понятно, что толку от меня нет, и в какой-то момент мне сказали, что надо написать выпускную работу о Катулле. Когда была сформулирована задача, мне стало дико интересно, но в каком-то смысле было поздно. Мир поэта, связанный с ощущением того, что мира почти нет (я занималась стихами об исчезнувшем брате); тема поэта на грани исчезновения мне была остро интересна. Тема «Катулл и дом» меня до сих пор интересует. Помню, что я бесконечно смотрела в окно на памятник Медному всаднику. Было невыносимо красиво. Я поняла, что все может быть в этом городе: бесконечная скука, несчастья, но как же тут красиво!
МН: «Поэт и дом». Вы развивали эту тему?
ПБ: Для меня важно понять, какое пространство возникает в тексте, как данный мастер умеет построить домик. Я только что преподавала американским детям «Преступление и наказание» и рассказывала о последних минутах жизни Свидригайлова возле Петровского острова в тумане и в целом о романе, где нет дома, где город — это дом. Одна из задач, которые могут быть задачами поэзии, — определение пространства. Чем мощнее и наблюдательнее поэт, тем мощнее его пространство, его дом. Бродский жил там, где я живу сейчас, но когда я в детстве читала его стихи, там везде было написано «Саут-Хадли». И ты живешь в Купчино и думаешь: что же такое Саут-Хадли? По какой-то причине поэт очень часто оказывается бездомным. Виновата его внутренняя машинка, тогда возникают какие-то другие способы работы с пространством. Мне кажется, что работа поэта говорит не свое «я», а свое «где».
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу?
ПБ: Это было связано с занятиями блокадной литературой, потому что первое, что я написала — это текст «Прощатель» про человека, который занимается блокадой, и про Максимова. Наверное, это тоже не очень ново в истории литературы, но я поняла, что поэтических средств мне не хватает, что мне нужен другой словарь и, главное, другое временное измерение — мне нужно много времени. Стих из меня вылетает как кусок огня, а проза выходит мучительно долго. При том, что я уже написала «Справочник ленинградских писателей» в свое время.
Я много написала стихов о блокадном Ленинграде, но стала чувствовать ограничение, мне нужно было развернуть ниточку, рассказать о судьбе Максимова. Вот сейчас я занимаюсь послеблокадными записями Шварца. Мне кажется, что новая возможность всегда появляется из невозможности, из кризиса, из неудачи. Из осознанной неудачи. Мало что интересует меня так, как творческая неудача. Для меня две главные книги моего русского ХХ века — это записки Шварца и записки Гинзбург. Новая русская проза появилась из того, что они оба не смогли написать что-то в жанрах, которыми вроде бы блестяще владели. Это совершенно убежденные в себе люди, которые бесстыдно, но и горько говорят о своих неудачах. Я начала писать прозу именно потому, что у меня не получается говорить о том, что мне надо сказать на поэтическом языке.
МН: Как изменилось ваше само- и мироощущение, когда вы переехали в Беркли?
ПБ: Мне очень повезло, потому что мои личные обстоятельства сложились так, что переезд был для меня чудесным приключением. Мне стало так плохо в Питере, что работа официанткой в Беркли казалась мне даром богов. Я уезжала из трудной ситуации, мне кажется, я не отдавала себе отчет, что это навсегда. Английский мой всегда был неадекватен, и русский язык был и будет коконом, через который я все воспринимаю. Я всегда знала, что я путешественник в чужом мире, и путешествие продолжается. Отношения с английским никогда даже близко не вставали рядом с отношениями с русским. Я знаю людей, которые замечательно встроились в новую языковую реальность, а я существую по-русски и читаю по-русски. Мне недавно сказали, что я недооцениваю свой английский, но по ощущениям я понимаю, что он нелепый, трудный, как ходить не со своей рукой или ногой. Это не мой язык. Все функционирует, но чудес не происходит.
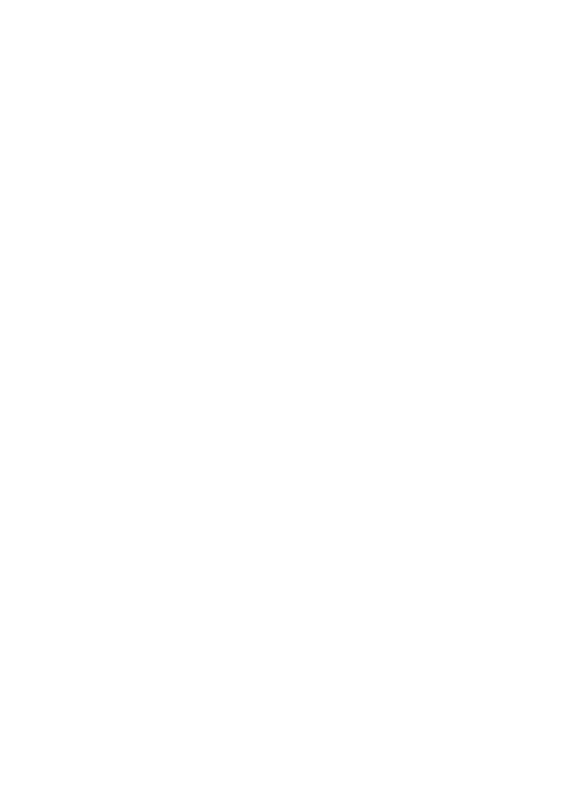
МН: Вы приехали в Беркли и занялись русской литературой как исследователь?
ПБ: Я поступила туда в аспирантуру. Это было удивительное место, где преподавали фантастические персонажи: Паперно, Матич, Найман, Живов, Несбет, Рам и другие. Там все время было интересно. Мне в юности казалось, что русскую литературу я уж знаю, но выяснилось, что это не так. Это был опыт радикального остранения.
В какой-то момент нужно было писать диссертацию, и для меня было естественно, что я буду заниматься городом в 1920–1930-х. Все это было связано с Константином Вагиновым, это были миры Вагинова. В этом моменте питерское самоощущение было самым острым, потому что очень ощущалась перемена, что все меняется, но город может стать средой работы с переменой и какой-то защитой себя. Одна из тем, которая мне интересна — это ощущение своей личности посредством города. Потом она стала главной темой в моей блокадной книге. Когда я стала читать блокадные тексты, то там одна из самых очевидных тем — это то, что все исчезает, но город остается, и ты методом города воспроизводишь себя. В какой-то момент занятий 1920–1930-ми годами я стала соскальзывать в блокаду, потому что смотрела на биографии людей и понимала, что много людей тогда погибло или изменилось роковым образом. Мне было интересно сходить посмотреть. Так я уже 15 лет и смотрю.
МН: Почему именно Вагинов?
ПБ. Был знаменитый зеленый том с четырьмя романами. Для меня эта тетралогия — удивительный опыт сохранения городской цивилизации в момент ее исчезновения. Опыт консервации. Город в момент исчезновения — это отталкивающее зрелище, болезнь, исчезание. Для меня прелесть Константина Вагинова в том, что он невероятно честен с собой, он не приукрашивает то, что видел, он говорит об исчезающей питерской культуре, которая отвратительна в данном состоянии, она гротескна. Такой он ее и запечатлел. Вагинов для меня был версией Беньямина с его парижскими «Пассажами». Это тоже безумная попытка запечатлеть исчезающее.
МН: Вам сложно себя перечитывать?
ПБ: Да, поэтому составить книгу избранного попросила маму. Она ленинградская красавица и умница, состоявшаяся в эпоху 1970-х, которая была очень внимательна к культурным проявлениям жизни, она невероятно реактивный читатель, входящий в резкий контакт с текстом. У нас с нею интересные отношения: я все время ее наблюдаю в остром чтении. Поэтому я подумала, что было бы полезно попросить ее выбрать стихи.
Мама совершенно безжалостна, она прореживала и прореживала подборку. Это было любопытное упражнение, потому что ты понимаешь, что ничего не понимаешь: в тринадцать лет я писала невероятно, так не писали до, подросток Барскова — это странная вещь, ощущение, что я на наркотиках жила, а потом наступает блеклая нормализация, затем рывок, связанный с отъездом, и опять привычка, следом занятие блокадой и новый шаг к письму. Столкновение с блокадным письмом дало мне понимание, что больше нельзя писать красиво, потому что я как выкормыш, скажем, Гумилева научилась делать стихи невероятной красоты. Но есть мир, который красиво описать нельзя, здесь должен быть другой способ работы.
МН: Можете подробнее рассказать про этот блокадный мир?
ПБ: Я работаю с текстами методом чтения и перечитывания. Так получилось, что я не могу перестать на что-то смотреть, это любовь, я не знаю другого слова. Мне с ними хорошо. Я заканчиваю книгу о блокадных поэтах по-русски, я долго жила с этими текстами, поэтому начинаю их вбирать в себя, они начинают быть мной. Я думаю о синтаксисе, интонации этих текстов. Вначале они были огромными массивами, когда я публиковала большой дневник Островской, то боролась с объемами. Мне тогда повезло, что «НЛО» позволило работать с публикацией Островской и что Абрам Ильич Рейтблат этим руководил, помогая нам с Поздняковой, потому что там были постоянные перечитывания и размышления над каждым словом, возникла чудовищная степень близости с текстом.
Со стихами по-другому: там слов меньше, и задача — понять, как они пристроены друг к другу. У нас есть возможность знать что-то про этих людей, например, есть счастливые случаи знакомства с жизнью Павла Зальцмана, совершенно фантастического персонажа, у которого живы и дети, и внуки. Такие герои начинают оживать в гротескности, сложности, эти авторы становятся близкими. Это попытка представить себе эти миры, при этом ты понимаешь, что никогда не представишь их: ты сидишь в квартире, за окном солнечный ноябрь, а занимаешься ты льдом, тьмой, болью. Как бы близко ты к этому оконцу ни подходил, ты всегда будешь чужой.
ПБ: Я поступила туда в аспирантуру. Это было удивительное место, где преподавали фантастические персонажи: Паперно, Матич, Найман, Живов, Несбет, Рам и другие. Там все время было интересно. Мне в юности казалось, что русскую литературу я уж знаю, но выяснилось, что это не так. Это был опыт радикального остранения.
В какой-то момент нужно было писать диссертацию, и для меня было естественно, что я буду заниматься городом в 1920–1930-х. Все это было связано с Константином Вагиновым, это были миры Вагинова. В этом моменте питерское самоощущение было самым острым, потому что очень ощущалась перемена, что все меняется, но город может стать средой работы с переменой и какой-то защитой себя. Одна из тем, которая мне интересна — это ощущение своей личности посредством города. Потом она стала главной темой в моей блокадной книге. Когда я стала читать блокадные тексты, то там одна из самых очевидных тем — это то, что все исчезает, но город остается, и ты методом города воспроизводишь себя. В какой-то момент занятий 1920–1930-ми годами я стала соскальзывать в блокаду, потому что смотрела на биографии людей и понимала, что много людей тогда погибло или изменилось роковым образом. Мне было интересно сходить посмотреть. Так я уже 15 лет и смотрю.
МН: Почему именно Вагинов?
ПБ. Был знаменитый зеленый том с четырьмя романами. Для меня эта тетралогия — удивительный опыт сохранения городской цивилизации в момент ее исчезновения. Опыт консервации. Город в момент исчезновения — это отталкивающее зрелище, болезнь, исчезание. Для меня прелесть Константина Вагинова в том, что он невероятно честен с собой, он не приукрашивает то, что видел, он говорит об исчезающей питерской культуре, которая отвратительна в данном состоянии, она гротескна. Такой он ее и запечатлел. Вагинов для меня был версией Беньямина с его парижскими «Пассажами». Это тоже безумная попытка запечатлеть исчезающее.
МН: Вам сложно себя перечитывать?
ПБ: Да, поэтому составить книгу избранного попросила маму. Она ленинградская красавица и умница, состоявшаяся в эпоху 1970-х, которая была очень внимательна к культурным проявлениям жизни, она невероятно реактивный читатель, входящий в резкий контакт с текстом. У нас с нею интересные отношения: я все время ее наблюдаю в остром чтении. Поэтому я подумала, что было бы полезно попросить ее выбрать стихи.
Мама совершенно безжалостна, она прореживала и прореживала подборку. Это было любопытное упражнение, потому что ты понимаешь, что ничего не понимаешь: в тринадцать лет я писала невероятно, так не писали до, подросток Барскова — это странная вещь, ощущение, что я на наркотиках жила, а потом наступает блеклая нормализация, затем рывок, связанный с отъездом, и опять привычка, следом занятие блокадой и новый шаг к письму. Столкновение с блокадным письмом дало мне понимание, что больше нельзя писать красиво, потому что я как выкормыш, скажем, Гумилева научилась делать стихи невероятной красоты. Но есть мир, который красиво описать нельзя, здесь должен быть другой способ работы.
МН: Можете подробнее рассказать про этот блокадный мир?
ПБ: Я работаю с текстами методом чтения и перечитывания. Так получилось, что я не могу перестать на что-то смотреть, это любовь, я не знаю другого слова. Мне с ними хорошо. Я заканчиваю книгу о блокадных поэтах по-русски, я долго жила с этими текстами, поэтому начинаю их вбирать в себя, они начинают быть мной. Я думаю о синтаксисе, интонации этих текстов. Вначале они были огромными массивами, когда я публиковала большой дневник Островской, то боролась с объемами. Мне тогда повезло, что «НЛО» позволило работать с публикацией Островской и что Абрам Ильич Рейтблат этим руководил, помогая нам с Поздняковой, потому что там были постоянные перечитывания и размышления над каждым словом, возникла чудовищная степень близости с текстом.
Со стихами по-другому: там слов меньше, и задача — понять, как они пристроены друг к другу. У нас есть возможность знать что-то про этих людей, например, есть счастливые случаи знакомства с жизнью Павла Зальцмана, совершенно фантастического персонажа, у которого живы и дети, и внуки. Такие герои начинают оживать в гротескности, сложности, эти авторы становятся близкими. Это попытка представить себе эти миры, при этом ты понимаешь, что никогда не представишь их: ты сидишь в квартире, за окном солнечный ноябрь, а занимаешься ты льдом, тьмой, болью. Как бы близко ты к этому оконцу ни подходил, ты всегда будешь чужой.
вас может заинтересовать
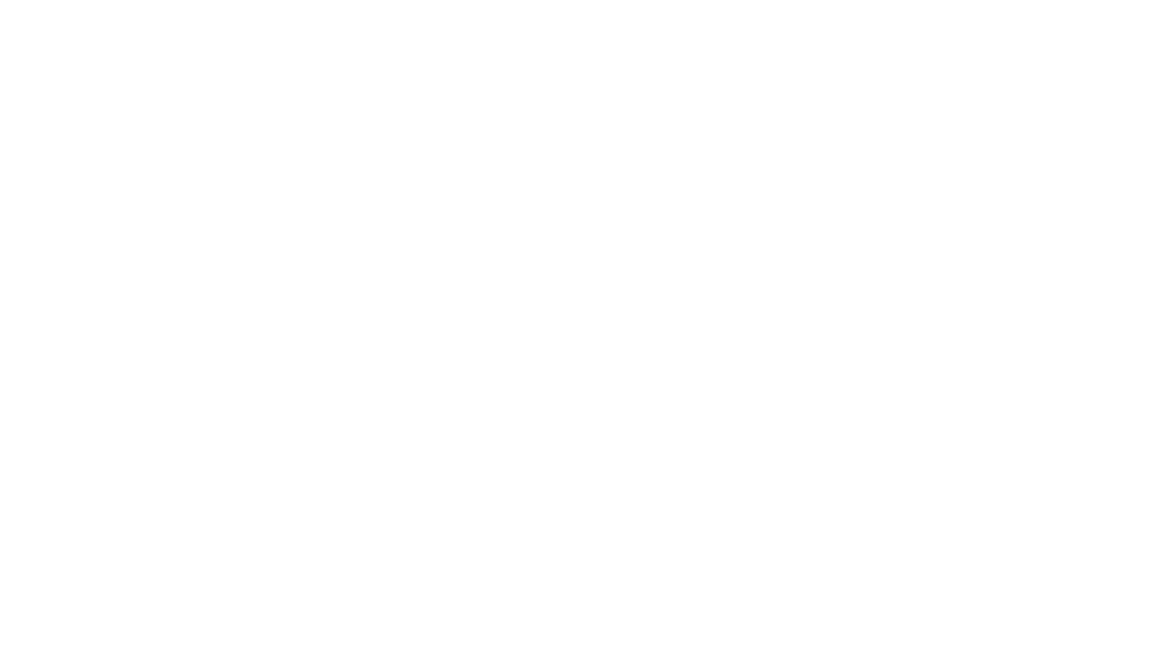
Определение пространства
Интервью Марии Нестеренко с поэтессой и писательницей Полиной Барсковой, в котором она рассказывает о своем поэтическом становлении и переходе к прозе, работе над новой книгой о блокадных поэтах и о том, из каких текстов вышла новая русская литература
МН: Расскажите о вашем детстве.
ПБ: Я родилась в 1976 году, поэтому отношу себя к одному из последних советских поколений. Школа с усиленным английским, куда я ходила, вызывала у меня запредельную тоску и ощущение бессмысленности происходящего, хотя там были какие-то замечательные вещи, например школьный музей [памяти] генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Это очень интересный персонаж, перешедший от белых к красным спец, которого уже стариком в концлагере Маутхаузен немцы за несговорчивость облили водой на морозе, превратив в ледяной столб. Я постоянно проходила мимо памятника-сосульки и макета концлагеря, это было очень страшно, а все остальное в школе было достаточно никак, блекло. В принципе, сочетание ужаса и скуки. Кроме одной очень важной дружбы и детского общения, я вообще не понимала, к чему это все может иметь отношение. Как заметил Князь Мышкин, для меня это было «не о том». Я чувствовала, что должна быть другая жизнь, что ее нужно лепить и искать.
Главное детское занятие — это чтение как ответ на все тревоги мира. Когда мне было лет восемь, со мной что-то стало происходить, я начала писать стихи, и меня отвели в студию Вячеслава Лейкина. Это было огромным явлением, принципиально отличавшимся от школы. В школе было все серое, а у Лейкина была комнатка в здании «Лениздата» на Фонтанке, там все было яркое, люди были живые, смешные. Это был конец советской эпохи, главное впечатление — именно блеклость совершенно иного уровня. На фоне всего этого я начала очень много писать. Самое важное, что дал ощутить Лейкин, — занятия литературой в некотором смысле игра в слова. Когда я думаю о том, как был устроен «Цех поэтов», мне кажется, что они тоже очень много играли. Есть странная грань между очень важными для тебя вещами и игрой. Когда мне было лет одиннадцать, например, Вячеслав Абрамович сказал, что на следующем занятии я должна почитать Анненского. Вот тебе том, выбери и читай нам. Там даже обсуждения не было: я просто «подземным», как у Вия, спецголосом, который у меня с детства, бурчала им Анненского. Это было какое-то важное другое и живое ощущение.
МН: С какими авторами Лейкин познакомил вас в плане чтения?
ПБ: В моей жизни таким образом появился Гумилев, мне было лет десять. Я считаю, что он должен входить именно в это время, Гумилев — детский поэт, конечно. Я испытывала огромное увлечение этими африканскими путешествиями, экзотическими потрясениями. Все это было очень вовремя. Я люблю об этом говорить с людьми. На вопрос: «Да что вы могли понимать в таком возрасте?» я отвечаю: «Мы очень многое понимали». Мы очень много воспринимали. В частности, звук. Это все спорно, но это интересный спор. Что это значит? То, что в нас в столь нежном возрасте был всажен модернистский, в частности, акмеистический звук, было очень хорошо. Это на меня оказало огромное влияние. Мы сегодня живем в поэзии, которая совсем по-другому работает со звуком, апофатически. Но тот опыт разнообразного модернистского мастерства вошел в мою жизнь.
Еще я очень хорошо помню, как в «Иностранной литературе» наткнулась на публикацию Целана. Впервые я прочитала «Золото волос твоих…». Я не знаю, в каком возрасте лучше говорить о лагерях. Когда ты это поймешь? Может быть, никогда. Я пятнадцать лет занимаюсь блокадой, и я не совсем знаю, что значит понять это. Но то, что ты сталкиваешься с какими-то мирами, когда ты максимально открыт, мне кажется, очень хорошо.
Конечно, тогда же сформировалось очень серьезное отношение к Бродскому. Он был «наше все». Юность я провела в чаду Бродского. Помню, что это была долгая, счастливая, мучительная болезнь, когда ты засыпаешь и просыпаешься в лихорадке, проживаешь это ощущение год за годом. Я жила в этом языке. Интересно, что этот сюжет недавно вернулся. Мой друг по студии в какой-то момент принес Аронзона — так я лет в двенадцать о нем узнала, то есть узнала о втором направлении ленинградского модернизма, связанном с заумью. С одной стороны, это показалось любопытным, но это был не Бродский, поэтому меня не очень впечатлило. Понадобилось очень много времени, чтобы понять, насколько это замечательно. Мы читали стихи в переводе, были какие-то свои предпочтения, но, в общем, с миром Бродского был впущен формализм и Серебряный век.
Мне кажется, что сейчас, в совсем другом состоянии ощущение мира, где чтение и письмо интимно связаны и все это игра, очень хорошо ощущается до сих пор. Это все постоянное упражнение, постоянная практика, где одно переливается в другое. Для меня это было совершенно упоительным, я ничего не хотела, кроме этого. Лейкин был невероятно остроумен, наблюдателен, мы все время смеялись. Было постоянное ощущение юношеского хохота, литературы, у которой ты все время учишься, и потока слов, который из тебя выходит.
МН: Вы назвали петроградских поэтов и ленинградцев, то есть вы жили в петроградско-ленинградском тексте?
ПБ: Скорее, да. Я в этом живу. Меня не взяли в семь лет в Вагановское, которое было рядом, потому что я была неуклюжая, а в соседнее здание, где была студия Лейкина, взяли. Мне это почему-то очень запомнилось: в балет нельзя, а стихи можно. Я об этом вспоминала каждый раз, когда шла мимо, в здание Лениздата. Это к тому, что было это городское ощущение невыносимой серой, блеклой красоты, когда ты идешь свой стишок Лейкину читать — и Севе, и Але, и Соне... Мы начинали занятие с того, что читали написанное за неделю. Никогда не говорилось, что хорошо, а что плохо, скорее, была реакция в виде пауз и улыбок. Это был такт. И вот ты идешь, несешь свой стишок по улице Росси — это была другая жизнь. Наверное, к вашему вопросу про городской текст могу ответить, что во мне остались отношения с ленинградскими и петроградскими текстами. Я сформирована всем этим, я так и осталась в этом: для меня московская поэзия, даже если это Цветаева и Пастернак, немного великовата и аляповата и громковата, такое.
МН: Люди, которые начинают рано писать, не боятся того, что это может кончиться, что этот дар пропадет?
ПБ: Это был чудовищный страх, конечно, особенно в юности. Очень это подействовало на меня, думаю. Не знаю, почему дар писать стихи не пропал у меня, и пропал у других. Или у других видоизменился, принял иную форму. Мы ничего об этом не знаем. Это мучительная вещь для пишущего: почему и как внутренняя пишущая машинка работает, когда ей хорошо, когда плохо, когда её включать, а когда выключать? У меня были моменты, когда я писала гораздо меньше или когда делала это совсем скверно. Тут ничего нового я сказать не могу. Я довольно рано поняла, что писание – это прежде всего практика, упорное вырабатывание мастерства. В последние годы, наверное, что-то еще изменилось, когда я стала писать прозу. Это то чувство, когда ты понимаешь, что можешь писать всегда, при этом ты понимаешь, что ты не можешь это делать по физиологическим и бытовым причинам, но ты в разговоре с этим находишься всегда. Это все время на грани с чтением, а в моей судьбе это связалось с преподаванием. Это одно почти бесшовное мероприятие: ты переливаешься из пишущего в читающего, из читающего — в говорящего. Для меня это оказалось ответом, моим способом.Наверное, избежание вот этого всего «мне голос был» — это ощущение мастерства. Работать нужно всегда, стремиться к этому постоянно, как художник выходит на пленэр и пишет свои этюдики, лужи, облака.
МН: Когда вы себя ощутили поэтом?
ПБ: Это вопрос внутренней наглости, наверное, но я с самого начала знала, что я — поэт. У меня было ощущение, что это то занятие, в котором от меня есть польза, в котором заключено мое отличие. Когда я сейчас смотрю на свои детские стихи, то я понимаю, что там есть почти все, что потом реализовалось, развилось. Эта машина в каком-то смысле стала работать очень рано. Еще у меня было ощущение, что с этим не связана категория хорошего и плохого, то есть я не знаю, хороший ли я поэт, или плохой. Я только знаю, что я воспринимаю мир в попытке его видеть другим, в попытке ощущать его звук, его интонации: я работаю словами. Это ощущение у меня было всегда.
ПБ: Я родилась в 1976 году, поэтому отношу себя к одному из последних советских поколений. Школа с усиленным английским, куда я ходила, вызывала у меня запредельную тоску и ощущение бессмысленности происходящего, хотя там были какие-то замечательные вещи, например школьный музей [памяти] генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Это очень интересный персонаж, перешедший от белых к красным спец, которого уже стариком в концлагере Маутхаузен немцы за несговорчивость облили водой на морозе, превратив в ледяной столб. Я постоянно проходила мимо памятника-сосульки и макета концлагеря, это было очень страшно, а все остальное в школе было достаточно никак, блекло. В принципе, сочетание ужаса и скуки. Кроме одной очень важной дружбы и детского общения, я вообще не понимала, к чему это все может иметь отношение. Как заметил Князь Мышкин, для меня это было «не о том». Я чувствовала, что должна быть другая жизнь, что ее нужно лепить и искать.
Главное детское занятие — это чтение как ответ на все тревоги мира. Когда мне было лет восемь, со мной что-то стало происходить, я начала писать стихи, и меня отвели в студию Вячеслава Лейкина. Это было огромным явлением, принципиально отличавшимся от школы. В школе было все серое, а у Лейкина была комнатка в здании «Лениздата» на Фонтанке, там все было яркое, люди были живые, смешные. Это был конец советской эпохи, главное впечатление — именно блеклость совершенно иного уровня. На фоне всего этого я начала очень много писать. Самое важное, что дал ощутить Лейкин, — занятия литературой в некотором смысле игра в слова. Когда я думаю о том, как был устроен «Цех поэтов», мне кажется, что они тоже очень много играли. Есть странная грань между очень важными для тебя вещами и игрой. Когда мне было лет одиннадцать, например, Вячеслав Абрамович сказал, что на следующем занятии я должна почитать Анненского. Вот тебе том, выбери и читай нам. Там даже обсуждения не было: я просто «подземным», как у Вия, спецголосом, который у меня с детства, бурчала им Анненского. Это было какое-то важное другое и живое ощущение.
МН: С какими авторами Лейкин познакомил вас в плане чтения?
ПБ: В моей жизни таким образом появился Гумилев, мне было лет десять. Я считаю, что он должен входить именно в это время, Гумилев — детский поэт, конечно. Я испытывала огромное увлечение этими африканскими путешествиями, экзотическими потрясениями. Все это было очень вовремя. Я люблю об этом говорить с людьми. На вопрос: «Да что вы могли понимать в таком возрасте?» я отвечаю: «Мы очень многое понимали». Мы очень много воспринимали. В частности, звук. Это все спорно, но это интересный спор. Что это значит? То, что в нас в столь нежном возрасте был всажен модернистский, в частности, акмеистический звук, было очень хорошо. Это на меня оказало огромное влияние. Мы сегодня живем в поэзии, которая совсем по-другому работает со звуком, апофатически. Но тот опыт разнообразного модернистского мастерства вошел в мою жизнь.
Еще я очень хорошо помню, как в «Иностранной литературе» наткнулась на публикацию Целана. Впервые я прочитала «Золото волос твоих…». Я не знаю, в каком возрасте лучше говорить о лагерях. Когда ты это поймешь? Может быть, никогда. Я пятнадцать лет занимаюсь блокадой, и я не совсем знаю, что значит понять это. Но то, что ты сталкиваешься с какими-то мирами, когда ты максимально открыт, мне кажется, очень хорошо.
Конечно, тогда же сформировалось очень серьезное отношение к Бродскому. Он был «наше все». Юность я провела в чаду Бродского. Помню, что это была долгая, счастливая, мучительная болезнь, когда ты засыпаешь и просыпаешься в лихорадке, проживаешь это ощущение год за годом. Я жила в этом языке. Интересно, что этот сюжет недавно вернулся. Мой друг по студии в какой-то момент принес Аронзона — так я лет в двенадцать о нем узнала, то есть узнала о втором направлении ленинградского модернизма, связанном с заумью. С одной стороны, это показалось любопытным, но это был не Бродский, поэтому меня не очень впечатлило. Понадобилось очень много времени, чтобы понять, насколько это замечательно. Мы читали стихи в переводе, были какие-то свои предпочтения, но, в общем, с миром Бродского был впущен формализм и Серебряный век.
Мне кажется, что сейчас, в совсем другом состоянии ощущение мира, где чтение и письмо интимно связаны и все это игра, очень хорошо ощущается до сих пор. Это все постоянное упражнение, постоянная практика, где одно переливается в другое. Для меня это было совершенно упоительным, я ничего не хотела, кроме этого. Лейкин был невероятно остроумен, наблюдателен, мы все время смеялись. Было постоянное ощущение юношеского хохота, литературы, у которой ты все время учишься, и потока слов, который из тебя выходит.
МН: Вы назвали петроградских поэтов и ленинградцев, то есть вы жили в петроградско-ленинградском тексте?
ПБ: Скорее, да. Я в этом живу. Меня не взяли в семь лет в Вагановское, которое было рядом, потому что я была неуклюжая, а в соседнее здание, где была студия Лейкина, взяли. Мне это почему-то очень запомнилось: в балет нельзя, а стихи можно. Я об этом вспоминала каждый раз, когда шла мимо, в здание Лениздата. Это к тому, что было это городское ощущение невыносимой серой, блеклой красоты, когда ты идешь свой стишок Лейкину читать — и Севе, и Але, и Соне... Мы начинали занятие с того, что читали написанное за неделю. Никогда не говорилось, что хорошо, а что плохо, скорее, была реакция в виде пауз и улыбок. Это был такт. И вот ты идешь, несешь свой стишок по улице Росси — это была другая жизнь. Наверное, к вашему вопросу про городской текст могу ответить, что во мне остались отношения с ленинградскими и петроградскими текстами. Я сформирована всем этим, я так и осталась в этом: для меня московская поэзия, даже если это Цветаева и Пастернак, немного великовата и аляповата и громковата, такое.
МН: Люди, которые начинают рано писать, не боятся того, что это может кончиться, что этот дар пропадет?
ПБ: Это был чудовищный страх, конечно, особенно в юности. Очень это подействовало на меня, думаю. Не знаю, почему дар писать стихи не пропал у меня, и пропал у других. Или у других видоизменился, принял иную форму. Мы ничего об этом не знаем. Это мучительная вещь для пишущего: почему и как внутренняя пишущая машинка работает, когда ей хорошо, когда плохо, когда её включать, а когда выключать? У меня были моменты, когда я писала гораздо меньше или когда делала это совсем скверно. Тут ничего нового я сказать не могу. Я довольно рано поняла, что писание – это прежде всего практика, упорное вырабатывание мастерства. В последние годы, наверное, что-то еще изменилось, когда я стала писать прозу. Это то чувство, когда ты понимаешь, что можешь писать всегда, при этом ты понимаешь, что ты не можешь это делать по физиологическим и бытовым причинам, но ты в разговоре с этим находишься всегда. Это все время на грани с чтением, а в моей судьбе это связалось с преподаванием. Это одно почти бесшовное мероприятие: ты переливаешься из пишущего в читающего, из читающего — в говорящего. Для меня это оказалось ответом, моим способом.Наверное, избежание вот этого всего «мне голос был» — это ощущение мастерства. Работать нужно всегда, стремиться к этому постоянно, как художник выходит на пленэр и пишет свои этюдики, лужи, облака.
МН: Когда вы себя ощутили поэтом?
ПБ: Это вопрос внутренней наглости, наверное, но я с самого начала знала, что я — поэт. У меня было ощущение, что это то занятие, в котором от меня есть польза, в котором заключено мое отличие. Когда я сейчас смотрю на свои детские стихи, то я понимаю, что там есть почти все, что потом реализовалось, развилось. Эта машина в каком-то смысле стала работать очень рано. Еще у меня было ощущение, что с этим не связана категория хорошего и плохого, то есть я не знаю, хороший ли я поэт, или плохой. Я только знаю, что я воспринимаю мир в попытке его видеть другим, в попытке ощущать его звук, его интонации: я работаю словами. Это ощущение у меня было всегда.
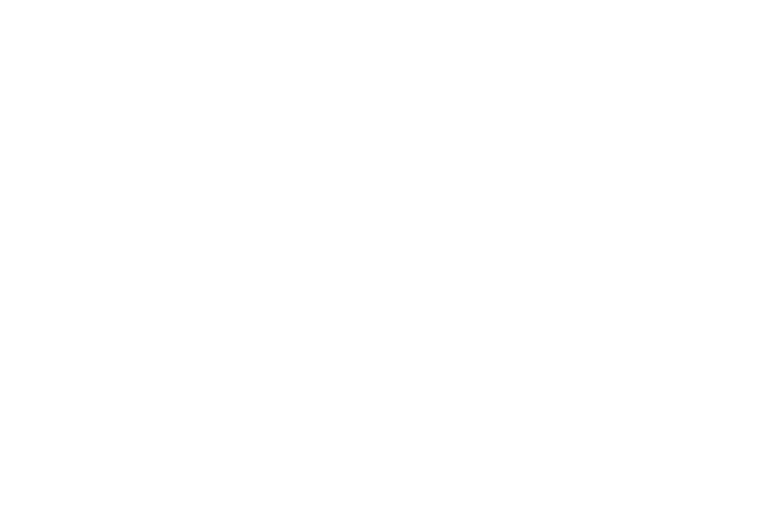
МН: Помните ли вы свою первую публикацию?
ПБ: Лет в девять в газете «Ленинские искры». У меня было ощущение, что это и мои, и не мои стихи. В прошлом году у меня вышло избранное в «Азбуке», и это было упражнение — собрать стихи за всю свою жизнь. Так вот, я смотрела на те стихи про кота, прогулку с папой за мороженым через парк Победы, и это были уже мои стихи, за которые я отвечаю. Тогда, когда я увидела эти стихи, то это было хорошее и правильное для меня ощущение, что так они должны уходить, что так я с ними прощаюсь и они перестают быть моим делом. Я часто об этом думаю, но на самом деле это не данность, в истории это складывалось миллионами разных вариантов, а мне была дана такая удача.
Я с девяти лет знала, что они уходят. Я недавно разговаривала с человеком, который делает скрипки и виолончели, так вот, у него нет какой-то любимой скрипки, он всегда знает, что сделает следующую и продаст ее. В каком-то смысле мое ощущение схожее с его: это мастерская, у стихов есть своя жизнь, их будут ругать или хвалить. У меня не совсем обычная судьба, потому что я публикуюсь с девяти лет, поэтому я услышала в свой адрес много чего: что я заводная куколка, что все это не мое, чужое, заемное…
Ну, у нас все чужое, кстати. Какое-то странное ощущение, что у стихов своя судьба, что они уходят. Я как ученый все больше занимаюсь людьми, которые никогда не публиковали свои тексты, то есть никогда с ними не расстались. Например, Гинзбург писала свою книгу всю взрослую жизнь, 40 лет. Этот опыт мне кажется привлекательным, потому что для меня это фильм ужасов: книга живет с человеком всю жизнь. Я люблю, когда мои юные, прекрасные и упругие стихи уходят, покидают меня.
МН: Вы поступили в Ленинградский университет на филологическое отделение на классику?
ПБ: Да. Совершенно бессознательно. Я и училась там так же. Поступила, потому что там был Сева Зельченко, который впоследствии стал замечательным ученым-классиком. В тот момент я не находила связи учебы с тем, что меня интересовало. Я не училась до того, как попала в Беркли. На классике происходило чтение авторов на греческом и латыни с огромным вниманием к устройству языка. Всем было понятно, что толку от меня нет, и в какой-то момент мне сказали, что надо написать выпускную работу о Катулле. Когда была сформулирована задача, мне стало дико интересно, но в каком-то смысле было поздно. Мир поэта, связанный с ощущением того, что мира почти нет (я занималась стихами об исчезнувшем брате); тема поэта на грани исчезновения мне была остро интересна. Тема «Катулл и дом» меня до сих пор интересует. Помню, что я бесконечно смотрела в окно на памятник Медному всаднику. Было невыносимо красиво. Я поняла, что все может быть в этом городе: бесконечная скука, несчастья, но как же тут красиво!
МН: «Поэт и дом». Вы развивали эту тему?
ПБ: Для меня важно понять, какое пространство возникает в тексте, как данный мастер умеет построить домик. Я только что преподавала американским детям «Преступление и наказание» и рассказывала о последних минутах жизни Свидригайлова возле Петровского острова в тумане и в целом о романе, где нет дома, где город — это дом. Одна из задач, которые могут быть задачами поэзии, — определение пространства. Чем мощнее и наблюдательнее поэт, тем мощнее его пространство, его дом. Бродский жил там, где я живу сейчас, но когда я в детстве читала его стихи, там везде было написано «Саут-Хадли». И ты живешь в Купчино и думаешь: что же такое Саут-Хадли? По какой-то причине поэт очень часто оказывается бездомным. Виновата его внутренняя машинка, тогда возникают какие-то другие способы работы с пространством. Мне кажется, что работа поэта говорит не свое «я», а свое «где».
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу?
ПБ: Это было связано с занятиями блокадной литературой, потому что первое, что я написала — это текст «Прощатель» про человека, который занимается блокадой, и про Максимова. Наверное, это тоже не очень ново в истории литературы, но я поняла, что поэтических средств мне не хватает, что мне нужен другой словарь и, главное, другое временное измерение — мне нужно много времени. Стих из меня вылетает как кусок огня, а проза выходит мучительно долго. При том, что я уже написала «Справочник ленинградских писателей» в свое время.
Я много написала стихов о блокадном Ленинграде, но стала чувствовать ограничение, мне нужно было развернуть ниточку, рассказать о судьбе Максимова. Вот сейчас я занимаюсь послеблокадными записями Шварца. Мне кажется, что новая возможность всегда появляется из невозможности, из кризиса, из неудачи. Из осознанной неудачи. Мало что интересует меня так, как творческая неудача. Для меня две главные книги моего русского ХХ века — это записки Шварца и записки Гинзбург. Новая русская проза появилась из того, что они оба не смогли написать что-то в жанрах, которыми вроде бы блестяще владели. Это совершенно убежденные в себе люди, которые бесстыдно, но и горько говорят о своих неудачах. Я начала писать прозу именно потому, что у меня не получается говорить о том, что мне надо сказать на поэтическом языке.
МН: Как изменилось ваше само- и мироощущение, когда вы переехали в Беркли?
ПБ: Мне очень повезло, потому что мои личные обстоятельства сложились так, что переезд был для меня чудесным приключением. Мне стало так плохо в Питере, что работа официанткой в Беркли казалась мне даром богов. Я уезжала из трудной ситуации, мне кажется, я не отдавала себе отчет, что это навсегда. Английский мой всегда был неадекватен, и русский язык был и будет коконом, через который я все воспринимаю. Я всегда знала, что я путешественник в чужом мире, и путешествие продолжается. Отношения с английским никогда даже близко не вставали рядом с отношениями с русским. Я знаю людей, которые замечательно встроились в новую языковую реальность, а я существую по-русски и читаю по-русски. Мне недавно сказали, что я недооцениваю свой английский, но по ощущениям я понимаю, что он нелепый, трудный, как ходить не со своей рукой или ногой. Это не мой язык. Все функционирует, но чудес не происходит.
ПБ: Лет в девять в газете «Ленинские искры». У меня было ощущение, что это и мои, и не мои стихи. В прошлом году у меня вышло избранное в «Азбуке», и это было упражнение — собрать стихи за всю свою жизнь. Так вот, я смотрела на те стихи про кота, прогулку с папой за мороженым через парк Победы, и это были уже мои стихи, за которые я отвечаю. Тогда, когда я увидела эти стихи, то это было хорошее и правильное для меня ощущение, что так они должны уходить, что так я с ними прощаюсь и они перестают быть моим делом. Я часто об этом думаю, но на самом деле это не данность, в истории это складывалось миллионами разных вариантов, а мне была дана такая удача.
Я с девяти лет знала, что они уходят. Я недавно разговаривала с человеком, который делает скрипки и виолончели, так вот, у него нет какой-то любимой скрипки, он всегда знает, что сделает следующую и продаст ее. В каком-то смысле мое ощущение схожее с его: это мастерская, у стихов есть своя жизнь, их будут ругать или хвалить. У меня не совсем обычная судьба, потому что я публикуюсь с девяти лет, поэтому я услышала в свой адрес много чего: что я заводная куколка, что все это не мое, чужое, заемное…
Ну, у нас все чужое, кстати. Какое-то странное ощущение, что у стихов своя судьба, что они уходят. Я как ученый все больше занимаюсь людьми, которые никогда не публиковали свои тексты, то есть никогда с ними не расстались. Например, Гинзбург писала свою книгу всю взрослую жизнь, 40 лет. Этот опыт мне кажется привлекательным, потому что для меня это фильм ужасов: книга живет с человеком всю жизнь. Я люблю, когда мои юные, прекрасные и упругие стихи уходят, покидают меня.
МН: Вы поступили в Ленинградский университет на филологическое отделение на классику?
ПБ: Да. Совершенно бессознательно. Я и училась там так же. Поступила, потому что там был Сева Зельченко, который впоследствии стал замечательным ученым-классиком. В тот момент я не находила связи учебы с тем, что меня интересовало. Я не училась до того, как попала в Беркли. На классике происходило чтение авторов на греческом и латыни с огромным вниманием к устройству языка. Всем было понятно, что толку от меня нет, и в какой-то момент мне сказали, что надо написать выпускную работу о Катулле. Когда была сформулирована задача, мне стало дико интересно, но в каком-то смысле было поздно. Мир поэта, связанный с ощущением того, что мира почти нет (я занималась стихами об исчезнувшем брате); тема поэта на грани исчезновения мне была остро интересна. Тема «Катулл и дом» меня до сих пор интересует. Помню, что я бесконечно смотрела в окно на памятник Медному всаднику. Было невыносимо красиво. Я поняла, что все может быть в этом городе: бесконечная скука, несчастья, но как же тут красиво!
МН: «Поэт и дом». Вы развивали эту тему?
ПБ: Для меня важно понять, какое пространство возникает в тексте, как данный мастер умеет построить домик. Я только что преподавала американским детям «Преступление и наказание» и рассказывала о последних минутах жизни Свидригайлова возле Петровского острова в тумане и в целом о романе, где нет дома, где город — это дом. Одна из задач, которые могут быть задачами поэзии, — определение пространства. Чем мощнее и наблюдательнее поэт, тем мощнее его пространство, его дом. Бродский жил там, где я живу сейчас, но когда я в детстве читала его стихи, там везде было написано «Саут-Хадли». И ты живешь в Купчино и думаешь: что же такое Саут-Хадли? По какой-то причине поэт очень часто оказывается бездомным. Виновата его внутренняя машинка, тогда возникают какие-то другие способы работы с пространством. Мне кажется, что работа поэта говорит не свое «я», а свое «где».
МН: В какой момент пришла необходимость писать прозу?
ПБ: Это было связано с занятиями блокадной литературой, потому что первое, что я написала — это текст «Прощатель» про человека, который занимается блокадой, и про Максимова. Наверное, это тоже не очень ново в истории литературы, но я поняла, что поэтических средств мне не хватает, что мне нужен другой словарь и, главное, другое временное измерение — мне нужно много времени. Стих из меня вылетает как кусок огня, а проза выходит мучительно долго. При том, что я уже написала «Справочник ленинградских писателей» в свое время.
Я много написала стихов о блокадном Ленинграде, но стала чувствовать ограничение, мне нужно было развернуть ниточку, рассказать о судьбе Максимова. Вот сейчас я занимаюсь послеблокадными записями Шварца. Мне кажется, что новая возможность всегда появляется из невозможности, из кризиса, из неудачи. Из осознанной неудачи. Мало что интересует меня так, как творческая неудача. Для меня две главные книги моего русского ХХ века — это записки Шварца и записки Гинзбург. Новая русская проза появилась из того, что они оба не смогли написать что-то в жанрах, которыми вроде бы блестяще владели. Это совершенно убежденные в себе люди, которые бесстыдно, но и горько говорят о своих неудачах. Я начала писать прозу именно потому, что у меня не получается говорить о том, что мне надо сказать на поэтическом языке.
МН: Как изменилось ваше само- и мироощущение, когда вы переехали в Беркли?
ПБ: Мне очень повезло, потому что мои личные обстоятельства сложились так, что переезд был для меня чудесным приключением. Мне стало так плохо в Питере, что работа официанткой в Беркли казалась мне даром богов. Я уезжала из трудной ситуации, мне кажется, я не отдавала себе отчет, что это навсегда. Английский мой всегда был неадекватен, и русский язык был и будет коконом, через который я все воспринимаю. Я всегда знала, что я путешественник в чужом мире, и путешествие продолжается. Отношения с английским никогда даже близко не вставали рядом с отношениями с русским. Я знаю людей, которые замечательно встроились в новую языковую реальность, а я существую по-русски и читаю по-русски. Мне недавно сказали, что я недооцениваю свой английский, но по ощущениям я понимаю, что он нелепый, трудный, как ходить не со своей рукой или ногой. Это не мой язык. Все функционирует, но чудес не происходит.
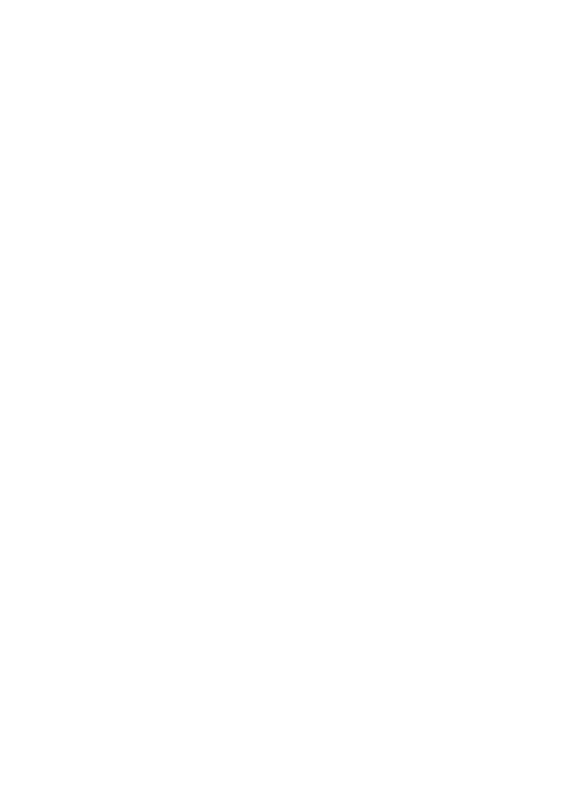
МН: Вы приехали в Беркли и занялись русской литературой как исследователь?
ПБ: Я поступила туда в аспирантуру. Это было удивительное место, где преподавали фантастические персонажи: Паперно, Матич, Найман, Живов, Несбет, Рам и другие. Там все время было интересно. Мне в юности казалось, что русскую литературу я уж знаю, но выяснилось, что это не так. Это был опыт радикального остранения.
В какой-то момент нужно было писать диссертацию, и для меня было естественно, что я буду заниматься городом в 1920–1930-х. Все это было связано с Константином Вагиновым, это были миры Вагинова. В этом моменте питерское самоощущение было самым острым, потому что очень ощущалась перемена, что все меняется, но город может стать средой работы с переменой и какой-то защитой себя. Одна из тем, которая мне интересна — это ощущение своей личности посредством города. Потом она стала главной темой в моей блокадной книге. Когда я стала читать блокадные тексты, то там одна из самых очевидных тем — это то, что все исчезает, но город остается, и ты методом города воспроизводишь себя. В какой-то момент занятий 1920–1930-ми годами я стала соскальзывать в блокаду, потому что смотрела на биографии людей и понимала, что много людей тогда погибло или изменилось роковым образом. Мне было интересно сходить посмотреть. Так я уже 15 лет и смотрю.
МН: Почему именно Вагинов?
ПБ. Был знаменитый зеленый том с четырьмя романами. Для меня эта тетралогия — удивительный опыт сохранения городской цивилизации в момент ее исчезновения. Опыт консервации. Город в момент исчезновения — это отталкивающее зрелище, болезнь, исчезание. Для меня прелесть Константина Вагинова в том, что он невероятно честен с собой, он не приукрашивает то, что видел, он говорит об исчезающей питерской культуре, которая отвратительна в данном состоянии, она гротескна. Такой он ее и запечатлел. Вагинов для меня был версией Беньямина с его парижскими «Пассажами». Это тоже безумная попытка запечатлеть исчезающее.
МН: Вам сложно себя перечитывать?
ПБ: Да, поэтому составить книгу избранного попросила маму. Она ленинградская красавица и умница, состоявшаяся в эпоху 1970-х, которая была очень внимательна к культурным проявлениям жизни, она невероятно реактивный читатель, входящий в резкий контакт с текстом. У нас с нею интересные отношения: я все время ее наблюдаю в остром чтении. Поэтому я подумала, что было бы полезно попросить ее выбрать стихи.
Мама совершенно безжалостна, она прореживала и прореживала подборку. Это было любопытное упражнение, потому что ты понимаешь, что ничего не понимаешь: в тринадцать лет я писала невероятно, так не писали до, подросток Барскова — это странная вещь, ощущение, что я на наркотиках жила, а потом наступает блеклая нормализация, затем рывок, связанный с отъездом, и опять привычка, следом занятие блокадой и новый шаг к письму. Столкновение с блокадным письмом дало мне понимание, что больше нельзя писать красиво, потому что я как выкормыш, скажем, Гумилева научилась делать стихи невероятной красоты. Но есть мир, который красиво описать нельзя, здесь должен быть другой способ работы.
МН: Можете подробнее рассказать про этот блокадный мир?
ПБ: Я работаю с текстами методом чтения и перечитывания. Так получилось, что я не могу перестать на что-то смотреть, это любовь, я не знаю другого слова. Мне с ними хорошо. Я заканчиваю книгу о блокадных поэтах по-русски, я долго жила с этими текстами, поэтому начинаю их вбирать в себя, они начинают быть мной. Я думаю о синтаксисе, интонации этих текстов. Вначале они были огромными массивами, когда я публиковала большой дневник Островской, то боролась с объемами. Мне тогда повезло, что «НЛО» позволило работать с публикацией Островской и что Абрам Ильич Рейтблат этим руководил, помогая нам с Поздняковой, потому что там были постоянные перечитывания и размышления над каждым словом, возникла чудовищная степень близости с текстом.
Со стихами по-другому: там слов меньше, и задача — понять, как они пристроены друг к другу. У нас есть возможность знать что-то про этих людей, например, есть счастливые случаи знакомства с жизнью Павла Зальцмана, совершенно фантастического персонажа, у которого живы и дети, и внуки. Такие герои начинают оживать в гротескности, сложности, эти авторы становятся близкими. Это попытка представить себе эти миры, при этом ты понимаешь, что никогда не представишь их: ты сидишь в квартире, за окном солнечный ноябрь, а занимаешься ты льдом, тьмой, болью. Как бы близко ты к этому оконцу ни подходил, ты всегда будешь чужой.
ПБ: Я поступила туда в аспирантуру. Это было удивительное место, где преподавали фантастические персонажи: Паперно, Матич, Найман, Живов, Несбет, Рам и другие. Там все время было интересно. Мне в юности казалось, что русскую литературу я уж знаю, но выяснилось, что это не так. Это был опыт радикального остранения.
В какой-то момент нужно было писать диссертацию, и для меня было естественно, что я буду заниматься городом в 1920–1930-х. Все это было связано с Константином Вагиновым, это были миры Вагинова. В этом моменте питерское самоощущение было самым острым, потому что очень ощущалась перемена, что все меняется, но город может стать средой работы с переменой и какой-то защитой себя. Одна из тем, которая мне интересна — это ощущение своей личности посредством города. Потом она стала главной темой в моей блокадной книге. Когда я стала читать блокадные тексты, то там одна из самых очевидных тем — это то, что все исчезает, но город остается, и ты методом города воспроизводишь себя. В какой-то момент занятий 1920–1930-ми годами я стала соскальзывать в блокаду, потому что смотрела на биографии людей и понимала, что много людей тогда погибло или изменилось роковым образом. Мне было интересно сходить посмотреть. Так я уже 15 лет и смотрю.
МН: Почему именно Вагинов?
ПБ. Был знаменитый зеленый том с четырьмя романами. Для меня эта тетралогия — удивительный опыт сохранения городской цивилизации в момент ее исчезновения. Опыт консервации. Город в момент исчезновения — это отталкивающее зрелище, болезнь, исчезание. Для меня прелесть Константина Вагинова в том, что он невероятно честен с собой, он не приукрашивает то, что видел, он говорит об исчезающей питерской культуре, которая отвратительна в данном состоянии, она гротескна. Такой он ее и запечатлел. Вагинов для меня был версией Беньямина с его парижскими «Пассажами». Это тоже безумная попытка запечатлеть исчезающее.
МН: Вам сложно себя перечитывать?
ПБ: Да, поэтому составить книгу избранного попросила маму. Она ленинградская красавица и умница, состоявшаяся в эпоху 1970-х, которая была очень внимательна к культурным проявлениям жизни, она невероятно реактивный читатель, входящий в резкий контакт с текстом. У нас с нею интересные отношения: я все время ее наблюдаю в остром чтении. Поэтому я подумала, что было бы полезно попросить ее выбрать стихи.
Мама совершенно безжалостна, она прореживала и прореживала подборку. Это было любопытное упражнение, потому что ты понимаешь, что ничего не понимаешь: в тринадцать лет я писала невероятно, так не писали до, подросток Барскова — это странная вещь, ощущение, что я на наркотиках жила, а потом наступает блеклая нормализация, затем рывок, связанный с отъездом, и опять привычка, следом занятие блокадой и новый шаг к письму. Столкновение с блокадным письмом дало мне понимание, что больше нельзя писать красиво, потому что я как выкормыш, скажем, Гумилева научилась делать стихи невероятной красоты. Но есть мир, который красиво описать нельзя, здесь должен быть другой способ работы.
МН: Можете подробнее рассказать про этот блокадный мир?
ПБ: Я работаю с текстами методом чтения и перечитывания. Так получилось, что я не могу перестать на что-то смотреть, это любовь, я не знаю другого слова. Мне с ними хорошо. Я заканчиваю книгу о блокадных поэтах по-русски, я долго жила с этими текстами, поэтому начинаю их вбирать в себя, они начинают быть мной. Я думаю о синтаксисе, интонации этих текстов. Вначале они были огромными массивами, когда я публиковала большой дневник Островской, то боролась с объемами. Мне тогда повезло, что «НЛО» позволило работать с публикацией Островской и что Абрам Ильич Рейтблат этим руководил, помогая нам с Поздняковой, потому что там были постоянные перечитывания и размышления над каждым словом, возникла чудовищная степень близости с текстом.
Со стихами по-другому: там слов меньше, и задача — понять, как они пристроены друг к другу. У нас есть возможность знать что-то про этих людей, например, есть счастливые случаи знакомства с жизнью Павла Зальцмана, совершенно фантастического персонажа, у которого живы и дети, и внуки. Такие герои начинают оживать в гротескности, сложности, эти авторы становятся близкими. Это попытка представить себе эти миры, при этом ты понимаешь, что никогда не представишь их: ты сидишь в квартире, за окном солнечный ноябрь, а занимаешься ты льдом, тьмой, болью. Как бы близко ты к этому оконцу ни подходил, ты всегда будешь чужой.
вас может заинтересовать

