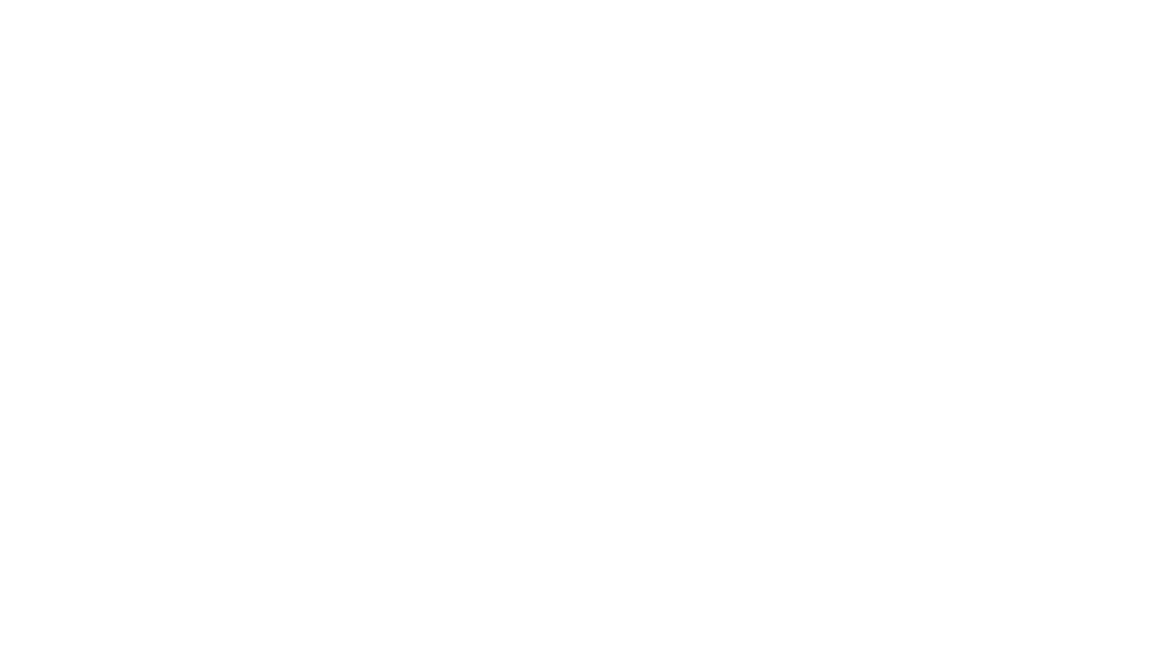
Распахнутость мира
В преддверии «Дня Носорога» 21 августа в Переделкине мы начинаем публиковать материалы о наших лекторах. Первый из них – интервью Руслана Комадея с поэтом Александрой Цибулей о гипнотическом ландшафте Ферганы Шамшада Абдуллаева, о внезапных смещениях и замыканиях внутри современной петербургской реальности, о речи, идущей из глубины молчания.
Руслан Комадей: Вы проводите в Санкт-Петербурге ридинг-группу по творчеству Шашмада Абдуллаева, помогает ли питерский ландшафт обнаруживать внутреннюю Фергану?
Александра Цибуля: Во-первых, скажу, что я бесконечно благодарна Максимилиану Неаполитанскому, исследователю современной философии, который инициировал летнюю ридинг-группу по текстам Шамшада. Я помогаю Максу с координацией, приглашаю новых людей, стараюсь каждый раз писать аналитический текст перед общей встречей. Группа функционирует в горизонтальном режиме, участники могут предлагать тексты для дискуссий, новые форматы и локации. У нас были очень красивые места для летних семинаров, один раз мы сидели под статуей Геракла на полуострове, сверху капала сосновая смола, мимо проплывали катамараны. В другую встречу расположились большой компанией в усадебном саду у музея Державина, там есть что-то вроде живописного амфитеатра. Конечно, декорации скорее для обсуждения Вагинова и петербургского текста, но здесь бессмысленно пытаться найти какие-то лобовые рифмы с гипнотическим ландшафтом Ферганы, скорее пытаемся помыслить его на контрасте, призываем миражи.
В прошлый раз встречались в помещении (спасибо книжному магазину «Порядок слов»), что позволило подключить коллег из других городов по зуму. Миша Бордуновский (поэт, редактор журнала «Флаги») заранее задал вопросы Шамшаду о двух рассказах из «Другого юга», которые были у нас на повестке, и поделился бесценными находками. Сама я пока не решаюсь писать Абдуллаеву, один мой друг справедливо назвал его дзен-мастером, что ты спросишь у дзен-мастера, он испускает смыслы с другой стороны земли, там где «ходят вниз головою растения».
РК: Твои поэтические тексты часто отсылают к истории и персонажам культуры, тексты Абдуллаева тоже, но в чём разность использования?
АЦ: Я обожаю, как Абдуллаев это делает. Он упоминает эти явления как бы впроброс, вещь культуры у него становится очень органичной частью пейзажа. Он может сравнить, например, змею и рок-н-ролльный хэдбэнд: «ниже, в пыли, морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист Элиса Купера в School's Out». Получается очень стильно и сексуально, я вижу здесь кайф от письма, от этой галлюцинаторной подмены, это передается читателю.
Я вставляю такие ссылки ненамеренно, просто я слишком давно работаю в музее (с 17, мне сейчас 31), поэтому подвыпивший морпех, который отжимается на улице и стреляет мелочь у школьников в очереди, может превращаться в моем стихотворении в одного из львов с картины Мемлинга, у меня в голове мгновенно происходит визуальный переход, вот Макдональдс в виде замка на Василеостровской, у которого стоят дети и не могут туда проникнуть, вот львы у башни, вот морпех, охраняющий вход, и т. д. Понимаю, что для читателя эти реминисценции могут казаться нарочитыми, тут до абдуллаевской (кажущейся) небрежности мне далеко.
РК: Следуя Абдуллаеву, разделяешь ли ты места, в которых находишься, на реальные и воображаемые или находишь особое удовольствие в этом неразличении?
АЦ: Нужно сказать, что в последнее время мои тексты стали гораздо прозрачнее, это связано и с обстоятельствами, в которых мы все оказались, я вижу смысл в том, чтобы фиксировать это время, приметы идеологии в городском пространстве, обрывки подслушанных разговоров почти документально. При этом есть и место для светских эпифаний, как у Джойса, и мистических микропроисшествий, которые тебя выдергивают из обыденности и выморочности жизни. Привлекают как раз стыки этих реальностей, внезапные смещения и замыкания, когда какое-то явление или соположение деталей бьет тебя по голове, застает врасплох, выбивает пробки.
РК: Как соотносятся фигуры бесстрастности и молчания, первая из которых, как мне кажется, является одной из отправных точек твоей поэзии, вторая – для творчества Абдуллаева?
АЦ: Мне иногда кажется, что я вижу в стратегиях Абдуллаева, какие-то принципы, свойственные йогам, – фиксировать, но не анализировать, наблюдать, но не оценивать (цепь состояний) и пр.
Вообще в письме, в поэзии главное для меня – это уязвимость и раздетость говорящего. Речь, идущая из глубины молчания, отмечена последней правдивостью, предельностью, честностью перед собой и другим. На выходе трезвость, строгость и доверительность.
РК: В «Кинолюбителе» Абдуллаев рассуждает, что останется, если отказаться от желаний, и что принесет только что родившаяся пустота. Что останется, Саша?
АЦ: Желания, понятно, ведут к страданиям, горизонт ожидания непрерывно заваливается, и я хоть и могу сказать, как герой вагиновской «Козлиной песни», «четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями», но все-таки до статуса буддийского монаха мне очень далеко. Если снять желание, то, по Абдуллаеву, останется спокойствие, бесстрастность, они и обладают «полнотой чувств». Для меня как для автора здесь речь еще и о переносе внимания с себя на пейзаж, на доверчивых и недоверчивых существ поблизости, сделанных из вещества блаженства, на законы их сообществ. Один из персонажей абдуллаевского «Кинолюбителя» говорит: «Лишь к природе, сказал он, могу относиться предельно серьезно, паук, чешуйчатый забор, лепестки, вихрящиеся над воронкой в усталой воде, никаких фальшивых таинств…» Остается распахнутость мира в его непрерывности, монотонности, рана мира. Наблюдатель, чье желание стало зрением, зоркостью. Внимательность. Свидетельство.
Александра Цибуля: Во-первых, скажу, что я бесконечно благодарна Максимилиану Неаполитанскому, исследователю современной философии, который инициировал летнюю ридинг-группу по текстам Шамшада. Я помогаю Максу с координацией, приглашаю новых людей, стараюсь каждый раз писать аналитический текст перед общей встречей. Группа функционирует в горизонтальном режиме, участники могут предлагать тексты для дискуссий, новые форматы и локации. У нас были очень красивые места для летних семинаров, один раз мы сидели под статуей Геракла на полуострове, сверху капала сосновая смола, мимо проплывали катамараны. В другую встречу расположились большой компанией в усадебном саду у музея Державина, там есть что-то вроде живописного амфитеатра. Конечно, декорации скорее для обсуждения Вагинова и петербургского текста, но здесь бессмысленно пытаться найти какие-то лобовые рифмы с гипнотическим ландшафтом Ферганы, скорее пытаемся помыслить его на контрасте, призываем миражи.
В прошлый раз встречались в помещении (спасибо книжному магазину «Порядок слов»), что позволило подключить коллег из других городов по зуму. Миша Бордуновский (поэт, редактор журнала «Флаги») заранее задал вопросы Шамшаду о двух рассказах из «Другого юга», которые были у нас на повестке, и поделился бесценными находками. Сама я пока не решаюсь писать Абдуллаеву, один мой друг справедливо назвал его дзен-мастером, что ты спросишь у дзен-мастера, он испускает смыслы с другой стороны земли, там где «ходят вниз головою растения».
РК: Твои поэтические тексты часто отсылают к истории и персонажам культуры, тексты Абдуллаева тоже, но в чём разность использования?
АЦ: Я обожаю, как Абдуллаев это делает. Он упоминает эти явления как бы впроброс, вещь культуры у него становится очень органичной частью пейзажа. Он может сравнить, например, змею и рок-н-ролльный хэдбэнд: «ниже, в пыли, морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист Элиса Купера в School's Out». Получается очень стильно и сексуально, я вижу здесь кайф от письма, от этой галлюцинаторной подмены, это передается читателю.
Я вставляю такие ссылки ненамеренно, просто я слишком давно работаю в музее (с 17, мне сейчас 31), поэтому подвыпивший морпех, который отжимается на улице и стреляет мелочь у школьников в очереди, может превращаться в моем стихотворении в одного из львов с картины Мемлинга, у меня в голове мгновенно происходит визуальный переход, вот Макдональдс в виде замка на Василеостровской, у которого стоят дети и не могут туда проникнуть, вот львы у башни, вот морпех, охраняющий вход, и т. д. Понимаю, что для читателя эти реминисценции могут казаться нарочитыми, тут до абдуллаевской (кажущейся) небрежности мне далеко.
РК: Следуя Абдуллаеву, разделяешь ли ты места, в которых находишься, на реальные и воображаемые или находишь особое удовольствие в этом неразличении?
АЦ: Нужно сказать, что в последнее время мои тексты стали гораздо прозрачнее, это связано и с обстоятельствами, в которых мы все оказались, я вижу смысл в том, чтобы фиксировать это время, приметы идеологии в городском пространстве, обрывки подслушанных разговоров почти документально. При этом есть и место для светских эпифаний, как у Джойса, и мистических микропроисшествий, которые тебя выдергивают из обыденности и выморочности жизни. Привлекают как раз стыки этих реальностей, внезапные смещения и замыкания, когда какое-то явление или соположение деталей бьет тебя по голове, застает врасплох, выбивает пробки.
РК: Как соотносятся фигуры бесстрастности и молчания, первая из которых, как мне кажется, является одной из отправных точек твоей поэзии, вторая – для творчества Абдуллаева?
АЦ: Мне иногда кажется, что я вижу в стратегиях Абдуллаева, какие-то принципы, свойственные йогам, – фиксировать, но не анализировать, наблюдать, но не оценивать (цепь состояний) и пр.
Вообще в письме, в поэзии главное для меня – это уязвимость и раздетость говорящего. Речь, идущая из глубины молчания, отмечена последней правдивостью, предельностью, честностью перед собой и другим. На выходе трезвость, строгость и доверительность.
РК: В «Кинолюбителе» Абдуллаев рассуждает, что останется, если отказаться от желаний, и что принесет только что родившаяся пустота. Что останется, Саша?
АЦ: Желания, понятно, ведут к страданиям, горизонт ожидания непрерывно заваливается, и я хоть и могу сказать, как герой вагиновской «Козлиной песни», «четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями», но все-таки до статуса буддийского монаха мне очень далеко. Если снять желание, то, по Абдуллаеву, останется спокойствие, бесстрастность, они и обладают «полнотой чувств». Для меня как для автора здесь речь еще и о переносе внимания с себя на пейзаж, на доверчивых и недоверчивых существ поблизости, сделанных из вещества блаженства, на законы их сообществ. Один из персонажей абдуллаевского «Кинолюбителя» говорит: «Лишь к природе, сказал он, могу относиться предельно серьезно, паук, чешуйчатый забор, лепестки, вихрящиеся над воронкой в усталой воде, никаких фальшивых таинств…» Остается распахнутость мира в его непрерывности, монотонности, рана мира. Наблюдатель, чье желание стало зрением, зоркостью. Внимательность. Свидетельство.
вас может заинтересовать
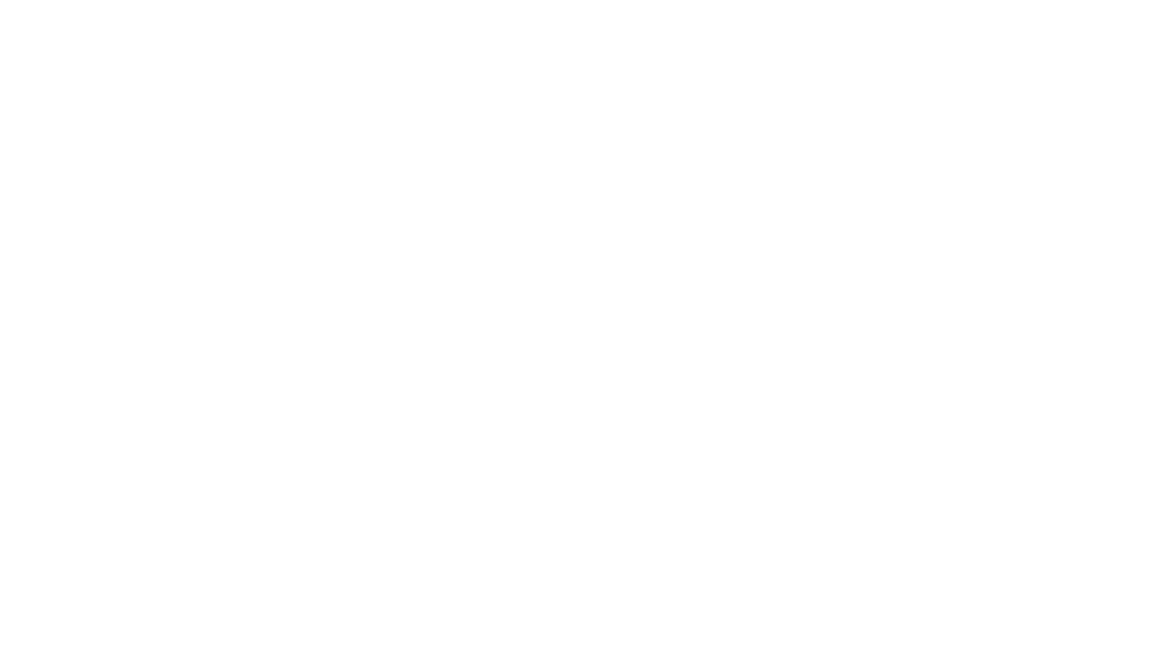
Распахнутость мира
В преддверии «Дня Носорога» 21 августа в Переделкине мы начинаем публиковать материалы о наших лекторах. Первый из них – интервью Руслана Комадея с поэтом Александрой Цибулей о гипнотическом ландшафте Ферганы Шамшада Абдуллаева, о внезапных смещениях и замыканиях внутри современной петербургской реальности, о речи, идущей из глубины молчания.
Руслан Комадей: Вы проводите в Санкт-Петербурге ридинг-группу по творчеству Шашмада Абдуллаева, помогает ли питерский ландшафт обнаруживать внутреннюю Фергану?
Александра Цибуля: Во-первых, скажу, что я бесконечно благодарна Максимилиану Неаполитанскому, исследователю современной философии, который инициировал летнюю ридинг-группу по текстам Шамшада. Я помогаю Максу с координацией, приглашаю новых людей, стараюсь каждый раз писать аналитический текст перед общей встречей. Группа функционирует в горизонтальном режиме, участники могут предлагать тексты для дискуссий, новые форматы и локации. У нас были очень красивые места для летних семинаров, один раз мы сидели под статуей Геракла на полуострове, сверху капала сосновая смола, мимо проплывали катамараны. В другую встречу расположились большой компанией в усадебном саду у музея Державина, там есть что-то вроде живописного амфитеатра. Конечно, декорации скорее для обсуждения Вагинова и петербургского текста, но здесь бессмысленно пытаться найти какие-то лобовые рифмы с гипнотическим ландшафтом Ферганы, скорее пытаемся помыслить его на контрасте, призываем миражи.
В прошлый раз встречались в помещении (спасибо книжному магазину «Порядок слов»), что позволило подключить коллег из других городов по зуму. Миша Бордуновский (поэт, редактор журнала «Флаги») заранее задал вопросы Шамшаду о двух рассказах из «Другого юга», которые были у нас на повестке, и поделился бесценными находками. Сама я пока не решаюсь писать Абдуллаеву, один мой друг справедливо назвал его дзен-мастером, что ты спросишь у дзен-мастера, он испускает смыслы с другой стороны земли, там где «ходят вниз головою растения».
РК: Твои поэтические тексты часто отсылают к истории и персонажам культуры, тексты Абдуллаева тоже, но в чём разность использования?
АЦ: Я обожаю, как Абдуллаев это делает. Он упоминает эти явления как бы впроброс, вещь культуры у него становится очень органичной частью пейзажа. Он может сравнить, например, змею и рок-н-ролльный хэдбэнд: «ниже, в пыли, морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист Элиса Купера в School's Out». Получается очень стильно и сексуально, я вижу здесь кайф от письма, от этой галлюцинаторной подмены, это передается читателю.
Я вставляю такие ссылки ненамеренно, просто я слишком давно работаю в музее (с 17, мне сейчас 31), поэтому подвыпивший морпех, который отжимается на улице и стреляет мелочь у школьников в очереди, может превращаться в моем стихотворении в одного из львов с картины Мемлинга, у меня в голове мгновенно происходит визуальный переход, вот Макдональдс в виде замка на Василеостровской, у которого стоят дети и не могут туда проникнуть, вот львы у башни, вот морпех, охраняющий вход, и т. д. Понимаю, что для читателя эти реминисценции могут казаться нарочитыми, тут до абдуллаевской (кажущейся) небрежности мне далеко.
РК: Следуя Абдуллаеву, разделяешь ли ты места, в которых находишься, на реальные и воображаемые или находишь особое удовольствие в этом неразличении?
АЦ: Нужно сказать, что в последнее время мои тексты стали гораздо прозрачнее, это связано и с обстоятельствами, в которых мы все оказались, я вижу смысл в том, чтобы фиксировать это время, приметы идеологии в городском пространстве, обрывки подслушанных разговоров почти документально. При этом есть и место для светских эпифаний, как у Джойса, и мистических микропроисшествий, которые тебя выдергивают из обыденности и выморочности жизни. Привлекают как раз стыки этих реальностей, внезапные смещения и замыкания, когда какое-то явление или соположение деталей бьет тебя по голове, застает врасплох, выбивает пробки.
РК: Как соотносятся фигуры бесстрастности и молчания, первая из которых, как мне кажется, является одной из отправных точек твоей поэзии, вторая – для творчества Абдуллаева?
АЦ: Мне иногда кажется, что я вижу в стратегиях Абдуллаева, какие-то принципы, свойственные йогам, – фиксировать, но не анализировать, наблюдать, но не оценивать (цепь состояний) и пр.
Вообще в письме, в поэзии главное для меня – это уязвимость и раздетость говорящего. Речь, идущая из глубины молчания, отмечена последней правдивостью, предельностью, честностью перед собой и другим. На выходе трезвость, строгость и доверительность.
РК: В «Кинолюбителе» Абдуллаев рассуждает, что останется, если отказаться от желаний, и что принесет только что родившаяся пустота. Что останется, Саша?
АЦ: Желания, понятно, ведут к страданиям, горизонт ожидания непрерывно заваливается, и я хоть и могу сказать, как герой вагиновской «Козлиной песни», «четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями», но все-таки до статуса буддийского монаха мне очень далеко. Если снять желание, то, по Абдуллаеву, останется спокойствие, бесстрастность, они и обладают «полнотой чувств». Для меня как для автора здесь речь еще и о переносе внимания с себя на пейзаж, на доверчивых и недоверчивых существ поблизости, сделанных из вещества блаженства, на законы их сообществ. Один из персонажей абдуллаевского «Кинолюбителя» говорит: «Лишь к природе, сказал он, могу относиться предельно серьезно, паук, чешуйчатый забор, лепестки, вихрящиеся над воронкой в усталой воде, никаких фальшивых таинств…» Остается распахнутость мира в его непрерывности, монотонности, рана мира. Наблюдатель, чье желание стало зрением, зоркостью. Внимательность. Свидетельство.
Александра Цибуля: Во-первых, скажу, что я бесконечно благодарна Максимилиану Неаполитанскому, исследователю современной философии, который инициировал летнюю ридинг-группу по текстам Шамшада. Я помогаю Максу с координацией, приглашаю новых людей, стараюсь каждый раз писать аналитический текст перед общей встречей. Группа функционирует в горизонтальном режиме, участники могут предлагать тексты для дискуссий, новые форматы и локации. У нас были очень красивые места для летних семинаров, один раз мы сидели под статуей Геракла на полуострове, сверху капала сосновая смола, мимо проплывали катамараны. В другую встречу расположились большой компанией в усадебном саду у музея Державина, там есть что-то вроде живописного амфитеатра. Конечно, декорации скорее для обсуждения Вагинова и петербургского текста, но здесь бессмысленно пытаться найти какие-то лобовые рифмы с гипнотическим ландшафтом Ферганы, скорее пытаемся помыслить его на контрасте, призываем миражи.
В прошлый раз встречались в помещении (спасибо книжному магазину «Порядок слов»), что позволило подключить коллег из других городов по зуму. Миша Бордуновский (поэт, редактор журнала «Флаги») заранее задал вопросы Шамшаду о двух рассказах из «Другого юга», которые были у нас на повестке, и поделился бесценными находками. Сама я пока не решаюсь писать Абдуллаеву, один мой друг справедливо назвал его дзен-мастером, что ты спросишь у дзен-мастера, он испускает смыслы с другой стороны земли, там где «ходят вниз головою растения».
РК: Твои поэтические тексты часто отсылают к истории и персонажам культуры, тексты Абдуллаева тоже, но в чём разность использования?
АЦ: Я обожаю, как Абдуллаев это делает. Он упоминает эти явления как бы впроброс, вещь культуры у него становится очень органичной частью пейзажа. Он может сравнить, например, змею и рок-н-ролльный хэдбэнд: «ниже, в пыли, морщилась, как рассеченный кетменем золотисто-бурый полоз, шелковая повязка для волос, словно ею пользовался бас-гитарист Элиса Купера в School's Out». Получается очень стильно и сексуально, я вижу здесь кайф от письма, от этой галлюцинаторной подмены, это передается читателю.
Я вставляю такие ссылки ненамеренно, просто я слишком давно работаю в музее (с 17, мне сейчас 31), поэтому подвыпивший морпех, который отжимается на улице и стреляет мелочь у школьников в очереди, может превращаться в моем стихотворении в одного из львов с картины Мемлинга, у меня в голове мгновенно происходит визуальный переход, вот Макдональдс в виде замка на Василеостровской, у которого стоят дети и не могут туда проникнуть, вот львы у башни, вот морпех, охраняющий вход, и т. д. Понимаю, что для читателя эти реминисценции могут казаться нарочитыми, тут до абдуллаевской (кажущейся) небрежности мне далеко.
РК: Следуя Абдуллаеву, разделяешь ли ты места, в которых находишься, на реальные и воображаемые или находишь особое удовольствие в этом неразличении?
АЦ: Нужно сказать, что в последнее время мои тексты стали гораздо прозрачнее, это связано и с обстоятельствами, в которых мы все оказались, я вижу смысл в том, чтобы фиксировать это время, приметы идеологии в городском пространстве, обрывки подслушанных разговоров почти документально. При этом есть и место для светских эпифаний, как у Джойса, и мистических микропроисшествий, которые тебя выдергивают из обыденности и выморочности жизни. Привлекают как раз стыки этих реальностей, внезапные смещения и замыкания, когда какое-то явление или соположение деталей бьет тебя по голове, застает врасплох, выбивает пробки.
РК: Как соотносятся фигуры бесстрастности и молчания, первая из которых, как мне кажется, является одной из отправных точек твоей поэзии, вторая – для творчества Абдуллаева?
АЦ: Мне иногда кажется, что я вижу в стратегиях Абдуллаева, какие-то принципы, свойственные йогам, – фиксировать, но не анализировать, наблюдать, но не оценивать (цепь состояний) и пр.
Вообще в письме, в поэзии главное для меня – это уязвимость и раздетость говорящего. Речь, идущая из глубины молчания, отмечена последней правдивостью, предельностью, честностью перед собой и другим. На выходе трезвость, строгость и доверительность.
РК: В «Кинолюбителе» Абдуллаев рассуждает, что останется, если отказаться от желаний, и что принесет только что родившаяся пустота. Что останется, Саша?
АЦ: Желания, понятно, ведут к страданиям, горизонт ожидания непрерывно заваливается, и я хоть и могу сказать, как герой вагиновской «Козлиной песни», «четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями», но все-таки до статуса буддийского монаха мне очень далеко. Если снять желание, то, по Абдуллаеву, останется спокойствие, бесстрастность, они и обладают «полнотой чувств». Для меня как для автора здесь речь еще и о переносе внимания с себя на пейзаж, на доверчивых и недоверчивых существ поблизости, сделанных из вещества блаженства, на законы их сообществ. Один из персонажей абдуллаевского «Кинолюбителя» говорит: «Лишь к природе, сказал он, могу относиться предельно серьезно, паук, чешуйчатый забор, лепестки, вихрящиеся над воронкой в усталой воде, никаких фальшивых таинств…» Остается распахнутость мира в его непрерывности, монотонности, рана мира. Наблюдатель, чье желание стало зрением, зоркостью. Внимательность. Свидетельство.
вас может заинтересовать

