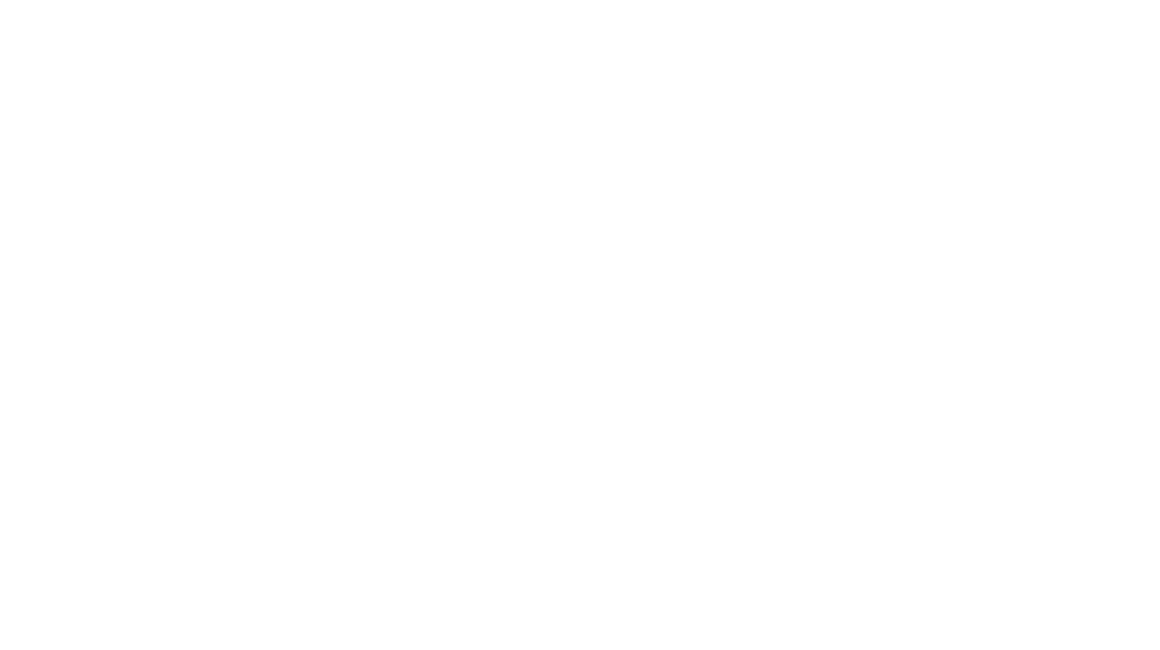
Разбой воображения
Беседа художника Арсения Жиляева и философа, историка анархистского движения 1910-1920-х годов Евгения Кучинова, поводом для которой послужил вышедший в 2017 году в издательстве Common Place сборник текстов поэта и идеолога анархизма-биокосмизма Святогора.
Арсений Жиляев. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
Евгений Кучинов. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
АЖ. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
ЕК. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
Евгений Кучинов. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
АЖ. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
ЕК. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
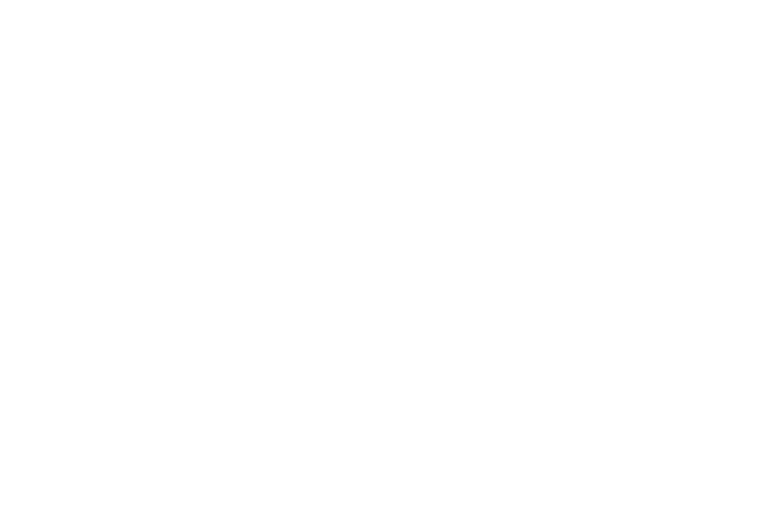
АЖ. Похоже, что для истории биокосмистов главным образом сохранили исследователи анархизма. Остальное носит скорее факультативный характер вроде заметок к проекту Федорова. Но значит ли это, что для чтения биокосмистов необходимо быть радикально левым или же пройти схожую с тобой довольно сложную интеллектуальную траекторию? Согласись, выглядит так, что речь идет о чем-то узко профессиональном, требующем серьёзной подготовки. Или же эти тексты Святогора должны резонировать именно в силу своей странности, «шизофреничности»?. Если второе, то в чём ты видишь её ценность? Ведь кажется, что идея работать с «шизофренией» довольно противоречивая. С одной стороны, она вроде бы сопротивляется любой фиксации, опредмечиванию и пр. С другой, есть ощущение, что современный мир гораздо ближе к шизофреническому, чем это было в начале или в середине 20-го века.
ЕК. Исследователи анархизма постоянно ведут собирательскую работу по поиску, оцифровке и публикации различных диковинок из истории анархического движения, это правда. Но в отношении биокосмизма найти и сохранить — это, как мне кажется, не самое сложное и не самое важное. Важно каким-то образом соотнести анархо-биокосмизм с современностью, с современной теорией, научной фантастикой, с современными политическими чаяниями. Ключевым является вопрос: что мы можем сделать с биокосмизмом сегодня? И здесь, действительно, настоятельно звучат твои вопросы. Мне трудно судить о том, что необходимо для чтения анархо-космистов. Ясно, что одного лишь собирательского интереса недостаточно, он даёт нам лишь горстки остывшего пепла, имеющие значение только для профессионалов узкой специализации, этот интерес не даёт огня. Я также не думаю, что для чтения биокосмистов обязательно нужно быть анархистом, историком философии или специалистом по современной философской теории. Я не думаю, что это вообще возможно: быть специалистом по биокосмизму. Специализируясь на биокосмистах, мы неизбежно упустим из виду эффекты ничьей земли, разбой воображения, который сквозит в этих текстах. Если понимать шизофрению как разбой воображения, то современный мир трудно будет считать более шизофреничным, чем Советская Россия в 1920-е годы. Налицо, скорее, некоторый паралич воображения, но никак не разбой. Если проводить аналогию, то воображение сегодня похоже на разбойника, который бросил своё ремесло и пошёл служить царю — пусть и на опасных рубежах, пусть и с жестокостью и рвением — но без настоящего разбоя, который всегда ищет ничьей земли.
Поэтому, возвращаясь к биокосмистам, нужно сказать, что заниматься ими сегодня — значит стать разбойником воображения. Влиться в разбойную шайку, в сбродную дружину. Эту задачу трудно было бы решить в формате университетского академического семинара по биокосмизму (хотя разбойничать можно и в этой среде). Для меня идеальными местами завязывания разбойных узлов являются такие проекты, как PPh | Pop-Philosophy!, Институт ТехноТеологии и подобные. В рамках первого появились «Фрагменты анархо-биокосмистов» и «Лесной пожар» (и многое ждет появления на свет), в рамках второго существует три отделения, которые занимаются анархо-космизмом и разбоем воображения: «Шизотектологический Креаторий», «Второй (Децентрированный) Социотехникум» и «Разбойный Воображариум». Эти проекты предполагают не только собирательство, накопление и инвентаризацию, не только интерпретацию, но в большей степени проблематизацию, фальсификацию и переизобретение анархо-космизма. Интереснее работать с биокосмизмом как с сырым материалом, который нужен ровно настолько, насколько мы можем создать из него что-то новое, как с фрагментами, которые можно пересобрать. Иными словами, в текстах анархо-космистов необходимо разбойничать. Кто может войти в сбродную дружину? Да кто угодно, это вопрос удали. Каковы ставки? Как и в любом разбое, ставки разбоя воображения высоки: доброе имя (которое, скорее всего, будет стерто) и жизнь вечная (которая, скорее всего, будет потеряна). Помню, как я побывал в церкви Николая Чудотворца «Красный звон» в Никольском переулке, в Москве. Я хотел ощутить то пространство, в котором Святогор и компания учредили Свободную Трудовую Церковь. Там на информационном стенде висела распечатка «из интернета» с краткой историей храма, в которой Святогор звался Алексеем. Когда я начал расспрашивать о том, не осталось ли каких-то следов СТЦ, мне довольно раздраженно ответили, что не осталось — и слава Богу, что эти ваши 20-е годы не нужно исследовать, эти обновленцы-раскольники не приведут к спасению души, о котором надлежит думать доброму христианину...
АЖ. А можешь подробнее остановиться на деятельности Свободной Трудовой Церкви? Я узнал про неё около года-полутора назад и изначально не соотносил её с деятельностью биокосмистов. Хотя мне было проще её понять именно как художественный проект. Впрочем, еще тут могут быть и чисто религиозные трактовки. Однажды услышал мнение философа Кети Чухров о том, что космизм — это русский вариант Реформации. И ведь действительно — например, для сообщества музея-библиотеки им. Федорова важна именно религиозная ветвь космизма. И в этом смысле их выступления больше походят на проповеди, нежели чем на привычные для современных интеллектуалов дискуссии. Ну, если не на проповеди, то на что-то близкое к пассионарному политическому активизму. Но уверен, службы Святогора могли бы составить конкуренцию. Ты не мог больше рассказать о религиозном аспекте деятельности биокосмистов и о том, как в качестве философа работаешь с этой частью их наследия?
ЕК. Ох! Здесь много сложных вопросов! Попробуем по порядку. Космизм довольно часто объявляется русской Реформацией. Мне кажется, что это сравнение имеет сильную и слабую стороны. Сильная сторона в том, что космизм тем самым вписывается в историческое движение революционного открытия плана имманенции, в котором, по словам Негри и Хардта, силы неба спускаются на землю, люди объявляют себя хозяевами своей жизни и смерти, становятся творцами истории и т.п. Слабая сторона в том, что это сравнение загоняет нас в таблицу сопоставления, в таблицу сходств и различий с образцом, с европейской Реформацией. В истории христианства есть устойчивый мотив возвращения к изначальному: к простоте раннего христианства, к подвижничеству и мученичеству, к Живому Христу. Реформация движется этим мотивом, движется к изначальному, но при этом возникает нечто совершенно современное: дух капитализма. Космизм также обращается к истокам, но весьма радикально их переосмысливает: когда Николай Федоров противопоставляет историю как факт и историю как проект, он очень радикален, так как утверждает, что никакого истока как образца для подражания не существует. Истоки должны быть переизобретены. В этом пункте он, кстати говоря, довольно резко критикует протестантизм, называя его «религией для несовершеннолетних». Кроме того, космизм всё-таки не исчерпывается одним Федоровым, не исчерпывается только лишь религиозным (христианским) космизмом. Есть, скажем, атеистический космизм Богданова, у него иная генеалогия, он не восходит к философии общего дела, есть иудейский космизм Братьев Гординых, есть Святогор, который энергично противопоставлял свой биокосмизм философии общего дела. Я хочу сказать, что движение космизма очень разношёрстно, оно не исчерпывается федоровским проектом, его связь с религиозными истоками неоднозначна, и сравнение с Реформацией всю эту сложность несколько скрадывает. Но я бы пошёл по пути этого сравнения чуть дальше. Если мы возьмём одну из радикальных форм современной протестантской теологии, теологию мертвого Бога, христианский атеизм Томаса Альтицера, мы увидим один очень важный пункт: отсутствие технического решения проблемы смерти Бога и довольно устойчивый мотив концептуализации самоубийства (Альтицера, например, очень интересует фигура Кириллова, самоубийцы из «Бесов» Достоевского). Самоубийство — важная тема, это своеобразный предел реформационного движения в условиях отсутствия технических решений проблемы смерти Бога: когда мы берём власть над своими жизнями в свои руки, высшим (и наиболее рациональным) её проявлением будет самоубийство. Теперь короткое замыкание: космизм, который столкнулся с той же самой проблемой, выдвинул этическую максиму — подлинное самоубийство возможно только тогда, когда мы бессмертны и когда есть воскрешение. Приведу два примера. В «Аргонавтах Вселенной» Александра Ярославского есть момент, когда главные герои попадают на Луну и обнаруживают, что это кладбище бессмертных, которые решили от своего бессмертия «отдохнуть» — и умереть. В «Стране Анархии» Братьев Гординых этот вопрос решен еще радикальнее: в этом чудесном утопическом мире ещё не изобрели бессмертия, но серьезно работают над этим, хотя есть среди людей Страны Анархии те, кто против изобретения бессмертия, так как они убеждены, что если бы смерти не было, её следовало бы изобрести. В космизме смерть перестает быть тем пределом, с которым мы либо пассивно смиряемся, либо мы с героической решимостью её принимаем, заступая в собственное бытие к смерти, как сказал бы Хайдеггер. Анархо-космизм утверждает: смерть необходимо изобрести, то есть к ней необходимо выработать наиболее техническое — и наиболее свободное отношение. Изобретение смерти — это очень спокойно и весело, это очень разбойно (вспомним Христа, который разбойничал смерть в аду). Мне кажется, что в этом смысл работы с «религиозным аспектом космизма». Мне кажется, это очень важно. В своей замечательной «Дилемме призрака» Квентин Мейясу показал важную проблему: мы не можем просто сбросить со счетов «религиозные чаяния», мы не можем просто стать атеистами и объявить Бога несуществующим. На вызов призрака не отвечает решение «Бога нет». Однако на вызов призрака не отвечает также и «Бог есть». Решение Мейясу: Бога ещё нет (и здесь тоже нет технического аспекта решения). Мне кажется, космизм радикальнее. Во-первых, если Мейясу определяет призрака как того, кто умер ужасной смертью, предполагая тем самым, что есть смерть, которую можно должным образом оплакать и отправить умершего на «тот свет», в сущности, избавившись от него, то космизм утверждает: мы все призраки, так как не существует «нормальной» смерти, смерть невозможно оплакать, смерть необходимо изобрести. Во-вторых, космизм утверждает необходимость технического (то есть фактического) решения проблемы смерти.
Теперь совершим жесткое приземление и скажем пару слов о Свободной Трудовой Церкви. Это история яростного аффективного энтузиазма и его краха, я бы сказал, что это история теологического панка. Святогор, в отличие от Федорова, Богданова, Муравьева, Гординых, — это человек устойчивого теологического аффекта, а не теории. Он из семьи священника, он учился в семинарии, он писал богословские тексты на украинском языке в журнале «Шлях», он написал поэтико-богословский трактат «Революция Духа» — вулканизм, биокосмизм, программные тексты СТЦ — он везде твердит о том, что называет трезвой христианской правдой фактического посюстороннего бессмертия и воскрешения (скорее всего, этот аффект вполне укладывался в траекторию, которую я выше очертил). И СТЦ органично вписывается в эту историю. Там страсть Святогора достигает своего апогея и становится совершенно конкретной работой по обустройству храма как космического корабля, как некоего фактического художественного организма. Думаю, ты прав, считая, что аффективное пламя во время богослужений, поэтических чтений и дискуссий в храме «Красный звон» полыхало очень ярко. Хотя нельзя забывать о том, что со стороны это выглядело довольно странно, и сборища СТЦ нередко описываются как «церковные митинги самого базарного уровня». Всё по панку, короче. Кроме того, такие вот обновленческие церкви довольно жёстко и цинично использовались властями для борьбы с Русской православной церковью, которой, скажем, СТЦ и целый ряд подобных подобных движений противопоставлялись на страницах «Известий ВЦИК». Трудно судить о том, насколько Святогор понимал свою роль «цепного пса», который рычит на политических оппонентов большевиков. Но когда надобность в этих движениях отпала, СТЦ тоже ушла в тень и рассыпалась. Храм опустел, а позже там расположилась электростанция. А Святогор исчез, остался только А.Ф. Агиенко, очень холодные безжизненные тексты которого появляются в 1930-е годы на страницах журнала «Антирелигиозник». В них иногда просвечивает былая аффективность Святогора, но в целом они производят тяжкое впечатление. Впрочем, в «Антирелигиознике» Агиенко не пишет того, что можно было бы истолковать как его отказ от «трезвой правды». Но, так или иначе, это уже записки мертвеца.
ЕК. Исследователи анархизма постоянно ведут собирательскую работу по поиску, оцифровке и публикации различных диковинок из истории анархического движения, это правда. Но в отношении биокосмизма найти и сохранить — это, как мне кажется, не самое сложное и не самое важное. Важно каким-то образом соотнести анархо-биокосмизм с современностью, с современной теорией, научной фантастикой, с современными политическими чаяниями. Ключевым является вопрос: что мы можем сделать с биокосмизмом сегодня? И здесь, действительно, настоятельно звучат твои вопросы. Мне трудно судить о том, что необходимо для чтения анархо-космистов. Ясно, что одного лишь собирательского интереса недостаточно, он даёт нам лишь горстки остывшего пепла, имеющие значение только для профессионалов узкой специализации, этот интерес не даёт огня. Я также не думаю, что для чтения биокосмистов обязательно нужно быть анархистом, историком философии или специалистом по современной философской теории. Я не думаю, что это вообще возможно: быть специалистом по биокосмизму. Специализируясь на биокосмистах, мы неизбежно упустим из виду эффекты ничьей земли, разбой воображения, который сквозит в этих текстах. Если понимать шизофрению как разбой воображения, то современный мир трудно будет считать более шизофреничным, чем Советская Россия в 1920-е годы. Налицо, скорее, некоторый паралич воображения, но никак не разбой. Если проводить аналогию, то воображение сегодня похоже на разбойника, который бросил своё ремесло и пошёл служить царю — пусть и на опасных рубежах, пусть и с жестокостью и рвением — но без настоящего разбоя, который всегда ищет ничьей земли.
Поэтому, возвращаясь к биокосмистам, нужно сказать, что заниматься ими сегодня — значит стать разбойником воображения. Влиться в разбойную шайку, в сбродную дружину. Эту задачу трудно было бы решить в формате университетского академического семинара по биокосмизму (хотя разбойничать можно и в этой среде). Для меня идеальными местами завязывания разбойных узлов являются такие проекты, как PPh | Pop-Philosophy!, Институт ТехноТеологии и подобные. В рамках первого появились «Фрагменты анархо-биокосмистов» и «Лесной пожар» (и многое ждет появления на свет), в рамках второго существует три отделения, которые занимаются анархо-космизмом и разбоем воображения: «Шизотектологический Креаторий», «Второй (Децентрированный) Социотехникум» и «Разбойный Воображариум». Эти проекты предполагают не только собирательство, накопление и инвентаризацию, не только интерпретацию, но в большей степени проблематизацию, фальсификацию и переизобретение анархо-космизма. Интереснее работать с биокосмизмом как с сырым материалом, который нужен ровно настолько, насколько мы можем создать из него что-то новое, как с фрагментами, которые можно пересобрать. Иными словами, в текстах анархо-космистов необходимо разбойничать. Кто может войти в сбродную дружину? Да кто угодно, это вопрос удали. Каковы ставки? Как и в любом разбое, ставки разбоя воображения высоки: доброе имя (которое, скорее всего, будет стерто) и жизнь вечная (которая, скорее всего, будет потеряна). Помню, как я побывал в церкви Николая Чудотворца «Красный звон» в Никольском переулке, в Москве. Я хотел ощутить то пространство, в котором Святогор и компания учредили Свободную Трудовую Церковь. Там на информационном стенде висела распечатка «из интернета» с краткой историей храма, в которой Святогор звался Алексеем. Когда я начал расспрашивать о том, не осталось ли каких-то следов СТЦ, мне довольно раздраженно ответили, что не осталось — и слава Богу, что эти ваши 20-е годы не нужно исследовать, эти обновленцы-раскольники не приведут к спасению души, о котором надлежит думать доброму христианину...
АЖ. А можешь подробнее остановиться на деятельности Свободной Трудовой Церкви? Я узнал про неё около года-полутора назад и изначально не соотносил её с деятельностью биокосмистов. Хотя мне было проще её понять именно как художественный проект. Впрочем, еще тут могут быть и чисто религиозные трактовки. Однажды услышал мнение философа Кети Чухров о том, что космизм — это русский вариант Реформации. И ведь действительно — например, для сообщества музея-библиотеки им. Федорова важна именно религиозная ветвь космизма. И в этом смысле их выступления больше походят на проповеди, нежели чем на привычные для современных интеллектуалов дискуссии. Ну, если не на проповеди, то на что-то близкое к пассионарному политическому активизму. Но уверен, службы Святогора могли бы составить конкуренцию. Ты не мог больше рассказать о религиозном аспекте деятельности биокосмистов и о том, как в качестве философа работаешь с этой частью их наследия?
ЕК. Ох! Здесь много сложных вопросов! Попробуем по порядку. Космизм довольно часто объявляется русской Реформацией. Мне кажется, что это сравнение имеет сильную и слабую стороны. Сильная сторона в том, что космизм тем самым вписывается в историческое движение революционного открытия плана имманенции, в котором, по словам Негри и Хардта, силы неба спускаются на землю, люди объявляют себя хозяевами своей жизни и смерти, становятся творцами истории и т.п. Слабая сторона в том, что это сравнение загоняет нас в таблицу сопоставления, в таблицу сходств и различий с образцом, с европейской Реформацией. В истории христианства есть устойчивый мотив возвращения к изначальному: к простоте раннего христианства, к подвижничеству и мученичеству, к Живому Христу. Реформация движется этим мотивом, движется к изначальному, но при этом возникает нечто совершенно современное: дух капитализма. Космизм также обращается к истокам, но весьма радикально их переосмысливает: когда Николай Федоров противопоставляет историю как факт и историю как проект, он очень радикален, так как утверждает, что никакого истока как образца для подражания не существует. Истоки должны быть переизобретены. В этом пункте он, кстати говоря, довольно резко критикует протестантизм, называя его «религией для несовершеннолетних». Кроме того, космизм всё-таки не исчерпывается одним Федоровым, не исчерпывается только лишь религиозным (христианским) космизмом. Есть, скажем, атеистический космизм Богданова, у него иная генеалогия, он не восходит к философии общего дела, есть иудейский космизм Братьев Гординых, есть Святогор, который энергично противопоставлял свой биокосмизм философии общего дела. Я хочу сказать, что движение космизма очень разношёрстно, оно не исчерпывается федоровским проектом, его связь с религиозными истоками неоднозначна, и сравнение с Реформацией всю эту сложность несколько скрадывает. Но я бы пошёл по пути этого сравнения чуть дальше. Если мы возьмём одну из радикальных форм современной протестантской теологии, теологию мертвого Бога, христианский атеизм Томаса Альтицера, мы увидим один очень важный пункт: отсутствие технического решения проблемы смерти Бога и довольно устойчивый мотив концептуализации самоубийства (Альтицера, например, очень интересует фигура Кириллова, самоубийцы из «Бесов» Достоевского). Самоубийство — важная тема, это своеобразный предел реформационного движения в условиях отсутствия технических решений проблемы смерти Бога: когда мы берём власть над своими жизнями в свои руки, высшим (и наиболее рациональным) её проявлением будет самоубийство. Теперь короткое замыкание: космизм, который столкнулся с той же самой проблемой, выдвинул этическую максиму — подлинное самоубийство возможно только тогда, когда мы бессмертны и когда есть воскрешение. Приведу два примера. В «Аргонавтах Вселенной» Александра Ярославского есть момент, когда главные герои попадают на Луну и обнаруживают, что это кладбище бессмертных, которые решили от своего бессмертия «отдохнуть» — и умереть. В «Стране Анархии» Братьев Гординых этот вопрос решен еще радикальнее: в этом чудесном утопическом мире ещё не изобрели бессмертия, но серьезно работают над этим, хотя есть среди людей Страны Анархии те, кто против изобретения бессмертия, так как они убеждены, что если бы смерти не было, её следовало бы изобрести. В космизме смерть перестает быть тем пределом, с которым мы либо пассивно смиряемся, либо мы с героической решимостью её принимаем, заступая в собственное бытие к смерти, как сказал бы Хайдеггер. Анархо-космизм утверждает: смерть необходимо изобрести, то есть к ней необходимо выработать наиболее техническое — и наиболее свободное отношение. Изобретение смерти — это очень спокойно и весело, это очень разбойно (вспомним Христа, который разбойничал смерть в аду). Мне кажется, что в этом смысл работы с «религиозным аспектом космизма». Мне кажется, это очень важно. В своей замечательной «Дилемме призрака» Квентин Мейясу показал важную проблему: мы не можем просто сбросить со счетов «религиозные чаяния», мы не можем просто стать атеистами и объявить Бога несуществующим. На вызов призрака не отвечает решение «Бога нет». Однако на вызов призрака не отвечает также и «Бог есть». Решение Мейясу: Бога ещё нет (и здесь тоже нет технического аспекта решения). Мне кажется, космизм радикальнее. Во-первых, если Мейясу определяет призрака как того, кто умер ужасной смертью, предполагая тем самым, что есть смерть, которую можно должным образом оплакать и отправить умершего на «тот свет», в сущности, избавившись от него, то космизм утверждает: мы все призраки, так как не существует «нормальной» смерти, смерть невозможно оплакать, смерть необходимо изобрести. Во-вторых, космизм утверждает необходимость технического (то есть фактического) решения проблемы смерти.
Теперь совершим жесткое приземление и скажем пару слов о Свободной Трудовой Церкви. Это история яростного аффективного энтузиазма и его краха, я бы сказал, что это история теологического панка. Святогор, в отличие от Федорова, Богданова, Муравьева, Гординых, — это человек устойчивого теологического аффекта, а не теории. Он из семьи священника, он учился в семинарии, он писал богословские тексты на украинском языке в журнале «Шлях», он написал поэтико-богословский трактат «Революция Духа» — вулканизм, биокосмизм, программные тексты СТЦ — он везде твердит о том, что называет трезвой христианской правдой фактического посюстороннего бессмертия и воскрешения (скорее всего, этот аффект вполне укладывался в траекторию, которую я выше очертил). И СТЦ органично вписывается в эту историю. Там страсть Святогора достигает своего апогея и становится совершенно конкретной работой по обустройству храма как космического корабля, как некоего фактического художественного организма. Думаю, ты прав, считая, что аффективное пламя во время богослужений, поэтических чтений и дискуссий в храме «Красный звон» полыхало очень ярко. Хотя нельзя забывать о том, что со стороны это выглядело довольно странно, и сборища СТЦ нередко описываются как «церковные митинги самого базарного уровня». Всё по панку, короче. Кроме того, такие вот обновленческие церкви довольно жёстко и цинично использовались властями для борьбы с Русской православной церковью, которой, скажем, СТЦ и целый ряд подобных подобных движений противопоставлялись на страницах «Известий ВЦИК». Трудно судить о том, насколько Святогор понимал свою роль «цепного пса», который рычит на политических оппонентов большевиков. Но когда надобность в этих движениях отпала, СТЦ тоже ушла в тень и рассыпалась. Храм опустел, а позже там расположилась электростанция. А Святогор исчез, остался только А.Ф. Агиенко, очень холодные безжизненные тексты которого появляются в 1930-е годы на страницах журнала «Антирелигиозник». В них иногда просвечивает былая аффективность Святогора, но в целом они производят тяжкое впечатление. Впрочем, в «Антирелигиознике» Агиенко не пишет того, что можно было бы истолковать как его отказ от «трезвой правды». Но, так или иначе, это уже записки мертвеца.
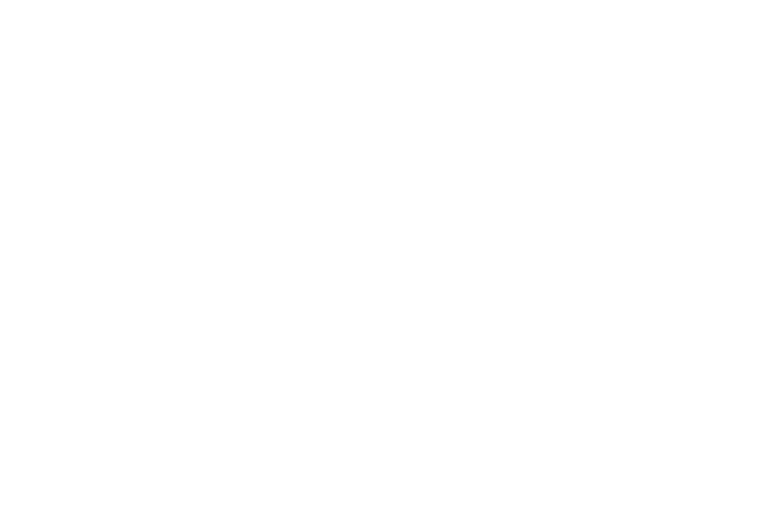
АЖ. Как бы ты охарактеризовал отношения Святогора с литературой? На мой вкус, эта часть его наследия самая трудная для восприятия. Я успел коротко обсудить с некоторыми московскими критиками и литераторами творчество Святогора в этом аспекте, и даже самые радикальные из них не знают, что с этим делать. Осталось не так много «непереведенных» / «странных» отечественных авторов первой трети ХХ века. Почти всё наследие этой бурной эпохи, так или иначе, расшифровано. Например, в случае с поэзией пролеткульта можно говорить о том, что она обладает редким для литературы качеством наивности, арт-брюта, её можно читать как нетривиальную работу по утилизации искусства буржуазной эпохи, изобретение своеобразного реди-мейда наоборот. Или же, если взять концептуальное изобретение Миши Куртова — поэтов-дорвеев, на которых ты ссылаешься во введении, мы тоже вряд ли будем так смущены. Ведь, действительно, современная словесность во многом похожа на их машинный язык... Но случай со Святогором и его коллегами кажется значительно более сложным. Честно признаюсь, «Аргонавты вселенной» Ярославского повергли меня в глубокую тоску. Примерно такое же впечатление осталось после его «Поэмы анабиоза». У Святогора с его вулканизмом кажется лучше всего получаются манифесты намерений, с которыми можно как-то работать сегодня, но сама поэзия ставит в тупик. Начинаешь невольно задумываться, а какую роль пласт литературного творчества играет в общей композиции его наследия? Я понимаю, что уже при жизни отношения Святогора с коллегами по поэтическому цеху были далеки от идеальных. И если так, должны ли мы в принципе пытаться заземлять его на этой территории?
ЕК. В самой середине XIX века, в первом номере «Современника» за 1850 год вышла статья Николая Некрасова «Русские второстепенные поэты», в которой сначала объявляется приговор «стихов нет», потом приводятся примеры, подтверждающие этот вердикт, и потом Некрасов переходит к Тютчеву, которого никто не замечает, хотя он того стоит. Вот эта формула, «второстепенный поэт», но в ещё более уничижительном виде (третьестепенный, или вообще поэт без степени), звучала у меня в голове, когда я читал стихеты Святогора и думал, что с ними можно поделать. В них много чего намешано, и, в первую очередь, в них много вот этой «второстепенности». После Хлебникова и Крученых Святогор выглядит очень бледно (у меня есть подозрение, что у первого Святогор взял свое имя, из «Кургана Святогора», где Хлебников очень мудрено, очень по-шамански говорит о новом языке, о таком хтоническом — вулканическом — словотворчестве, а из космической «сдвигологии» второго многое позаимствовал в своей идее междометий). Но есть у Святогора и что-то такое, какие-то разряды тока, которыми читателя иногда странно дергает. Есть какие-то инопланетные искры. Когда Святогор публично исполнял свои стихеты, над ним смеялись и считали душевнобольным. Сам Святогор прислушивался к этому смеху публики и считал его недостаточным, слишком человеческим, рассказывая о смеющихся собаках и станках на заводах, о румяных машинах, которые, в отличие от человека, могли бы по достоинству высмеять его стихеты. В его текстах — фрагментами — пропрыгивает что-то демоническое, в делезовском смысле какая-то сила прыжка или то, что Делез же называл криком. И это очень странная смесь, смесь чего-то слишком серого, серого до незаметности, и чего-то слишком яркого, яркого до незаметности. Это смесь двух излишков, излишка автоматизма и излишка жизни, это как ожившая машина. И вот это «ярко-серое» вещество Святогора интересно как литературный феномен.
Да, я бы хотел сделать небольшую оговорку: все-таки на литературном поприще у Святогора все было не так уж и плохо, все-таки его стихеты появляются на страницах «Анархии» и в некоторых литературных сборниках вместе с произведениями Малевича, Родченко и, например, Гастева; довольно известный литературный критик Владимир Фриче положительно отзывался о стихетах Святогора. С другой стороны, есть стихи Братьев Гординых, с которыми Святогор был идейно близок. Стихи Гординых тоже смешивают эти планы чудовищной банальности сонета и не менее чудовищной дерзости «Благовеста безумия» (это заголовок огромной поэмы Гординых, которая является просто шизопотоковым месивом, очень странная вещь). То есть я хочу сказать, что Святогор вписывается в литературную традицию, но в такую, о которой просто не очень много известно — вокруг которой нет большой традиции интерпретации, нет привычек языка, как это Святогор называл. Ты как будто открываешь племя со своими мифологией и магией, со своим языком и техникой; все это выглядит как хаос звуков и жестов, но в этом племени нужно некоторое время пожить, чтобы понять, что к чему.
Мне кажется, что самой существенной чертой поэтики биокосмизма, сложной для понимания и интерпретации, является то, что речь в ней вообще не идет о поэзии в привычном для нас понимании — речь в ней не идет о словах. 20-е годы — это время головокружительных экспериментов с тем, что можно было бы назвать имманентизацией поэзии. Суть в том, что объявляется смерть отвлеченного созерцательного искусства и провозглашается необходимость искусства производительного. Это затронуло пролеткульт, Андрея Платонова, например, я воспринимаю как такую огромную мощную фабрику по производству аффектов. В биокосмизме есть своя вариация этой имманентизации, а именно объявление необходимости перевода поэтики в генетику (то же мы находим и у Валериана Муравьева). Святогор утверждает, что его целью является не создание слов, а создание художественных организмов. В анархо-универсализме, из которого вырастает биокосмизм, есть техническое объяснение этого перевода, Аба Гордин увязывает его с логикой насыщения отношений между человеком и техникой, которые кристаллизуются, с одной стороны, в максимальном усложнении технического объекта и бесконечном возрастании его мощности, а с другой — в бесконечном упрощении (свободе) обхождения с этим объектом. Думаю, биокосмисты с воодушевлением отнеслись бы к развитию нейроинтерфейсов, как к первому шагу перевода поэтики в генетику. То есть мне кажется, что биокосмисты вписываются в какую-то странную, еще не написанную историю литературы — историю литературы как биопрограммирования, литературы как биохакинга, литературы как техники (без метафор). У нас нет такой истории, потому что мы продолжаем мыслить литературу как отвлеченное от производства словоплетение. Если же мы проведём интеллектуальный эксперимент, наподобие того, который предлагает Мануэль ДеЛанда в самом начале «Войны в эпоху разумных машин», если мы представим себе разумную машину-историка, которая описывает творческую эволюцию своего вида, то в этой истории, возможно, мы могли бы найти место биокосмической поэтике (карта истории литературы полностью изменилась бы, и, возможно, вся складывалась бы из «поэтов без степени», которые и окажутся теми, кого никто не замечает, хотя они того стоят).
Это смущающее измерение отношений Святогора с литературой открывается тогда, когда мы начинаем работать с его текстами не как с чем-то целостным, но как с фрагментами, криками и прыжками. Но чтобы соединить эти крики в некий марсианский «ряд междометий» как это сам Святогор называл, нам нужна утопия, ничья земля. То есть я продолжаю настаивать на необходимости разбоя воображения.
ЕК. В самой середине XIX века, в первом номере «Современника» за 1850 год вышла статья Николая Некрасова «Русские второстепенные поэты», в которой сначала объявляется приговор «стихов нет», потом приводятся примеры, подтверждающие этот вердикт, и потом Некрасов переходит к Тютчеву, которого никто не замечает, хотя он того стоит. Вот эта формула, «второстепенный поэт», но в ещё более уничижительном виде (третьестепенный, или вообще поэт без степени), звучала у меня в голове, когда я читал стихеты Святогора и думал, что с ними можно поделать. В них много чего намешано, и, в первую очередь, в них много вот этой «второстепенности». После Хлебникова и Крученых Святогор выглядит очень бледно (у меня есть подозрение, что у первого Святогор взял свое имя, из «Кургана Святогора», где Хлебников очень мудрено, очень по-шамански говорит о новом языке, о таком хтоническом — вулканическом — словотворчестве, а из космической «сдвигологии» второго многое позаимствовал в своей идее междометий). Но есть у Святогора и что-то такое, какие-то разряды тока, которыми читателя иногда странно дергает. Есть какие-то инопланетные искры. Когда Святогор публично исполнял свои стихеты, над ним смеялись и считали душевнобольным. Сам Святогор прислушивался к этому смеху публики и считал его недостаточным, слишком человеческим, рассказывая о смеющихся собаках и станках на заводах, о румяных машинах, которые, в отличие от человека, могли бы по достоинству высмеять его стихеты. В его текстах — фрагментами — пропрыгивает что-то демоническое, в делезовском смысле какая-то сила прыжка или то, что Делез же называл криком. И это очень странная смесь, смесь чего-то слишком серого, серого до незаметности, и чего-то слишком яркого, яркого до незаметности. Это смесь двух излишков, излишка автоматизма и излишка жизни, это как ожившая машина. И вот это «ярко-серое» вещество Святогора интересно как литературный феномен.
Да, я бы хотел сделать небольшую оговорку: все-таки на литературном поприще у Святогора все было не так уж и плохо, все-таки его стихеты появляются на страницах «Анархии» и в некоторых литературных сборниках вместе с произведениями Малевича, Родченко и, например, Гастева; довольно известный литературный критик Владимир Фриче положительно отзывался о стихетах Святогора. С другой стороны, есть стихи Братьев Гординых, с которыми Святогор был идейно близок. Стихи Гординых тоже смешивают эти планы чудовищной банальности сонета и не менее чудовищной дерзости «Благовеста безумия» (это заголовок огромной поэмы Гординых, которая является просто шизопотоковым месивом, очень странная вещь). То есть я хочу сказать, что Святогор вписывается в литературную традицию, но в такую, о которой просто не очень много известно — вокруг которой нет большой традиции интерпретации, нет привычек языка, как это Святогор называл. Ты как будто открываешь племя со своими мифологией и магией, со своим языком и техникой; все это выглядит как хаос звуков и жестов, но в этом племени нужно некоторое время пожить, чтобы понять, что к чему.
Мне кажется, что самой существенной чертой поэтики биокосмизма, сложной для понимания и интерпретации, является то, что речь в ней вообще не идет о поэзии в привычном для нас понимании — речь в ней не идет о словах. 20-е годы — это время головокружительных экспериментов с тем, что можно было бы назвать имманентизацией поэзии. Суть в том, что объявляется смерть отвлеченного созерцательного искусства и провозглашается необходимость искусства производительного. Это затронуло пролеткульт, Андрея Платонова, например, я воспринимаю как такую огромную мощную фабрику по производству аффектов. В биокосмизме есть своя вариация этой имманентизации, а именно объявление необходимости перевода поэтики в генетику (то же мы находим и у Валериана Муравьева). Святогор утверждает, что его целью является не создание слов, а создание художественных организмов. В анархо-универсализме, из которого вырастает биокосмизм, есть техническое объяснение этого перевода, Аба Гордин увязывает его с логикой насыщения отношений между человеком и техникой, которые кристаллизуются, с одной стороны, в максимальном усложнении технического объекта и бесконечном возрастании его мощности, а с другой — в бесконечном упрощении (свободе) обхождения с этим объектом. Думаю, биокосмисты с воодушевлением отнеслись бы к развитию нейроинтерфейсов, как к первому шагу перевода поэтики в генетику. То есть мне кажется, что биокосмисты вписываются в какую-то странную, еще не написанную историю литературы — историю литературы как биопрограммирования, литературы как биохакинга, литературы как техники (без метафор). У нас нет такой истории, потому что мы продолжаем мыслить литературу как отвлеченное от производства словоплетение. Если же мы проведём интеллектуальный эксперимент, наподобие того, который предлагает Мануэль ДеЛанда в самом начале «Войны в эпоху разумных машин», если мы представим себе разумную машину-историка, которая описывает творческую эволюцию своего вида, то в этой истории, возможно, мы могли бы найти место биокосмической поэтике (карта истории литературы полностью изменилась бы, и, возможно, вся складывалась бы из «поэтов без степени», которые и окажутся теми, кого никто не замечает, хотя они того стоят).
Это смущающее измерение отношений Святогора с литературой открывается тогда, когда мы начинаем работать с его текстами не как с чем-то целостным, но как с фрагментами, криками и прыжками. Но чтобы соединить эти крики в некий марсианский «ряд междометий» как это сам Святогор называл, нам нужна утопия, ничья земля. То есть я продолжаю настаивать на необходимости разбоя воображения.
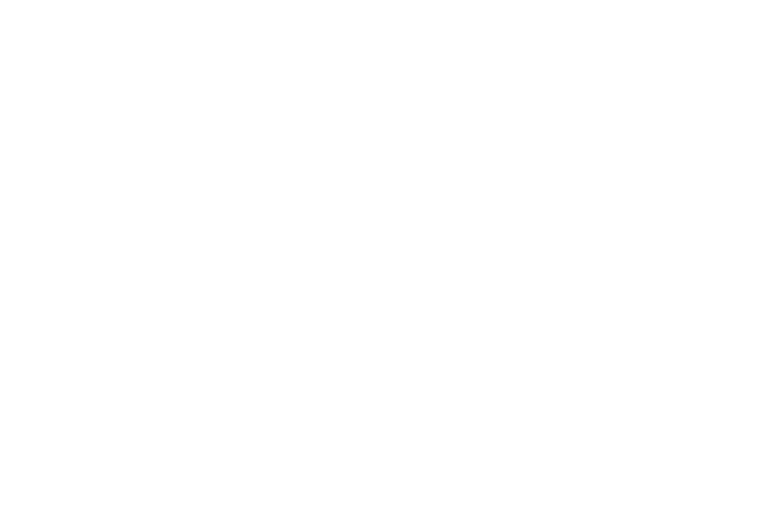
АЖ. Давай поговорим о философской стороне дела. В своём послесловии ты обращаешься к трактовкам биокосмистов, в основном используя язык Делеза. Ты не мог бы пояснить, в чём ты видишь прагматику такого шага? Что нового Делез помогает нам узнать о биокосмистах? Я не являюсь специалистом в его философии и честно признаюсь, некоторые части твоего послесловия для меня выглядят не меньшей загадкой, чем сами тексты Святогора. Возможно, из-за того, что я смотрю со стороны, складывается впечатление, что перевод биокосмистов на язык Делеза имеет самостоятельную ценность. Например, главка, посвященная «тёмному предшественнику», и разбор различия революционного петуха и его крика действительно очень темны. Другой пример. Ты много пишешь о шизофрении (в нашем разговоре она уже возникала), которая вроде бы является решением многих сложностей с изучаемым материалом. Но если мы говорим об искусстве, интерес к безумию довольно явно маркирован романтической эстетикой и отдельными экспериментами модернистов начала ХХ века. И то и другое сегодня существует в виде чётко очерченной ниши со своими стилистическими особенностями (зачастую воспроизводимыми сознательно для достижения определенного эстетического эффекта) и кругом коллекционеров-ценителей, питающих нишу финансово. Ничего большего шизофрения сегодня на территории искусства не сообщает. Понятно, что в философии Делеза она играет особую, в том числе политическую роль. Но ответ на вопрос, что стоит за шизофренией в современной ситуации или же постреволюционных 20-х, ещё требует пояснений.
ЕК. «Фрагменты анархо-биокосмистов» — это, скорее, не послесловие, а «прапредисловие» к Святогору. Я написал его ещё до того, как ознакомился с большей частью текстов Святогора, Гординых, Ярославского, до того, как собралась и вышла в свет книга «Святогор», во время подготовки которой я дополнил это «прапредисловие» некоторыми наиболее яркими фрагментами святогоровских текстов и поместил его в конец, но общей концепции не менял. То есть нужно признать, модель чтения текстов биокосмистов и концептуальное ядро, которое из них было извлечено, сложились с некоторым упреждением, с забеганием вперед. «Фрагменты» были попыткой экспериментального письма «по мотивам», «по следам» — поверх биокосмистских текстов — в условиях полного интерпретационного вакуума, в котором о биокосмизме не звучало ни слова или раздавалась лишь неуверенная речь о «трудностях перевода». В этих условиях Делез не столько давал готовый словарь, язык, на котором можно было бы о биокосмизме говорить (у Делеза нет такого словаря, есть лишь призыв творить концепты), сколько играл роль проводника, Анубиса, который ведёт тебя в загробный мир. Знаешь, когда я писал диссертацию о египетской мифологии, я познакомился с интересной версией того, почему эта странная пустынная собака, которую обычно путают с шакалом, стала животным проводника в загробный мир, Анубиса. Потому что эта собака ведёт путника в пустыню, отбегая от него на некоторое расстояние, останавливаясь, оглядываясь, убеждаясь, что он идет за ней следом, будто спрашивая: «Ты еще идешь за мной?» — и снова отбегая дальше в пустыню. В текстах Святогора для меня такой пустынной собакой был Делез (хотя и не он один: там были и Бергсон, и Симондон, и Лакан, и Мейясу, и другие). Я всего лишь следовал двум страстям Делеза: первая — это страсть к открытию «малых» текстов, «малой литературы», миноритарных концептуальных ходов — или переоткрытию «больших» текстов как «малых»; вторая — это страсть к изобретению, согласно которой мы не можем прочесть и понять какой-то текст, предварительно не поработав над его (пере)изобретением. Роли Делеза как пустынной собаки, которая, оборачиваясь по мере продвижения в святогоровские тексты, спрашивала меня: «ты все еще изобретателен? можешь ли ты двинуться еще дальше?» — было достаточно.
Впрочем, две детали, два инструмента из делезовского tool-box'а также пригодились: это его концепты крика и темного предшественника. В лекциях о Лейбнице 80-х годов Делез говорит, что если вам есть о чём кричать, вы уже почти философ. Святогору явно было о чем кричать, он «почти» философ, гипо-философ чистого крика. Маркер крика был тем инструментом, с помощью которого стало возможным выявить гипо-концептуальные «фрагменты», те самые неощутимо яркие точки святогоровских текстов, о которых мы выше говорили. Однако оставался вопрос, как их сшить, как собрать из этих точек какую-то траекторию. Здесь «Фрагменты анархо-биокосмистов» вышли в пустыню экспериментаторства, и кусок о тёмном предшественнике, наверное, самый экспериментальный. Я сейчас перейду на метафорический уровень, потом я вернусь. Для Делеза тёмный предшественник, или, как это сегодня принято называть, ступенчатый лидер — это метафора того, что он называет односторонним различением, односторонней дистинкцией. Для него самого это тоже весьма тёмная область, его письмо, касающееся этой проблемы, становится, как правило, загадочным и странным. Одностороннее различение он описывает, опираясь на метафорику эмбриологии, говоря о физике молнии, говоря загадочные вещи про то, как «дно поднимается на поверхность» и т.д. Остановимся на физике молнии, тёмный предшественник приходит оттуда. С точки зрения обычного наблюдения, световой разряд молнии направляется от грозового облака к земле, молния ударяет в землю. Однако использование более тонких, чем человеческий глаз, средств наблюдения показало, что видимому разряду предшествует ступенчатый термоионизированный канал с высокой проводимостью — тёмный предшественник, который направляется от облака к земле, тогда как главный разряд — видимая молния — ударяет, наоборот, снизу вверх. Делез использует этот образ для того, чтобы показать, как работает одностороннее различение — различно различное, как он его называет. Для чего ему это нужно? Для того чтобы помыслить различие независимо от тождества, по ту сторону представления — различие в-себе, чистое различие. В итоге Делез даёт нам более тонкую оптику (по аналогии с теми оптическими инструментами, которые позволили физикам пойти против органов чувств и обнаружить, что разряд молнии бьёт снизу вверх).
Вернемся к Святогору. Разумеется, у меня не было намерения сделать из Святогора делезианца или протоделезианца, который, дескать, оказался предтечей, предвосхитил, опередил свое время и т.д. Я просто подошёл к нему с оптикой, которая позволяет по ту сторону каких бы то ни было отождествлений видеть более тонкие различия, видеть то, что молнии святогоровских криков направлены в сторону, противоположную той, которая кажется очевидной. Простой пример: инстинкт бессмертия. Проще всего помыслить его в контексте сохранения: все мы инстинктивно хотим длиться вечно, сохранять свое Я в бесконечности бессмертия. Воплощением такой логики является современная крионика, в которой, кстати, в свёрнутом виде происходит не что иное, как заморозка существующего социального порядка, существующих порядков собственности — об этом почти весь киберпанк на тему крионики. Но Святогор говорит о другом: инстинкт бессмертия — это не сохранение, это взлом — и инкорпорированного в данное тело Я, и самого тела, и существующего социального порядка. Взлом через тот самый крик петуха, через междометия и интерпланетарные ряды, через «художественные организмы». Это не крионика, но, напротив, плавление. Тут возникает множество интересных проблем, например, проблема анархо-космической телесности, вопрос о биокосмической технике и поэтике, вопрос об общительности, общем деле, которое есть чистая анархия и т.п. Но я бы сейчас поставил вопрос о плавлении на самом теле Святогора. Кто такой или что такое Святогор? Это воплощенный крик человека по имени Александр Федорович Агиенко. Агиенко отличается от Святогора. Но Святогор, как инопланетный (интерпланетарный) захватчик тела Агиенко, взламывает это тело, взвулканивает его и отказывается себя от него отличать. Если хочешь, мы можем назвать это шизофренией — в прямом смысле этого слова, в смысле расщепления, схизмы. Святогор — это расщепление Агиенко, несущее в себе силу одностороннего различения. У нас в воображении возникает целая толпа, целая разбойничья шайка, телесное месиво: Агиенко-1, Святогор (и параллельно с ним существующий Агиенко-2, который подписывает этим именем тексты, помещенные в БИОкосмисте вместе с текстами Святогора), Святогор-СТЦ, Пересвет-Пересветов, Агиенко-3 (это уже нормализованный, остановленный в своем молниеносном движении шизофреник, «ублюдок», как называют это состояние Делез и Гваттари; хотя у меня есть робкая надежда на «стол Святогора», на то, что Агиенко, печатавший дежурную воинственно-атеистическую ерунду в «Антирелигиознике», продолжал расщепляться и писать святогоровское в стол). Если говорить о постреволюционной ситуации 20-х годов, то нужно сказать, что таких «космических шизофреников» тогда было немало. Вспомним, что Александр Богданов переводил «Инженера Мэнни» с марсианского на русский, говорил об участии марсиан в революционных событиях и выдвинул радикальнейшую идею соматического коммунизма, осуществляемого посредством общественного кровообращения. Братья Гордины — также весьма схизматичны. Они, например, подписывали тексты, написанные ими двумя, одним никнеймом «Товарищ Гордин», и у них было ещё с десяток имен. Они расщеплялись на отдельных Абу и Вольфа, расщеплялись внутри этих имён-тел, изобретали свои космические языки, занимались практическим «плавлением тела» — через своеобразный диетологический биохакинг. Из менее известных примеров можно назвать Вивиана Итина — сибирского писателя, революционера, путешественника, исследователя Арктики. В его повести «Страна Гонгури» главный герой, революционер по имени Гелий, обнаруживает в состоянии гипноза, что он никакой не Гелий, а инопланетное существо по имени Риэль — и именно Риэль с его памятью об иных мирах оказывается революционным субъектом. После выхода из гипноза тело главного героя, находящееся в тюрьме, долго не может разобраться в том, что же оно такое — Гелий или Риэль, и именует себя с расщепляющим удвоением Гелий-Риэль. Картины Первой мировой войны, описанные с точки зрения этого существа, производят очень сильное впечатление — эти картины тоже почти инопланетны.
Что стояло за этой постреволюционной коллективной — и радикально-коллективистской — шизофренией? Если говорить философским языком, то, как мне кажется, это и была сила одностороннего различения, толкающая к ускользанию от Тождественного, от Представления, от Образа / Образца (от Старого Мира). Что из этого получилось? «Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней». Что это нам сегодня даёт? Ясно, что не стоит воспринимать 10-20-е годы в России, или 60-70-е годы во Франции, или какие угодно ещё эпохи и события как образец для подражания. У ускользания от Образца нет образца.
Да, я с тобой солидарен относительно вопроса о необходимости экспериментального продолжения анархо-биокосмистского проекта. Собственно, в теоретическом плане я и пытаюсь это делать. В моих планах сейчас поиск, публикация и теоретический апгрейд (через предисловия, примечания и послесловия) текстов анархо-космистов (сейчас мы с Common Place готовим к печати утопии Братьев Гординых), мне ещё очень хочется до конца года написать большой историко-философский текст «Анархо-космизм», про всю эту шайку разбойников воображения. Кроме того, вызревает и «собственный» теоретический проект, в котором анархо-космисты выступят как союзники и как те самые «малые» авторы, но ими дело не ограничится, конечно. А вот как биокосмизм продолжить практически — сложный вопрос. Мне кажется, есть открытые сейчас возможности в искусстве (можно попробовать анархо-биокосмистский панк, например), в педагогике (Гордины были интересными педагогами-практиками), в программировании, геймификации и т.д. Политическое продолжение — самый сложный вопрос, мне кажется, ответ на него даётся в самых разных направлениях техно-анархизма, биохакинга, «крафтового космизма» и т.п. Вероятно, главной чертой этого политического продолжения должно быть что-то вроде «радикального оптимизма», который так хорошо описывается Дэвидом Гребером. Я бы даже сказал — «террористического оптимизма».
ЕК. «Фрагменты анархо-биокосмистов» — это, скорее, не послесловие, а «прапредисловие» к Святогору. Я написал его ещё до того, как ознакомился с большей частью текстов Святогора, Гординых, Ярославского, до того, как собралась и вышла в свет книга «Святогор», во время подготовки которой я дополнил это «прапредисловие» некоторыми наиболее яркими фрагментами святогоровских текстов и поместил его в конец, но общей концепции не менял. То есть нужно признать, модель чтения текстов биокосмистов и концептуальное ядро, которое из них было извлечено, сложились с некоторым упреждением, с забеганием вперед. «Фрагменты» были попыткой экспериментального письма «по мотивам», «по следам» — поверх биокосмистских текстов — в условиях полного интерпретационного вакуума, в котором о биокосмизме не звучало ни слова или раздавалась лишь неуверенная речь о «трудностях перевода». В этих условиях Делез не столько давал готовый словарь, язык, на котором можно было бы о биокосмизме говорить (у Делеза нет такого словаря, есть лишь призыв творить концепты), сколько играл роль проводника, Анубиса, который ведёт тебя в загробный мир. Знаешь, когда я писал диссертацию о египетской мифологии, я познакомился с интересной версией того, почему эта странная пустынная собака, которую обычно путают с шакалом, стала животным проводника в загробный мир, Анубиса. Потому что эта собака ведёт путника в пустыню, отбегая от него на некоторое расстояние, останавливаясь, оглядываясь, убеждаясь, что он идет за ней следом, будто спрашивая: «Ты еще идешь за мной?» — и снова отбегая дальше в пустыню. В текстах Святогора для меня такой пустынной собакой был Делез (хотя и не он один: там были и Бергсон, и Симондон, и Лакан, и Мейясу, и другие). Я всего лишь следовал двум страстям Делеза: первая — это страсть к открытию «малых» текстов, «малой литературы», миноритарных концептуальных ходов — или переоткрытию «больших» текстов как «малых»; вторая — это страсть к изобретению, согласно которой мы не можем прочесть и понять какой-то текст, предварительно не поработав над его (пере)изобретением. Роли Делеза как пустынной собаки, которая, оборачиваясь по мере продвижения в святогоровские тексты, спрашивала меня: «ты все еще изобретателен? можешь ли ты двинуться еще дальше?» — было достаточно.
Впрочем, две детали, два инструмента из делезовского tool-box'а также пригодились: это его концепты крика и темного предшественника. В лекциях о Лейбнице 80-х годов Делез говорит, что если вам есть о чём кричать, вы уже почти философ. Святогору явно было о чем кричать, он «почти» философ, гипо-философ чистого крика. Маркер крика был тем инструментом, с помощью которого стало возможным выявить гипо-концептуальные «фрагменты», те самые неощутимо яркие точки святогоровских текстов, о которых мы выше говорили. Однако оставался вопрос, как их сшить, как собрать из этих точек какую-то траекторию. Здесь «Фрагменты анархо-биокосмистов» вышли в пустыню экспериментаторства, и кусок о тёмном предшественнике, наверное, самый экспериментальный. Я сейчас перейду на метафорический уровень, потом я вернусь. Для Делеза тёмный предшественник, или, как это сегодня принято называть, ступенчатый лидер — это метафора того, что он называет односторонним различением, односторонней дистинкцией. Для него самого это тоже весьма тёмная область, его письмо, касающееся этой проблемы, становится, как правило, загадочным и странным. Одностороннее различение он описывает, опираясь на метафорику эмбриологии, говоря о физике молнии, говоря загадочные вещи про то, как «дно поднимается на поверхность» и т.д. Остановимся на физике молнии, тёмный предшественник приходит оттуда. С точки зрения обычного наблюдения, световой разряд молнии направляется от грозового облака к земле, молния ударяет в землю. Однако использование более тонких, чем человеческий глаз, средств наблюдения показало, что видимому разряду предшествует ступенчатый термоионизированный канал с высокой проводимостью — тёмный предшественник, который направляется от облака к земле, тогда как главный разряд — видимая молния — ударяет, наоборот, снизу вверх. Делез использует этот образ для того, чтобы показать, как работает одностороннее различение — различно различное, как он его называет. Для чего ему это нужно? Для того чтобы помыслить различие независимо от тождества, по ту сторону представления — различие в-себе, чистое различие. В итоге Делез даёт нам более тонкую оптику (по аналогии с теми оптическими инструментами, которые позволили физикам пойти против органов чувств и обнаружить, что разряд молнии бьёт снизу вверх).
Вернемся к Святогору. Разумеется, у меня не было намерения сделать из Святогора делезианца или протоделезианца, который, дескать, оказался предтечей, предвосхитил, опередил свое время и т.д. Я просто подошёл к нему с оптикой, которая позволяет по ту сторону каких бы то ни было отождествлений видеть более тонкие различия, видеть то, что молнии святогоровских криков направлены в сторону, противоположную той, которая кажется очевидной. Простой пример: инстинкт бессмертия. Проще всего помыслить его в контексте сохранения: все мы инстинктивно хотим длиться вечно, сохранять свое Я в бесконечности бессмертия. Воплощением такой логики является современная крионика, в которой, кстати, в свёрнутом виде происходит не что иное, как заморозка существующего социального порядка, существующих порядков собственности — об этом почти весь киберпанк на тему крионики. Но Святогор говорит о другом: инстинкт бессмертия — это не сохранение, это взлом — и инкорпорированного в данное тело Я, и самого тела, и существующего социального порядка. Взлом через тот самый крик петуха, через междометия и интерпланетарные ряды, через «художественные организмы». Это не крионика, но, напротив, плавление. Тут возникает множество интересных проблем, например, проблема анархо-космической телесности, вопрос о биокосмической технике и поэтике, вопрос об общительности, общем деле, которое есть чистая анархия и т.п. Но я бы сейчас поставил вопрос о плавлении на самом теле Святогора. Кто такой или что такое Святогор? Это воплощенный крик человека по имени Александр Федорович Агиенко. Агиенко отличается от Святогора. Но Святогор, как инопланетный (интерпланетарный) захватчик тела Агиенко, взламывает это тело, взвулканивает его и отказывается себя от него отличать. Если хочешь, мы можем назвать это шизофренией — в прямом смысле этого слова, в смысле расщепления, схизмы. Святогор — это расщепление Агиенко, несущее в себе силу одностороннего различения. У нас в воображении возникает целая толпа, целая разбойничья шайка, телесное месиво: Агиенко-1, Святогор (и параллельно с ним существующий Агиенко-2, который подписывает этим именем тексты, помещенные в БИОкосмисте вместе с текстами Святогора), Святогор-СТЦ, Пересвет-Пересветов, Агиенко-3 (это уже нормализованный, остановленный в своем молниеносном движении шизофреник, «ублюдок», как называют это состояние Делез и Гваттари; хотя у меня есть робкая надежда на «стол Святогора», на то, что Агиенко, печатавший дежурную воинственно-атеистическую ерунду в «Антирелигиознике», продолжал расщепляться и писать святогоровское в стол). Если говорить о постреволюционной ситуации 20-х годов, то нужно сказать, что таких «космических шизофреников» тогда было немало. Вспомним, что Александр Богданов переводил «Инженера Мэнни» с марсианского на русский, говорил об участии марсиан в революционных событиях и выдвинул радикальнейшую идею соматического коммунизма, осуществляемого посредством общественного кровообращения. Братья Гордины — также весьма схизматичны. Они, например, подписывали тексты, написанные ими двумя, одним никнеймом «Товарищ Гордин», и у них было ещё с десяток имен. Они расщеплялись на отдельных Абу и Вольфа, расщеплялись внутри этих имён-тел, изобретали свои космические языки, занимались практическим «плавлением тела» — через своеобразный диетологический биохакинг. Из менее известных примеров можно назвать Вивиана Итина — сибирского писателя, революционера, путешественника, исследователя Арктики. В его повести «Страна Гонгури» главный герой, революционер по имени Гелий, обнаруживает в состоянии гипноза, что он никакой не Гелий, а инопланетное существо по имени Риэль — и именно Риэль с его памятью об иных мирах оказывается революционным субъектом. После выхода из гипноза тело главного героя, находящееся в тюрьме, долго не может разобраться в том, что же оно такое — Гелий или Риэль, и именует себя с расщепляющим удвоением Гелий-Риэль. Картины Первой мировой войны, описанные с точки зрения этого существа, производят очень сильное впечатление — эти картины тоже почти инопланетны.
Что стояло за этой постреволюционной коллективной — и радикально-коллективистской — шизофренией? Если говорить философским языком, то, как мне кажется, это и была сила одностороннего различения, толкающая к ускользанию от Тождественного, от Представления, от Образа / Образца (от Старого Мира). Что из этого получилось? «Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней». Что это нам сегодня даёт? Ясно, что не стоит воспринимать 10-20-е годы в России, или 60-70-е годы во Франции, или какие угодно ещё эпохи и события как образец для подражания. У ускользания от Образца нет образца.
Да, я с тобой солидарен относительно вопроса о необходимости экспериментального продолжения анархо-биокосмистского проекта. Собственно, в теоретическом плане я и пытаюсь это делать. В моих планах сейчас поиск, публикация и теоретический апгрейд (через предисловия, примечания и послесловия) текстов анархо-космистов (сейчас мы с Common Place готовим к печати утопии Братьев Гординых), мне ещё очень хочется до конца года написать большой историко-философский текст «Анархо-космизм», про всю эту шайку разбойников воображения. Кроме того, вызревает и «собственный» теоретический проект, в котором анархо-космисты выступят как союзники и как те самые «малые» авторы, но ими дело не ограничится, конечно. А вот как биокосмизм продолжить практически — сложный вопрос. Мне кажется, есть открытые сейчас возможности в искусстве (можно попробовать анархо-биокосмистский панк, например), в педагогике (Гордины были интересными педагогами-практиками), в программировании, геймификации и т.д. Политическое продолжение — самый сложный вопрос, мне кажется, ответ на него даётся в самых разных направлениях техно-анархизма, биохакинга, «крафтового космизма» и т.п. Вероятно, главной чертой этого политического продолжения должно быть что-то вроде «радикального оптимизма», который так хорошо описывается Дэвидом Гребером. Я бы даже сказал — «террористического оптимизма».
вас может заинтересовать
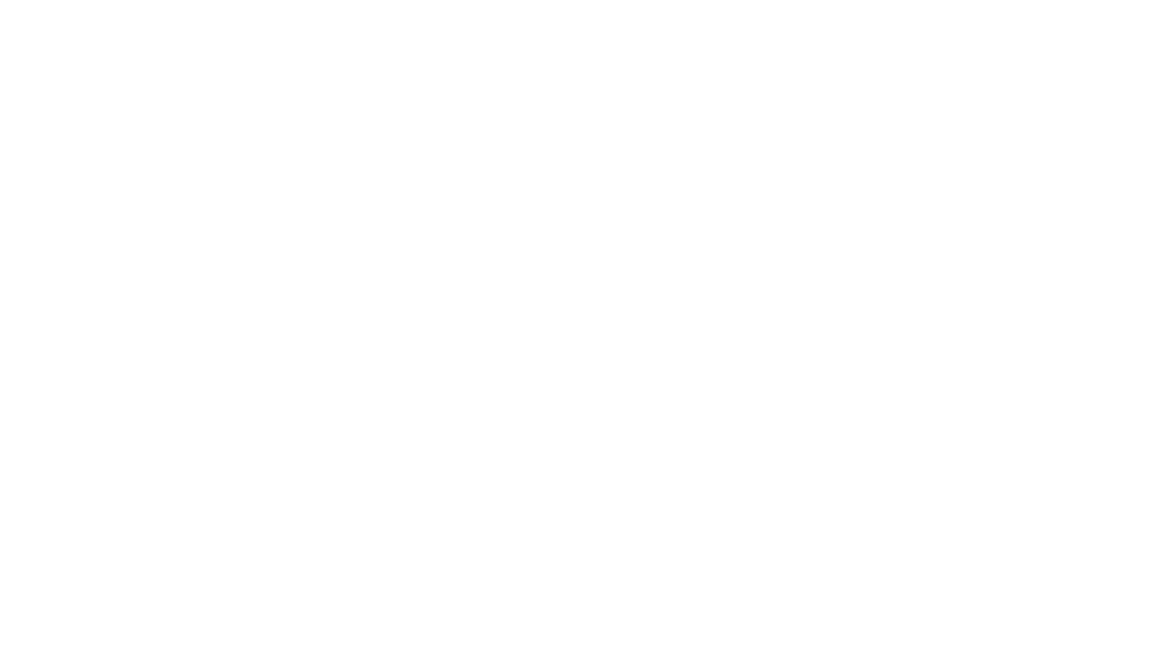
Разбой воображения
Беседа художника Арсения Жиляева и философа, историка анархистского движения 1910-1920-х годов Евгения Кучинова, поводом для которой послужил вышедший в 2017 году в издательстве Common Place сборник текстов поэта и идеолога анархизма-биокосмизма Святогора.
Арсений Жиляев. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
Евгений Кучинов. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
АЖ. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
ЕК. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
Евгений Кучинов. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
АЖ. Расскажи об истории своего знакомства со Святогором и биокосмизмом в целом. Была ли это встреча с поэтом или политическим активистом-анархистом, или, может быть, философом? В чем был твой интерес как исследователя и читателя этих довольно редких текстов? Как мне кажется, в России никто биокосмистами до тебя не занимался. Вспоминаются только небольшая публикация их текстов в сборнике модернистской поэзии в начале 2000-х гг. и лекция исследовательницы Марины Симаковой в рамках презентации альманаха «Транслит». Правда, была еще западная история. Текст «Наши утверждения» был переведён на английский в 2015-м году. Он вышел в рамках программы e-flux supercommunity и вписывался в общую космистскую рамку журнала. После была публикация уже в русскоязычном сборнике под редакцией Бориса Гройса, которую выпустил Ad Marginem. Кстати, она же должна войти в англоязычную версию той же подборки в издательстве MIT. Возможно, после неё появится академический интерес и новые публикации на западе.
ЕК. Справедливости ради нужно отметить, что анархо-биокосмизмом (или, более широко, анархо-космизмом) «до меня» занималось чуть больше людей, чем кажется на первый взгляд. Да, были разрозненные публикации и не слишком подробные комментарии к текстам биокосмистов на страницах антологий поэзии и философии ХХ века, но были и довольно цельные и детальные исследования — есть диссертация Амалии Аролович «Анархизм-универсализм в контексте русской "космической парадигмы" начала XX века», защищенная в 2005 году. Еще раньше, где-то на рубеже 1990-2000-х годов, анархо-космизмом занимались, собственно, исследователи русского анархизма. На эту тему, причем стремясь придать ей максимально современное звучание, несколько замечательных статей написал Вячеслав Ященко, обнаруживший «много общего» в философии общего дела Н.Ф. Федорова и анархизме М.А. Бакунина. Тексты анархо-космистов публиковались как в сборнике «Анархисты. Документы и материалы» (1998), так и в космистской антологии «Н.Ф. Федоров: pro et contra» (2008), кроме того, в сети довольно давно гуляет doc. всех 4-х выпусков журнала БИОкосмист, относительно недавно были переизданы «Аргонавты Вселенной» Александра Ярославского, за последние годы появилось довольно много публикаций об анархо-космизме на самых разных левых интернет-площадках. И так далее. «Западная история» тоже натыкалась на анархо-космистов как в антологиях (например, еще в 1989 году Боб Блэк и Адам Парфрей включили в свой сборник Rants & Incendiary Tracts текст Братьев Гординых), так и в исследованиях, посвященных космизму, советским утопиям и сайнсфикшн. Наконец, не так давно о биокосмизме, правда, относя к нему Троцкого и Платонова, сосредотачиваясь только на этих двух фигурах, высказался Славой Жижек.
Но всё это не меняет того общего ощущения, которое ты выразил в своём вопросе: особого интереса к анархо-космизму пока, наверное, нет. Мне кажется, это связано с тем, что перед текстами анархо-космистов мы испытываем смущение и растерянность: совершенно непонятно, что это вообще такое, как с ними работать, что с ними можно поделать. Эти тексты плохо укладываются в классификации и плохо укладываются в голове; кроме того, в них сочетаются некая крикливость и сырость необработанной материи, стихии, и часто возникает соблазн описать это сочетание словами Достоевского из «Дневника писателя»: «на грош амуниции, а на рубль амбиции». И вот: эти куски клокочущего безумия лежат по антологиям и сборникам текстов, сверкают, переливаются всеми оттенками шизофрении — и совершенно неясно, что с ними делать. Этим-то они меня и заинтересовали. Этот интерес не тянет на большую «историю знакомства», ему всего года два. Перед тем, как обратиться к анархо-космизму, я довольно внимательно исследовал федоровский космизм и очень любил Александра Богданова (эти исследования и любовь продолжаются и сейчас), последнее время в космизме и тектологии меня занимал вопрос о технике. На этом фоне я наталкивался на тексты биокосмистов, но проходил их по касательной. Понадобилось погружение в киберпанк, философию техники, постструктурализм и современную спекулятивистскую мысль, в классический и современный анархизм, понадобилось вовлечение в попытки самостоятельного философского и художественного изобретательства, чтобы, наконец, тексты биокосмистов заиграли. Это произошло позапрошлым летом, в Нижнем Новгороде, в душном переполненном автобусе, в котором мы с братом читали «Наши утверждения» и, переглядываясь, говорили друг другу: «Ничего себе!!! Это то, что надо!!!». В первую очередь нас очень вдохновило само название «анархо-космизм», которое само по себе прекрасно, и, даже если за ним не стояло бы каких-то заслуживающих внимания текстов, их стоило бы написать. Из этого «ничего себе!» появились «Фрагменты анархо-биокосмистов», «Муравьи и космос», «Лесной пожар» и совсем недавно — «Святогор».
Литературный журнал «Носорог» основан в 2014 году литераторами Катей Морозовой и Игорем Гулиным, в 2015 году к редакции присоединился прозаик Станислав Снытко. «Носорог» публикует прозу, поэзию и философию, но принципиально лишен критического и теоретического блоков, оставляя читателя наедине с текстами и образами. Каждый номер составлен по коллажному принципу и совмещает разные стили и формы, слова и изображения, не собирающиеся в единое высказывание, но удерживающие напряжение.
Книжное издательство «Носорог», основанное в 2018 году, стало продолжением и следствием журнальной деятельности. Издательство работает преимущественно с крупными прозаическими форматами, публикация которых в журнале обычно растягивалась на несколько номеров. В фокусе издательства — как современная литература, так и явления прошлого, по каким-то причинам ещё не нашедшие доступ к русскоязычному читателю.
В фокусе издательского интереса с самого начала находились культурные практики и тексты, не подпадающие под традиционные жанровые классификации. Новое чаще всего рождается на краю уже известного, поэтому главным направлением нашего издательского поиска стало создание книг, пока еще не попавших на определенную тематическую полку в библиотеке или книжном магазине.
Запустившись как философский проект, издательство впервые выпустило на русском языке несколько классических текстов ХХ века: «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, «Массу и власть» Элиаса Канетти, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, «Кино» Жиля Делёза, «Московский дневник» Вальтера Беньямина, «S/Z» и «Camera lucida» Ролана Барта.
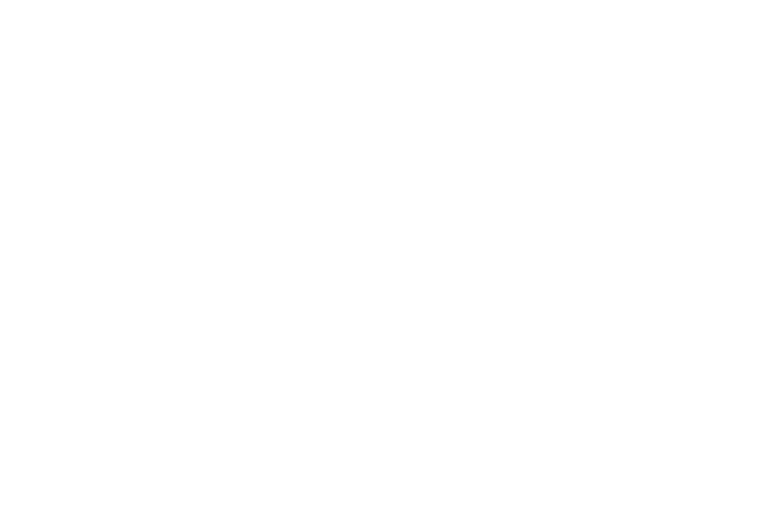
АЖ. Похоже, что для истории биокосмистов главным образом сохранили исследователи анархизма. Остальное носит скорее факультативный характер вроде заметок к проекту Федорова. Но значит ли это, что для чтения биокосмистов необходимо быть радикально левым или же пройти схожую с тобой довольно сложную интеллектуальную траекторию? Согласись, выглядит так, что речь идет о чем-то узко профессиональном, требующем серьёзной подготовки. Или же эти тексты Святогора должны резонировать именно в силу своей странности, «шизофреничности»?. Если второе, то в чём ты видишь её ценность? Ведь кажется, что идея работать с «шизофренией» довольно противоречивая. С одной стороны, она вроде бы сопротивляется любой фиксации, опредмечиванию и пр. С другой, есть ощущение, что современный мир гораздо ближе к шизофреническому, чем это было в начале или в середине 20-го века.
ЕК. Исследователи анархизма постоянно ведут собирательскую работу по поиску, оцифровке и публикации различных диковинок из истории анархического движения, это правда. Но в отношении биокосмизма найти и сохранить — это, как мне кажется, не самое сложное и не самое важное. Важно каким-то образом соотнести анархо-биокосмизм с современностью, с современной теорией, научной фантастикой, с современными политическими чаяниями. Ключевым является вопрос: что мы можем сделать с биокосмизмом сегодня? И здесь, действительно, настоятельно звучат твои вопросы. Мне трудно судить о том, что необходимо для чтения анархо-космистов. Ясно, что одного лишь собирательского интереса недостаточно, он даёт нам лишь горстки остывшего пепла, имеющие значение только для профессионалов узкой специализации, этот интерес не даёт огня. Я также не думаю, что для чтения биокосмистов обязательно нужно быть анархистом, историком философии или специалистом по современной философской теории. Я не думаю, что это вообще возможно: быть специалистом по биокосмизму. Специализируясь на биокосмистах, мы неизбежно упустим из виду эффекты ничьей земли, разбой воображения, который сквозит в этих текстах. Если понимать шизофрению как разбой воображения, то современный мир трудно будет считать более шизофреничным, чем Советская Россия в 1920-е годы. Налицо, скорее, некоторый паралич воображения, но никак не разбой. Если проводить аналогию, то воображение сегодня похоже на разбойника, который бросил своё ремесло и пошёл служить царю — пусть и на опасных рубежах, пусть и с жестокостью и рвением — но без настоящего разбоя, который всегда ищет ничьей земли.
Поэтому, возвращаясь к биокосмистам, нужно сказать, что заниматься ими сегодня — значит стать разбойником воображения. Влиться в разбойную шайку, в сбродную дружину. Эту задачу трудно было бы решить в формате университетского академического семинара по биокосмизму (хотя разбойничать можно и в этой среде). Для меня идеальными местами завязывания разбойных узлов являются такие проекты, как PPh | Pop-Philosophy!, Институт ТехноТеологии и подобные. В рамках первого появились «Фрагменты анархо-биокосмистов» и «Лесной пожар» (и многое ждет появления на свет), в рамках второго существует три отделения, которые занимаются анархо-космизмом и разбоем воображения: «Шизотектологический Креаторий», «Второй (Децентрированный) Социотехникум» и «Разбойный Воображариум». Эти проекты предполагают не только собирательство, накопление и инвентаризацию, не только интерпретацию, но в большей степени проблематизацию, фальсификацию и переизобретение анархо-космизма. Интереснее работать с биокосмизмом как с сырым материалом, который нужен ровно настолько, насколько мы можем создать из него что-то новое, как с фрагментами, которые можно пересобрать. Иными словами, в текстах анархо-космистов необходимо разбойничать. Кто может войти в сбродную дружину? Да кто угодно, это вопрос удали. Каковы ставки? Как и в любом разбое, ставки разбоя воображения высоки: доброе имя (которое, скорее всего, будет стерто) и жизнь вечная (которая, скорее всего, будет потеряна). Помню, как я побывал в церкви Николая Чудотворца «Красный звон» в Никольском переулке, в Москве. Я хотел ощутить то пространство, в котором Святогор и компания учредили Свободную Трудовую Церковь. Там на информационном стенде висела распечатка «из интернета» с краткой историей храма, в которой Святогор звался Алексеем. Когда я начал расспрашивать о том, не осталось ли каких-то следов СТЦ, мне довольно раздраженно ответили, что не осталось — и слава Богу, что эти ваши 20-е годы не нужно исследовать, эти обновленцы-раскольники не приведут к спасению души, о котором надлежит думать доброму христианину...
АЖ. А можешь подробнее остановиться на деятельности Свободной Трудовой Церкви? Я узнал про неё около года-полутора назад и изначально не соотносил её с деятельностью биокосмистов. Хотя мне было проще её понять именно как художественный проект. Впрочем, еще тут могут быть и чисто религиозные трактовки. Однажды услышал мнение философа Кети Чухров о том, что космизм — это русский вариант Реформации. И ведь действительно — например, для сообщества музея-библиотеки им. Федорова важна именно религиозная ветвь космизма. И в этом смысле их выступления больше походят на проповеди, нежели чем на привычные для современных интеллектуалов дискуссии. Ну, если не на проповеди, то на что-то близкое к пассионарному политическому активизму. Но уверен, службы Святогора могли бы составить конкуренцию. Ты не мог больше рассказать о религиозном аспекте деятельности биокосмистов и о том, как в качестве философа работаешь с этой частью их наследия?
ЕК. Ох! Здесь много сложных вопросов! Попробуем по порядку. Космизм довольно часто объявляется русской Реформацией. Мне кажется, что это сравнение имеет сильную и слабую стороны. Сильная сторона в том, что космизм тем самым вписывается в историческое движение революционного открытия плана имманенции, в котором, по словам Негри и Хардта, силы неба спускаются на землю, люди объявляют себя хозяевами своей жизни и смерти, становятся творцами истории и т.п. Слабая сторона в том, что это сравнение загоняет нас в таблицу сопоставления, в таблицу сходств и различий с образцом, с европейской Реформацией. В истории христианства есть устойчивый мотив возвращения к изначальному: к простоте раннего христианства, к подвижничеству и мученичеству, к Живому Христу. Реформация движется этим мотивом, движется к изначальному, но при этом возникает нечто совершенно современное: дух капитализма. Космизм также обращается к истокам, но весьма радикально их переосмысливает: когда Николай Федоров противопоставляет историю как факт и историю как проект, он очень радикален, так как утверждает, что никакого истока как образца для подражания не существует. Истоки должны быть переизобретены. В этом пункте он, кстати говоря, довольно резко критикует протестантизм, называя его «религией для несовершеннолетних». Кроме того, космизм всё-таки не исчерпывается одним Федоровым, не исчерпывается только лишь религиозным (христианским) космизмом. Есть, скажем, атеистический космизм Богданова, у него иная генеалогия, он не восходит к философии общего дела, есть иудейский космизм Братьев Гординых, есть Святогор, который энергично противопоставлял свой биокосмизм философии общего дела. Я хочу сказать, что движение космизма очень разношёрстно, оно не исчерпывается федоровским проектом, его связь с религиозными истоками неоднозначна, и сравнение с Реформацией всю эту сложность несколько скрадывает. Но я бы пошёл по пути этого сравнения чуть дальше. Если мы возьмём одну из радикальных форм современной протестантской теологии, теологию мертвого Бога, христианский атеизм Томаса Альтицера, мы увидим один очень важный пункт: отсутствие технического решения проблемы смерти Бога и довольно устойчивый мотив концептуализации самоубийства (Альтицера, например, очень интересует фигура Кириллова, самоубийцы из «Бесов» Достоевского). Самоубийство — важная тема, это своеобразный предел реформационного движения в условиях отсутствия технических решений проблемы смерти Бога: когда мы берём власть над своими жизнями в свои руки, высшим (и наиболее рациональным) её проявлением будет самоубийство. Теперь короткое замыкание: космизм, который столкнулся с той же самой проблемой, выдвинул этическую максиму — подлинное самоубийство возможно только тогда, когда мы бессмертны и когда есть воскрешение. Приведу два примера. В «Аргонавтах Вселенной» Александра Ярославского есть момент, когда главные герои попадают на Луну и обнаруживают, что это кладбище бессмертных, которые решили от своего бессмертия «отдохнуть» — и умереть. В «Стране Анархии» Братьев Гординых этот вопрос решен еще радикальнее: в этом чудесном утопическом мире ещё не изобрели бессмертия, но серьезно работают над этим, хотя есть среди людей Страны Анархии те, кто против изобретения бессмертия, так как они убеждены, что если бы смерти не было, её следовало бы изобрести. В космизме смерть перестает быть тем пределом, с которым мы либо пассивно смиряемся, либо мы с героической решимостью её принимаем, заступая в собственное бытие к смерти, как сказал бы Хайдеггер. Анархо-космизм утверждает: смерть необходимо изобрести, то есть к ней необходимо выработать наиболее техническое — и наиболее свободное отношение. Изобретение смерти — это очень спокойно и весело, это очень разбойно (вспомним Христа, который разбойничал смерть в аду). Мне кажется, что в этом смысл работы с «религиозным аспектом космизма». Мне кажется, это очень важно. В своей замечательной «Дилемме призрака» Квентин Мейясу показал важную проблему: мы не можем просто сбросить со счетов «религиозные чаяния», мы не можем просто стать атеистами и объявить Бога несуществующим. На вызов призрака не отвечает решение «Бога нет». Однако на вызов призрака не отвечает также и «Бог есть». Решение Мейясу: Бога ещё нет (и здесь тоже нет технического аспекта решения). Мне кажется, космизм радикальнее. Во-первых, если Мейясу определяет призрака как того, кто умер ужасной смертью, предполагая тем самым, что есть смерть, которую можно должным образом оплакать и отправить умершего на «тот свет», в сущности, избавившись от него, то космизм утверждает: мы все призраки, так как не существует «нормальной» смерти, смерть невозможно оплакать, смерть необходимо изобрести. Во-вторых, космизм утверждает необходимость технического (то есть фактического) решения проблемы смерти.
Теперь совершим жесткое приземление и скажем пару слов о Свободной Трудовой Церкви. Это история яростного аффективного энтузиазма и его краха, я бы сказал, что это история теологического панка. Святогор, в отличие от Федорова, Богданова, Муравьева, Гординых, — это человек устойчивого теологического аффекта, а не теории. Он из семьи священника, он учился в семинарии, он писал богословские тексты на украинском языке в журнале «Шлях», он написал поэтико-богословский трактат «Революция Духа» — вулканизм, биокосмизм, программные тексты СТЦ — он везде твердит о том, что называет трезвой христианской правдой фактического посюстороннего бессмертия и воскрешения (скорее всего, этот аффект вполне укладывался в траекторию, которую я выше очертил). И СТЦ органично вписывается в эту историю. Там страсть Святогора достигает своего апогея и становится совершенно конкретной работой по обустройству храма как космического корабля, как некоего фактического художественного организма. Думаю, ты прав, считая, что аффективное пламя во время богослужений, поэтических чтений и дискуссий в храме «Красный звон» полыхало очень ярко. Хотя нельзя забывать о том, что со стороны это выглядело довольно странно, и сборища СТЦ нередко описываются как «церковные митинги самого базарного уровня». Всё по панку, короче. Кроме того, такие вот обновленческие церкви довольно жёстко и цинично использовались властями для борьбы с Русской православной церковью, которой, скажем, СТЦ и целый ряд подобных подобных движений противопоставлялись на страницах «Известий ВЦИК». Трудно судить о том, насколько Святогор понимал свою роль «цепного пса», который рычит на политических оппонентов большевиков. Но когда надобность в этих движениях отпала, СТЦ тоже ушла в тень и рассыпалась. Храм опустел, а позже там расположилась электростанция. А Святогор исчез, остался только А.Ф. Агиенко, очень холодные безжизненные тексты которого появляются в 1930-е годы на страницах журнала «Антирелигиозник». В них иногда просвечивает былая аффективность Святогора, но в целом они производят тяжкое впечатление. Впрочем, в «Антирелигиознике» Агиенко не пишет того, что можно было бы истолковать как его отказ от «трезвой правды». Но, так или иначе, это уже записки мертвеца.
ЕК. Исследователи анархизма постоянно ведут собирательскую работу по поиску, оцифровке и публикации различных диковинок из истории анархического движения, это правда. Но в отношении биокосмизма найти и сохранить — это, как мне кажется, не самое сложное и не самое важное. Важно каким-то образом соотнести анархо-биокосмизм с современностью, с современной теорией, научной фантастикой, с современными политическими чаяниями. Ключевым является вопрос: что мы можем сделать с биокосмизмом сегодня? И здесь, действительно, настоятельно звучат твои вопросы. Мне трудно судить о том, что необходимо для чтения анархо-космистов. Ясно, что одного лишь собирательского интереса недостаточно, он даёт нам лишь горстки остывшего пепла, имеющие значение только для профессионалов узкой специализации, этот интерес не даёт огня. Я также не думаю, что для чтения биокосмистов обязательно нужно быть анархистом, историком философии или специалистом по современной философской теории. Я не думаю, что это вообще возможно: быть специалистом по биокосмизму. Специализируясь на биокосмистах, мы неизбежно упустим из виду эффекты ничьей земли, разбой воображения, который сквозит в этих текстах. Если понимать шизофрению как разбой воображения, то современный мир трудно будет считать более шизофреничным, чем Советская Россия в 1920-е годы. Налицо, скорее, некоторый паралич воображения, но никак не разбой. Если проводить аналогию, то воображение сегодня похоже на разбойника, который бросил своё ремесло и пошёл служить царю — пусть и на опасных рубежах, пусть и с жестокостью и рвением — но без настоящего разбоя, который всегда ищет ничьей земли.
Поэтому, возвращаясь к биокосмистам, нужно сказать, что заниматься ими сегодня — значит стать разбойником воображения. Влиться в разбойную шайку, в сбродную дружину. Эту задачу трудно было бы решить в формате университетского академического семинара по биокосмизму (хотя разбойничать можно и в этой среде). Для меня идеальными местами завязывания разбойных узлов являются такие проекты, как PPh | Pop-Philosophy!, Институт ТехноТеологии и подобные. В рамках первого появились «Фрагменты анархо-биокосмистов» и «Лесной пожар» (и многое ждет появления на свет), в рамках второго существует три отделения, которые занимаются анархо-космизмом и разбоем воображения: «Шизотектологический Креаторий», «Второй (Децентрированный) Социотехникум» и «Разбойный Воображариум». Эти проекты предполагают не только собирательство, накопление и инвентаризацию, не только интерпретацию, но в большей степени проблематизацию, фальсификацию и переизобретение анархо-космизма. Интереснее работать с биокосмизмом как с сырым материалом, который нужен ровно настолько, насколько мы можем создать из него что-то новое, как с фрагментами, которые можно пересобрать. Иными словами, в текстах анархо-космистов необходимо разбойничать. Кто может войти в сбродную дружину? Да кто угодно, это вопрос удали. Каковы ставки? Как и в любом разбое, ставки разбоя воображения высоки: доброе имя (которое, скорее всего, будет стерто) и жизнь вечная (которая, скорее всего, будет потеряна). Помню, как я побывал в церкви Николая Чудотворца «Красный звон» в Никольском переулке, в Москве. Я хотел ощутить то пространство, в котором Святогор и компания учредили Свободную Трудовую Церковь. Там на информационном стенде висела распечатка «из интернета» с краткой историей храма, в которой Святогор звался Алексеем. Когда я начал расспрашивать о том, не осталось ли каких-то следов СТЦ, мне довольно раздраженно ответили, что не осталось — и слава Богу, что эти ваши 20-е годы не нужно исследовать, эти обновленцы-раскольники не приведут к спасению души, о котором надлежит думать доброму христианину...
АЖ. А можешь подробнее остановиться на деятельности Свободной Трудовой Церкви? Я узнал про неё около года-полутора назад и изначально не соотносил её с деятельностью биокосмистов. Хотя мне было проще её понять именно как художественный проект. Впрочем, еще тут могут быть и чисто религиозные трактовки. Однажды услышал мнение философа Кети Чухров о том, что космизм — это русский вариант Реформации. И ведь действительно — например, для сообщества музея-библиотеки им. Федорова важна именно религиозная ветвь космизма. И в этом смысле их выступления больше походят на проповеди, нежели чем на привычные для современных интеллектуалов дискуссии. Ну, если не на проповеди, то на что-то близкое к пассионарному политическому активизму. Но уверен, службы Святогора могли бы составить конкуренцию. Ты не мог больше рассказать о религиозном аспекте деятельности биокосмистов и о том, как в качестве философа работаешь с этой частью их наследия?
ЕК. Ох! Здесь много сложных вопросов! Попробуем по порядку. Космизм довольно часто объявляется русской Реформацией. Мне кажется, что это сравнение имеет сильную и слабую стороны. Сильная сторона в том, что космизм тем самым вписывается в историческое движение революционного открытия плана имманенции, в котором, по словам Негри и Хардта, силы неба спускаются на землю, люди объявляют себя хозяевами своей жизни и смерти, становятся творцами истории и т.п. Слабая сторона в том, что это сравнение загоняет нас в таблицу сопоставления, в таблицу сходств и различий с образцом, с европейской Реформацией. В истории христианства есть устойчивый мотив возвращения к изначальному: к простоте раннего христианства, к подвижничеству и мученичеству, к Живому Христу. Реформация движется этим мотивом, движется к изначальному, но при этом возникает нечто совершенно современное: дух капитализма. Космизм также обращается к истокам, но весьма радикально их переосмысливает: когда Николай Федоров противопоставляет историю как факт и историю как проект, он очень радикален, так как утверждает, что никакого истока как образца для подражания не существует. Истоки должны быть переизобретены. В этом пункте он, кстати говоря, довольно резко критикует протестантизм, называя его «религией для несовершеннолетних». Кроме того, космизм всё-таки не исчерпывается одним Федоровым, не исчерпывается только лишь религиозным (христианским) космизмом. Есть, скажем, атеистический космизм Богданова, у него иная генеалогия, он не восходит к философии общего дела, есть иудейский космизм Братьев Гординых, есть Святогор, который энергично противопоставлял свой биокосмизм философии общего дела. Я хочу сказать, что движение космизма очень разношёрстно, оно не исчерпывается федоровским проектом, его связь с религиозными истоками неоднозначна, и сравнение с Реформацией всю эту сложность несколько скрадывает. Но я бы пошёл по пути этого сравнения чуть дальше. Если мы возьмём одну из радикальных форм современной протестантской теологии, теологию мертвого Бога, христианский атеизм Томаса Альтицера, мы увидим один очень важный пункт: отсутствие технического решения проблемы смерти Бога и довольно устойчивый мотив концептуализации самоубийства (Альтицера, например, очень интересует фигура Кириллова, самоубийцы из «Бесов» Достоевского). Самоубийство — важная тема, это своеобразный предел реформационного движения в условиях отсутствия технических решений проблемы смерти Бога: когда мы берём власть над своими жизнями в свои руки, высшим (и наиболее рациональным) её проявлением будет самоубийство. Теперь короткое замыкание: космизм, который столкнулся с той же самой проблемой, выдвинул этическую максиму — подлинное самоубийство возможно только тогда, когда мы бессмертны и когда есть воскрешение. Приведу два примера. В «Аргонавтах Вселенной» Александра Ярославского есть момент, когда главные герои попадают на Луну и обнаруживают, что это кладбище бессмертных, которые решили от своего бессмертия «отдохнуть» — и умереть. В «Стране Анархии» Братьев Гординых этот вопрос решен еще радикальнее: в этом чудесном утопическом мире ещё не изобрели бессмертия, но серьезно работают над этим, хотя есть среди людей Страны Анархии те, кто против изобретения бессмертия, так как они убеждены, что если бы смерти не было, её следовало бы изобрести. В космизме смерть перестает быть тем пределом, с которым мы либо пассивно смиряемся, либо мы с героической решимостью её принимаем, заступая в собственное бытие к смерти, как сказал бы Хайдеггер. Анархо-космизм утверждает: смерть необходимо изобрести, то есть к ней необходимо выработать наиболее техническое — и наиболее свободное отношение. Изобретение смерти — это очень спокойно и весело, это очень разбойно (вспомним Христа, который разбойничал смерть в аду). Мне кажется, что в этом смысл работы с «религиозным аспектом космизма». Мне кажется, это очень важно. В своей замечательной «Дилемме призрака» Квентин Мейясу показал важную проблему: мы не можем просто сбросить со счетов «религиозные чаяния», мы не можем просто стать атеистами и объявить Бога несуществующим. На вызов призрака не отвечает решение «Бога нет». Однако на вызов призрака не отвечает также и «Бог есть». Решение Мейясу: Бога ещё нет (и здесь тоже нет технического аспекта решения). Мне кажется, космизм радикальнее. Во-первых, если Мейясу определяет призрака как того, кто умер ужасной смертью, предполагая тем самым, что есть смерть, которую можно должным образом оплакать и отправить умершего на «тот свет», в сущности, избавившись от него, то космизм утверждает: мы все призраки, так как не существует «нормальной» смерти, смерть невозможно оплакать, смерть необходимо изобрести. Во-вторых, космизм утверждает необходимость технического (то есть фактического) решения проблемы смерти.
Теперь совершим жесткое приземление и скажем пару слов о Свободной Трудовой Церкви. Это история яростного аффективного энтузиазма и его краха, я бы сказал, что это история теологического панка. Святогор, в отличие от Федорова, Богданова, Муравьева, Гординых, — это человек устойчивого теологического аффекта, а не теории. Он из семьи священника, он учился в семинарии, он писал богословские тексты на украинском языке в журнале «Шлях», он написал поэтико-богословский трактат «Революция Духа» — вулканизм, биокосмизм, программные тексты СТЦ — он везде твердит о том, что называет трезвой христианской правдой фактического посюстороннего бессмертия и воскрешения (скорее всего, этот аффект вполне укладывался в траекторию, которую я выше очертил). И СТЦ органично вписывается в эту историю. Там страсть Святогора достигает своего апогея и становится совершенно конкретной работой по обустройству храма как космического корабля, как некоего фактического художественного организма. Думаю, ты прав, считая, что аффективное пламя во время богослужений, поэтических чтений и дискуссий в храме «Красный звон» полыхало очень ярко. Хотя нельзя забывать о том, что со стороны это выглядело довольно странно, и сборища СТЦ нередко описываются как «церковные митинги самого базарного уровня». Всё по панку, короче. Кроме того, такие вот обновленческие церкви довольно жёстко и цинично использовались властями для борьбы с Русской православной церковью, которой, скажем, СТЦ и целый ряд подобных подобных движений противопоставлялись на страницах «Известий ВЦИК». Трудно судить о том, насколько Святогор понимал свою роль «цепного пса», который рычит на политических оппонентов большевиков. Но когда надобность в этих движениях отпала, СТЦ тоже ушла в тень и рассыпалась. Храм опустел, а позже там расположилась электростанция. А Святогор исчез, остался только А.Ф. Агиенко, очень холодные безжизненные тексты которого появляются в 1930-е годы на страницах журнала «Антирелигиозник». В них иногда просвечивает былая аффективность Святогора, но в целом они производят тяжкое впечатление. Впрочем, в «Антирелигиознике» Агиенко не пишет того, что можно было бы истолковать как его отказ от «трезвой правды». Но, так или иначе, это уже записки мертвеца.
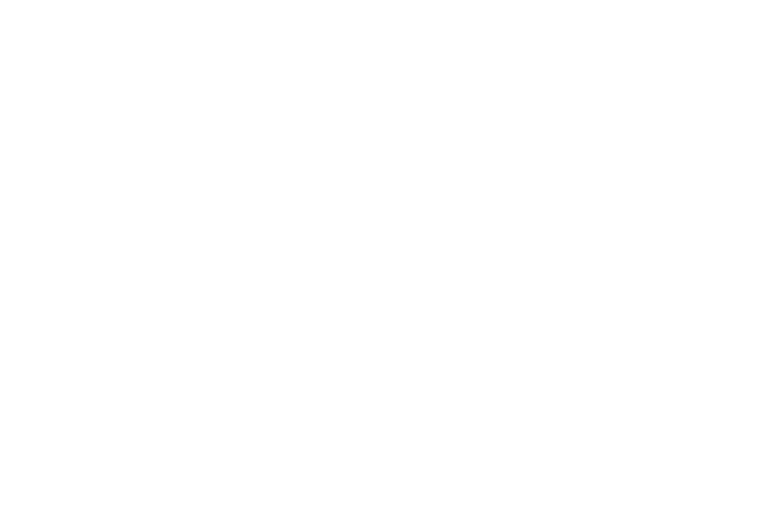
АЖ. Как бы ты охарактеризовал отношения Святогора с литературой? На мой вкус, эта часть его наследия самая трудная для восприятия. Я успел коротко обсудить с некоторыми московскими критиками и литераторами творчество Святогора в этом аспекте, и даже самые радикальные из них не знают, что с этим делать. Осталось не так много «непереведенных» / «странных» отечественных авторов первой трети ХХ века. Почти всё наследие этой бурной эпохи, так или иначе, расшифровано. Например, в случае с поэзией пролеткульта можно говорить о том, что она обладает редким для литературы качеством наивности, арт-брюта, её можно читать как нетривиальную работу по утилизации искусства буржуазной эпохи, изобретение своеобразного реди-мейда наоборот. Или же, если взять концептуальное изобретение Миши Куртова — поэтов-дорвеев, на которых ты ссылаешься во введении, мы тоже вряд ли будем так смущены. Ведь, действительно, современная словесность во многом похожа на их машинный язык... Но случай со Святогором и его коллегами кажется значительно более сложным. Честно признаюсь, «Аргонавты вселенной» Ярославского повергли меня в глубокую тоску. Примерно такое же впечатление осталось после его «Поэмы анабиоза». У Святогора с его вулканизмом кажется лучше всего получаются манифесты намерений, с которыми можно как-то работать сегодня, но сама поэзия ставит в тупик. Начинаешь невольно задумываться, а какую роль пласт литературного творчества играет в общей композиции его наследия? Я понимаю, что уже при жизни отношения Святогора с коллегами по поэтическому цеху были далеки от идеальных. И если так, должны ли мы в принципе пытаться заземлять его на этой территории?
ЕК. В самой середине XIX века, в первом номере «Современника» за 1850 год вышла статья Николая Некрасова «Русские второстепенные поэты», в которой сначала объявляется приговор «стихов нет», потом приводятся примеры, подтверждающие этот вердикт, и потом Некрасов переходит к Тютчеву, которого никто не замечает, хотя он того стоит. Вот эта формула, «второстепенный поэт», но в ещё более уничижительном виде (третьестепенный, или вообще поэт без степени), звучала у меня в голове, когда я читал стихеты Святогора и думал, что с ними можно поделать. В них много чего намешано, и, в первую очередь, в них много вот этой «второстепенности». После Хлебникова и Крученых Святогор выглядит очень бледно (у меня есть подозрение, что у первого Святогор взял свое имя, из «Кургана Святогора», где Хлебников очень мудрено, очень по-шамански говорит о новом языке, о таком хтоническом — вулканическом — словотворчестве, а из космической «сдвигологии» второго многое позаимствовал в своей идее междометий). Но есть у Святогора и что-то такое, какие-то разряды тока, которыми читателя иногда странно дергает. Есть какие-то инопланетные искры. Когда Святогор публично исполнял свои стихеты, над ним смеялись и считали душевнобольным. Сам Святогор прислушивался к этому смеху публики и считал его недостаточным, слишком человеческим, рассказывая о смеющихся собаках и станках на заводах, о румяных машинах, которые, в отличие от человека, могли бы по достоинству высмеять его стихеты. В его текстах — фрагментами — пропрыгивает что-то демоническое, в делезовском смысле какая-то сила прыжка или то, что Делез же называл криком. И это очень странная смесь, смесь чего-то слишком серого, серого до незаметности, и чего-то слишком яркого, яркого до незаметности. Это смесь двух излишков, излишка автоматизма и излишка жизни, это как ожившая машина. И вот это «ярко-серое» вещество Святогора интересно как литературный феномен.
Да, я бы хотел сделать небольшую оговорку: все-таки на литературном поприще у Святогора все было не так уж и плохо, все-таки его стихеты появляются на страницах «Анархии» и в некоторых литературных сборниках вместе с произведениями Малевича, Родченко и, например, Гастева; довольно известный литературный критик Владимир Фриче положительно отзывался о стихетах Святогора. С другой стороны, есть стихи Братьев Гординых, с которыми Святогор был идейно близок. Стихи Гординых тоже смешивают эти планы чудовищной банальности сонета и не менее чудовищной дерзости «Благовеста безумия» (это заголовок огромной поэмы Гординых, которая является просто шизопотоковым месивом, очень странная вещь). То есть я хочу сказать, что Святогор вписывается в литературную традицию, но в такую, о которой просто не очень много известно — вокруг которой нет большой традиции интерпретации, нет привычек языка, как это Святогор называл. Ты как будто открываешь племя со своими мифологией и магией, со своим языком и техникой; все это выглядит как хаос звуков и жестов, но в этом племени нужно некоторое время пожить, чтобы понять, что к чему.
Мне кажется, что самой существенной чертой поэтики биокосмизма, сложной для понимания и интерпретации, является то, что речь в ней вообще не идет о поэзии в привычном для нас понимании — речь в ней не идет о словах. 20-е годы — это время головокружительных экспериментов с тем, что можно было бы назвать имманентизацией поэзии. Суть в том, что объявляется смерть отвлеченного созерцательного искусства и провозглашается необходимость искусства производительного. Это затронуло пролеткульт, Андрея Платонова, например, я воспринимаю как такую огромную мощную фабрику по производству аффектов. В биокосмизме есть своя вариация этой имманентизации, а именно объявление необходимости перевода поэтики в генетику (то же мы находим и у Валериана Муравьева). Святогор утверждает, что его целью является не создание слов, а создание художественных организмов. В анархо-универсализме, из которого вырастает биокосмизм, есть техническое объяснение этого перевода, Аба Гордин увязывает его с логикой насыщения отношений между человеком и техникой, которые кристаллизуются, с одной стороны, в максимальном усложнении технического объекта и бесконечном возрастании его мощности, а с другой — в бесконечном упрощении (свободе) обхождения с этим объектом. Думаю, биокосмисты с воодушевлением отнеслись бы к развитию нейроинтерфейсов, как к первому шагу перевода поэтики в генетику. То есть мне кажется, что биокосмисты вписываются в какую-то странную, еще не написанную историю литературы — историю литературы как биопрограммирования, литературы как биохакинга, литературы как техники (без метафор). У нас нет такой истории, потому что мы продолжаем мыслить литературу как отвлеченное от производства словоплетение. Если же мы проведём интеллектуальный эксперимент, наподобие того, который предлагает Мануэль ДеЛанда в самом начале «Войны в эпоху разумных машин», если мы представим себе разумную машину-историка, которая описывает творческую эволюцию своего вида, то в этой истории, возможно, мы могли бы найти место биокосмической поэтике (карта истории литературы полностью изменилась бы, и, возможно, вся складывалась бы из «поэтов без степени», которые и окажутся теми, кого никто не замечает, хотя они того стоят).
Это смущающее измерение отношений Святогора с литературой открывается тогда, когда мы начинаем работать с его текстами не как с чем-то целостным, но как с фрагментами, криками и прыжками. Но чтобы соединить эти крики в некий марсианский «ряд междометий» как это сам Святогор называл, нам нужна утопия, ничья земля. То есть я продолжаю настаивать на необходимости разбоя воображения.
ЕК. В самой середине XIX века, в первом номере «Современника» за 1850 год вышла статья Николая Некрасова «Русские второстепенные поэты», в которой сначала объявляется приговор «стихов нет», потом приводятся примеры, подтверждающие этот вердикт, и потом Некрасов переходит к Тютчеву, которого никто не замечает, хотя он того стоит. Вот эта формула, «второстепенный поэт», но в ещё более уничижительном виде (третьестепенный, или вообще поэт без степени), звучала у меня в голове, когда я читал стихеты Святогора и думал, что с ними можно поделать. В них много чего намешано, и, в первую очередь, в них много вот этой «второстепенности». После Хлебникова и Крученых Святогор выглядит очень бледно (у меня есть подозрение, что у первого Святогор взял свое имя, из «Кургана Святогора», где Хлебников очень мудрено, очень по-шамански говорит о новом языке, о таком хтоническом — вулканическом — словотворчестве, а из космической «сдвигологии» второго многое позаимствовал в своей идее междометий). Но есть у Святогора и что-то такое, какие-то разряды тока, которыми читателя иногда странно дергает. Есть какие-то инопланетные искры. Когда Святогор публично исполнял свои стихеты, над ним смеялись и считали душевнобольным. Сам Святогор прислушивался к этому смеху публики и считал его недостаточным, слишком человеческим, рассказывая о смеющихся собаках и станках на заводах, о румяных машинах, которые, в отличие от человека, могли бы по достоинству высмеять его стихеты. В его текстах — фрагментами — пропрыгивает что-то демоническое, в делезовском смысле какая-то сила прыжка или то, что Делез же называл криком. И это очень странная смесь, смесь чего-то слишком серого, серого до незаметности, и чего-то слишком яркого, яркого до незаметности. Это смесь двух излишков, излишка автоматизма и излишка жизни, это как ожившая машина. И вот это «ярко-серое» вещество Святогора интересно как литературный феномен.
Да, я бы хотел сделать небольшую оговорку: все-таки на литературном поприще у Святогора все было не так уж и плохо, все-таки его стихеты появляются на страницах «Анархии» и в некоторых литературных сборниках вместе с произведениями Малевича, Родченко и, например, Гастева; довольно известный литературный критик Владимир Фриче положительно отзывался о стихетах Святогора. С другой стороны, есть стихи Братьев Гординых, с которыми Святогор был идейно близок. Стихи Гординых тоже смешивают эти планы чудовищной банальности сонета и не менее чудовищной дерзости «Благовеста безумия» (это заголовок огромной поэмы Гординых, которая является просто шизопотоковым месивом, очень странная вещь). То есть я хочу сказать, что Святогор вписывается в литературную традицию, но в такую, о которой просто не очень много известно — вокруг которой нет большой традиции интерпретации, нет привычек языка, как это Святогор называл. Ты как будто открываешь племя со своими мифологией и магией, со своим языком и техникой; все это выглядит как хаос звуков и жестов, но в этом племени нужно некоторое время пожить, чтобы понять, что к чему.
Мне кажется, что самой существенной чертой поэтики биокосмизма, сложной для понимания и интерпретации, является то, что речь в ней вообще не идет о поэзии в привычном для нас понимании — речь в ней не идет о словах. 20-е годы — это время головокружительных экспериментов с тем, что можно было бы назвать имманентизацией поэзии. Суть в том, что объявляется смерть отвлеченного созерцательного искусства и провозглашается необходимость искусства производительного. Это затронуло пролеткульт, Андрея Платонова, например, я воспринимаю как такую огромную мощную фабрику по производству аффектов. В биокосмизме есть своя вариация этой имманентизации, а именно объявление необходимости перевода поэтики в генетику (то же мы находим и у Валериана Муравьева). Святогор утверждает, что его целью является не создание слов, а создание художественных организмов. В анархо-универсализме, из которого вырастает биокосмизм, есть техническое объяснение этого перевода, Аба Гордин увязывает его с логикой насыщения отношений между человеком и техникой, которые кристаллизуются, с одной стороны, в максимальном усложнении технического объекта и бесконечном возрастании его мощности, а с другой — в бесконечном упрощении (свободе) обхождения с этим объектом. Думаю, биокосмисты с воодушевлением отнеслись бы к развитию нейроинтерфейсов, как к первому шагу перевода поэтики в генетику. То есть мне кажется, что биокосмисты вписываются в какую-то странную, еще не написанную историю литературы — историю литературы как биопрограммирования, литературы как биохакинга, литературы как техники (без метафор). У нас нет такой истории, потому что мы продолжаем мыслить литературу как отвлеченное от производства словоплетение. Если же мы проведём интеллектуальный эксперимент, наподобие того, который предлагает Мануэль ДеЛанда в самом начале «Войны в эпоху разумных машин», если мы представим себе разумную машину-историка, которая описывает творческую эволюцию своего вида, то в этой истории, возможно, мы могли бы найти место биокосмической поэтике (карта истории литературы полностью изменилась бы, и, возможно, вся складывалась бы из «поэтов без степени», которые и окажутся теми, кого никто не замечает, хотя они того стоят).
Это смущающее измерение отношений Святогора с литературой открывается тогда, когда мы начинаем работать с его текстами не как с чем-то целостным, но как с фрагментами, криками и прыжками. Но чтобы соединить эти крики в некий марсианский «ряд междометий» как это сам Святогор называл, нам нужна утопия, ничья земля. То есть я продолжаю настаивать на необходимости разбоя воображения.
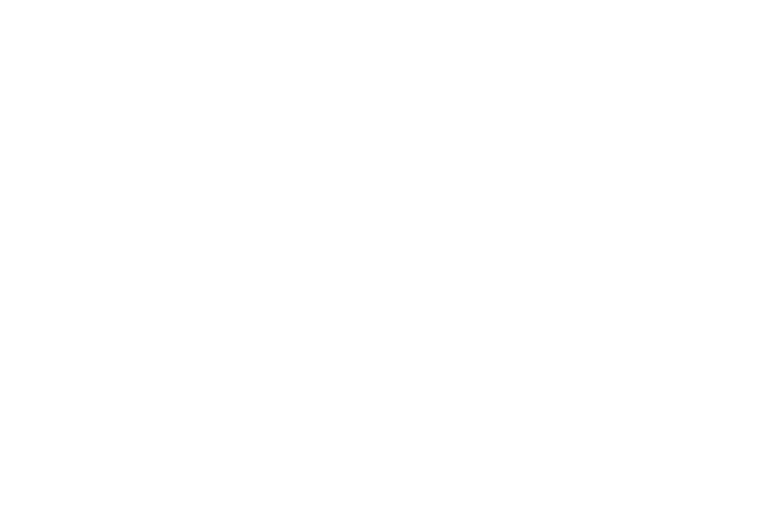
АЖ. Давай поговорим о философской стороне дела. В своём послесловии ты обращаешься к трактовкам биокосмистов, в основном используя язык Делеза. Ты не мог бы пояснить, в чём ты видишь прагматику такого шага? Что нового Делез помогает нам узнать о биокосмистах? Я не являюсь специалистом в его философии и честно признаюсь, некоторые части твоего послесловия для меня выглядят не меньшей загадкой, чем сами тексты Святогора. Возможно, из-за того, что я смотрю со стороны, складывается впечатление, что перевод биокосмистов на язык Делеза имеет самостоятельную ценность. Например, главка, посвященная «тёмному предшественнику», и разбор различия революционного петуха и его крика действительно очень темны. Другой пример. Ты много пишешь о шизофрении (в нашем разговоре она уже возникала), которая вроде бы является решением многих сложностей с изучаемым материалом. Но если мы говорим об искусстве, интерес к безумию довольно явно маркирован романтической эстетикой и отдельными экспериментами модернистов начала ХХ века. И то и другое сегодня существует в виде чётко очерченной ниши со своими стилистическими особенностями (зачастую воспроизводимыми сознательно для достижения определенного эстетического эффекта) и кругом коллекционеров-ценителей, питающих нишу финансово. Ничего большего шизофрения сегодня на территории искусства не сообщает. Понятно, что в философии Делеза она играет особую, в том числе политическую роль. Но ответ на вопрос, что стоит за шизофренией в современной ситуации или же постреволюционных 20-х, ещё требует пояснений.
ЕК. «Фрагменты анархо-биокосмистов» — это, скорее, не послесловие, а «прапредисловие» к Святогору. Я написал его ещё до того, как ознакомился с большей частью текстов Святогора, Гординых, Ярославского, до того, как собралась и вышла в свет книга «Святогор», во время подготовки которой я дополнил это «прапредисловие» некоторыми наиболее яркими фрагментами святогоровских текстов и поместил его в конец, но общей концепции не менял. То есть нужно признать, модель чтения текстов биокосмистов и концептуальное ядро, которое из них было извлечено, сложились с некоторым упреждением, с забеганием вперед. «Фрагменты» были попыткой экспериментального письма «по мотивам», «по следам» — поверх биокосмистских текстов — в условиях полного интерпретационного вакуума, в котором о биокосмизме не звучало ни слова или раздавалась лишь неуверенная речь о «трудностях перевода». В этих условиях Делез не столько давал готовый словарь, язык, на котором можно было бы о биокосмизме говорить (у Делеза нет такого словаря, есть лишь призыв творить концепты), сколько играл роль проводника, Анубиса, который ведёт тебя в загробный мир. Знаешь, когда я писал диссертацию о египетской мифологии, я познакомился с интересной версией того, почему эта странная пустынная собака, которую обычно путают с шакалом, стала животным проводника в загробный мир, Анубиса. Потому что эта собака ведёт путника в пустыню, отбегая от него на некоторое расстояние, останавливаясь, оглядываясь, убеждаясь, что он идет за ней следом, будто спрашивая: «Ты еще идешь за мной?» — и снова отбегая дальше в пустыню. В текстах Святогора для меня такой пустынной собакой был Делез (хотя и не он один: там были и Бергсон, и Симондон, и Лакан, и Мейясу, и другие). Я всего лишь следовал двум страстям Делеза: первая — это страсть к открытию «малых» текстов, «малой литературы», миноритарных концептуальных ходов — или переоткрытию «больших» текстов как «малых»; вторая — это страсть к изобретению, согласно которой мы не можем прочесть и понять какой-то текст, предварительно не поработав над его (пере)изобретением. Роли Делеза как пустынной собаки, которая, оборачиваясь по мере продвижения в святогоровские тексты, спрашивала меня: «ты все еще изобретателен? можешь ли ты двинуться еще дальше?» — было достаточно.
Впрочем, две детали, два инструмента из делезовского tool-box'а также пригодились: это его концепты крика и темного предшественника. В лекциях о Лейбнице 80-х годов Делез говорит, что если вам есть о чём кричать, вы уже почти философ. Святогору явно было о чем кричать, он «почти» философ, гипо-философ чистого крика. Маркер крика был тем инструментом, с помощью которого стало возможным выявить гипо-концептуальные «фрагменты», те самые неощутимо яркие точки святогоровских текстов, о которых мы выше говорили. Однако оставался вопрос, как их сшить, как собрать из этих точек какую-то траекторию. Здесь «Фрагменты анархо-биокосмистов» вышли в пустыню экспериментаторства, и кусок о тёмном предшественнике, наверное, самый экспериментальный. Я сейчас перейду на метафорический уровень, потом я вернусь. Для Делеза тёмный предшественник, или, как это сегодня принято называть, ступенчатый лидер — это метафора того, что он называет односторонним различением, односторонней дистинкцией. Для него самого это тоже весьма тёмная область, его письмо, касающееся этой проблемы, становится, как правило, загадочным и странным. Одностороннее различение он описывает, опираясь на метафорику эмбриологии, говоря о физике молнии, говоря загадочные вещи про то, как «дно поднимается на поверхность» и т.д. Остановимся на физике молнии, тёмный предшественник приходит оттуда. С точки зрения обычного наблюдения, световой разряд молнии направляется от грозового облака к земле, молния ударяет в землю. Однако использование более тонких, чем человеческий глаз, средств наблюдения показало, что видимому разряду предшествует ступенчатый термоионизированный канал с высокой проводимостью — тёмный предшественник, который направляется от облака к земле, тогда как главный разряд — видимая молния — ударяет, наоборот, снизу вверх. Делез использует этот образ для того, чтобы показать, как работает одностороннее различение — различно различное, как он его называет. Для чего ему это нужно? Для того чтобы помыслить различие независимо от тождества, по ту сторону представления — различие в-себе, чистое различие. В итоге Делез даёт нам более тонкую оптику (по аналогии с теми оптическими инструментами, которые позволили физикам пойти против органов чувств и обнаружить, что разряд молнии бьёт снизу вверх).
Вернемся к Святогору. Разумеется, у меня не было намерения сделать из Святогора делезианца или протоделезианца, который, дескать, оказался предтечей, предвосхитил, опередил свое время и т.д. Я просто подошёл к нему с оптикой, которая позволяет по ту сторону каких бы то ни было отождествлений видеть более тонкие различия, видеть то, что молнии святогоровских криков направлены в сторону, противоположную той, которая кажется очевидной. Простой пример: инстинкт бессмертия. Проще всего помыслить его в контексте сохранения: все мы инстинктивно хотим длиться вечно, сохранять свое Я в бесконечности бессмертия. Воплощением такой логики является современная крионика, в которой, кстати, в свёрнутом виде происходит не что иное, как заморозка существующего социального порядка, существующих порядков собственности — об этом почти весь киберпанк на тему крионики. Но Святогор говорит о другом: инстинкт бессмертия — это не сохранение, это взлом — и инкорпорированного в данное тело Я, и самого тела, и существующего социального порядка. Взлом через тот самый крик петуха, через междометия и интерпланетарные ряды, через «художественные организмы». Это не крионика, но, напротив, плавление. Тут возникает множество интересных проблем, например, проблема анархо-космической телесности, вопрос о биокосмической технике и поэтике, вопрос об общительности, общем деле, которое есть чистая анархия и т.п. Но я бы сейчас поставил вопрос о плавлении на самом теле Святогора. Кто такой или что такое Святогор? Это воплощенный крик человека по имени Александр Федорович Агиенко. Агиенко отличается от Святогора. Но Святогор, как инопланетный (интерпланетарный) захватчик тела Агиенко, взламывает это тело, взвулканивает его и отказывается себя от него отличать. Если хочешь, мы можем назвать это шизофренией — в прямом смысле этого слова, в смысле расщепления, схизмы. Святогор — это расщепление Агиенко, несущее в себе силу одностороннего различения. У нас в воображении возникает целая толпа, целая разбойничья шайка, телесное месиво: Агиенко-1, Святогор (и параллельно с ним существующий Агиенко-2, который подписывает этим именем тексты, помещенные в БИОкосмисте вместе с текстами Святогора), Святогор-СТЦ, Пересвет-Пересветов, Агиенко-3 (это уже нормализованный, остановленный в своем молниеносном движении шизофреник, «ублюдок», как называют это состояние Делез и Гваттари; хотя у меня есть робкая надежда на «стол Святогора», на то, что Агиенко, печатавший дежурную воинственно-атеистическую ерунду в «Антирелигиознике», продолжал расщепляться и писать святогоровское в стол). Если говорить о постреволюционной ситуации 20-х годов, то нужно сказать, что таких «космических шизофреников» тогда было немало. Вспомним, что Александр Богданов переводил «Инженера Мэнни» с марсианского на русский, говорил об участии марсиан в революционных событиях и выдвинул радикальнейшую идею соматического коммунизма, осуществляемого посредством общественного кровообращения. Братья Гордины — также весьма схизматичны. Они, например, подписывали тексты, написанные ими двумя, одним никнеймом «Товарищ Гордин», и у них было ещё с десяток имен. Они расщеплялись на отдельных Абу и Вольфа, расщеплялись внутри этих имён-тел, изобретали свои космические языки, занимались практическим «плавлением тела» — через своеобразный диетологический биохакинг. Из менее известных примеров можно назвать Вивиана Итина — сибирского писателя, революционера, путешественника, исследователя Арктики. В его повести «Страна Гонгури» главный герой, революционер по имени Гелий, обнаруживает в состоянии гипноза, что он никакой не Гелий, а инопланетное существо по имени Риэль — и именно Риэль с его памятью об иных мирах оказывается революционным субъектом. После выхода из гипноза тело главного героя, находящееся в тюрьме, долго не может разобраться в том, что же оно такое — Гелий или Риэль, и именует себя с расщепляющим удвоением Гелий-Риэль. Картины Первой мировой войны, описанные с точки зрения этого существа, производят очень сильное впечатление — эти картины тоже почти инопланетны.
Что стояло за этой постреволюционной коллективной — и радикально-коллективистской — шизофренией? Если говорить философским языком, то, как мне кажется, это и была сила одностороннего различения, толкающая к ускользанию от Тождественного, от Представления, от Образа / Образца (от Старого Мира). Что из этого получилось? «Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней». Что это нам сегодня даёт? Ясно, что не стоит воспринимать 10-20-е годы в России, или 60-70-е годы во Франции, или какие угодно ещё эпохи и события как образец для подражания. У ускользания от Образца нет образца.
Да, я с тобой солидарен относительно вопроса о необходимости экспериментального продолжения анархо-биокосмистского проекта. Собственно, в теоретическом плане я и пытаюсь это делать. В моих планах сейчас поиск, публикация и теоретический апгрейд (через предисловия, примечания и послесловия) текстов анархо-космистов (сейчас мы с Common Place готовим к печати утопии Братьев Гординых), мне ещё очень хочется до конца года написать большой историко-философский текст «Анархо-космизм», про всю эту шайку разбойников воображения. Кроме того, вызревает и «собственный» теоретический проект, в котором анархо-космисты выступят как союзники и как те самые «малые» авторы, но ими дело не ограничится, конечно. А вот как биокосмизм продолжить практически — сложный вопрос. Мне кажется, есть открытые сейчас возможности в искусстве (можно попробовать анархо-биокосмистский панк, например), в педагогике (Гордины были интересными педагогами-практиками), в программировании, геймификации и т.д. Политическое продолжение — самый сложный вопрос, мне кажется, ответ на него даётся в самых разных направлениях техно-анархизма, биохакинга, «крафтового космизма» и т.п. Вероятно, главной чертой этого политического продолжения должно быть что-то вроде «радикального оптимизма», который так хорошо описывается Дэвидом Гребером. Я бы даже сказал — «террористического оптимизма».
ЕК. «Фрагменты анархо-биокосмистов» — это, скорее, не послесловие, а «прапредисловие» к Святогору. Я написал его ещё до того, как ознакомился с большей частью текстов Святогора, Гординых, Ярославского, до того, как собралась и вышла в свет книга «Святогор», во время подготовки которой я дополнил это «прапредисловие» некоторыми наиболее яркими фрагментами святогоровских текстов и поместил его в конец, но общей концепции не менял. То есть нужно признать, модель чтения текстов биокосмистов и концептуальное ядро, которое из них было извлечено, сложились с некоторым упреждением, с забеганием вперед. «Фрагменты» были попыткой экспериментального письма «по мотивам», «по следам» — поверх биокосмистских текстов — в условиях полного интерпретационного вакуума, в котором о биокосмизме не звучало ни слова или раздавалась лишь неуверенная речь о «трудностях перевода». В этих условиях Делез не столько давал готовый словарь, язык, на котором можно было бы о биокосмизме говорить (у Делеза нет такого словаря, есть лишь призыв творить концепты), сколько играл роль проводника, Анубиса, который ведёт тебя в загробный мир. Знаешь, когда я писал диссертацию о египетской мифологии, я познакомился с интересной версией того, почему эта странная пустынная собака, которую обычно путают с шакалом, стала животным проводника в загробный мир, Анубиса. Потому что эта собака ведёт путника в пустыню, отбегая от него на некоторое расстояние, останавливаясь, оглядываясь, убеждаясь, что он идет за ней следом, будто спрашивая: «Ты еще идешь за мной?» — и снова отбегая дальше в пустыню. В текстах Святогора для меня такой пустынной собакой был Делез (хотя и не он один: там были и Бергсон, и Симондон, и Лакан, и Мейясу, и другие). Я всего лишь следовал двум страстям Делеза: первая — это страсть к открытию «малых» текстов, «малой литературы», миноритарных концептуальных ходов — или переоткрытию «больших» текстов как «малых»; вторая — это страсть к изобретению, согласно которой мы не можем прочесть и понять какой-то текст, предварительно не поработав над его (пере)изобретением. Роли Делеза как пустынной собаки, которая, оборачиваясь по мере продвижения в святогоровские тексты, спрашивала меня: «ты все еще изобретателен? можешь ли ты двинуться еще дальше?» — было достаточно.
Впрочем, две детали, два инструмента из делезовского tool-box'а также пригодились: это его концепты крика и темного предшественника. В лекциях о Лейбнице 80-х годов Делез говорит, что если вам есть о чём кричать, вы уже почти философ. Святогору явно было о чем кричать, он «почти» философ, гипо-философ чистого крика. Маркер крика был тем инструментом, с помощью которого стало возможным выявить гипо-концептуальные «фрагменты», те самые неощутимо яркие точки святогоровских текстов, о которых мы выше говорили. Однако оставался вопрос, как их сшить, как собрать из этих точек какую-то траекторию. Здесь «Фрагменты анархо-биокосмистов» вышли в пустыню экспериментаторства, и кусок о тёмном предшественнике, наверное, самый экспериментальный. Я сейчас перейду на метафорический уровень, потом я вернусь. Для Делеза тёмный предшественник, или, как это сегодня принято называть, ступенчатый лидер — это метафора того, что он называет односторонним различением, односторонней дистинкцией. Для него самого это тоже весьма тёмная область, его письмо, касающееся этой проблемы, становится, как правило, загадочным и странным. Одностороннее различение он описывает, опираясь на метафорику эмбриологии, говоря о физике молнии, говоря загадочные вещи про то, как «дно поднимается на поверхность» и т.д. Остановимся на физике молнии, тёмный предшественник приходит оттуда. С точки зрения обычного наблюдения, световой разряд молнии направляется от грозового облака к земле, молния ударяет в землю. Однако использование более тонких, чем человеческий глаз, средств наблюдения показало, что видимому разряду предшествует ступенчатый термоионизированный канал с высокой проводимостью — тёмный предшественник, который направляется от облака к земле, тогда как главный разряд — видимая молния — ударяет, наоборот, снизу вверх. Делез использует этот образ для того, чтобы показать, как работает одностороннее различение — различно различное, как он его называет. Для чего ему это нужно? Для того чтобы помыслить различие независимо от тождества, по ту сторону представления — различие в-себе, чистое различие. В итоге Делез даёт нам более тонкую оптику (по аналогии с теми оптическими инструментами, которые позволили физикам пойти против органов чувств и обнаружить, что разряд молнии бьёт снизу вверх).
Вернемся к Святогору. Разумеется, у меня не было намерения сделать из Святогора делезианца или протоделезианца, который, дескать, оказался предтечей, предвосхитил, опередил свое время и т.д. Я просто подошёл к нему с оптикой, которая позволяет по ту сторону каких бы то ни было отождествлений видеть более тонкие различия, видеть то, что молнии святогоровских криков направлены в сторону, противоположную той, которая кажется очевидной. Простой пример: инстинкт бессмертия. Проще всего помыслить его в контексте сохранения: все мы инстинктивно хотим длиться вечно, сохранять свое Я в бесконечности бессмертия. Воплощением такой логики является современная крионика, в которой, кстати, в свёрнутом виде происходит не что иное, как заморозка существующего социального порядка, существующих порядков собственности — об этом почти весь киберпанк на тему крионики. Но Святогор говорит о другом: инстинкт бессмертия — это не сохранение, это взлом — и инкорпорированного в данное тело Я, и самого тела, и существующего социального порядка. Взлом через тот самый крик петуха, через междометия и интерпланетарные ряды, через «художественные организмы». Это не крионика, но, напротив, плавление. Тут возникает множество интересных проблем, например, проблема анархо-космической телесности, вопрос о биокосмической технике и поэтике, вопрос об общительности, общем деле, которое есть чистая анархия и т.п. Но я бы сейчас поставил вопрос о плавлении на самом теле Святогора. Кто такой или что такое Святогор? Это воплощенный крик человека по имени Александр Федорович Агиенко. Агиенко отличается от Святогора. Но Святогор, как инопланетный (интерпланетарный) захватчик тела Агиенко, взламывает это тело, взвулканивает его и отказывается себя от него отличать. Если хочешь, мы можем назвать это шизофренией — в прямом смысле этого слова, в смысле расщепления, схизмы. Святогор — это расщепление Агиенко, несущее в себе силу одностороннего различения. У нас в воображении возникает целая толпа, целая разбойничья шайка, телесное месиво: Агиенко-1, Святогор (и параллельно с ним существующий Агиенко-2, который подписывает этим именем тексты, помещенные в БИОкосмисте вместе с текстами Святогора), Святогор-СТЦ, Пересвет-Пересветов, Агиенко-3 (это уже нормализованный, остановленный в своем молниеносном движении шизофреник, «ублюдок», как называют это состояние Делез и Гваттари; хотя у меня есть робкая надежда на «стол Святогора», на то, что Агиенко, печатавший дежурную воинственно-атеистическую ерунду в «Антирелигиознике», продолжал расщепляться и писать святогоровское в стол). Если говорить о постреволюционной ситуации 20-х годов, то нужно сказать, что таких «космических шизофреников» тогда было немало. Вспомним, что Александр Богданов переводил «Инженера Мэнни» с марсианского на русский, говорил об участии марсиан в революционных событиях и выдвинул радикальнейшую идею соматического коммунизма, осуществляемого посредством общественного кровообращения. Братья Гордины — также весьма схизматичны. Они, например, подписывали тексты, написанные ими двумя, одним никнеймом «Товарищ Гордин», и у них было ещё с десяток имен. Они расщеплялись на отдельных Абу и Вольфа, расщеплялись внутри этих имён-тел, изобретали свои космические языки, занимались практическим «плавлением тела» — через своеобразный диетологический биохакинг. Из менее известных примеров можно назвать Вивиана Итина — сибирского писателя, революционера, путешественника, исследователя Арктики. В его повести «Страна Гонгури» главный герой, революционер по имени Гелий, обнаруживает в состоянии гипноза, что он никакой не Гелий, а инопланетное существо по имени Риэль — и именно Риэль с его памятью об иных мирах оказывается революционным субъектом. После выхода из гипноза тело главного героя, находящееся в тюрьме, долго не может разобраться в том, что же оно такое — Гелий или Риэль, и именует себя с расщепляющим удвоением Гелий-Риэль. Картины Первой мировой войны, описанные с точки зрения этого существа, производят очень сильное впечатление — эти картины тоже почти инопланетны.
Что стояло за этой постреволюционной коллективной — и радикально-коллективистской — шизофренией? Если говорить философским языком, то, как мне кажется, это и была сила одностороннего различения, толкающая к ускользанию от Тождественного, от Представления, от Образа / Образца (от Старого Мира). Что из этого получилось? «Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней». Что это нам сегодня даёт? Ясно, что не стоит воспринимать 10-20-е годы в России, или 60-70-е годы во Франции, или какие угодно ещё эпохи и события как образец для подражания. У ускользания от Образца нет образца.
Да, я с тобой солидарен относительно вопроса о необходимости экспериментального продолжения анархо-биокосмистского проекта. Собственно, в теоретическом плане я и пытаюсь это делать. В моих планах сейчас поиск, публикация и теоретический апгрейд (через предисловия, примечания и послесловия) текстов анархо-космистов (сейчас мы с Common Place готовим к печати утопии Братьев Гординых), мне ещё очень хочется до конца года написать большой историко-философский текст «Анархо-космизм», про всю эту шайку разбойников воображения. Кроме того, вызревает и «собственный» теоретический проект, в котором анархо-космисты выступят как союзники и как те самые «малые» авторы, но ими дело не ограничится, конечно. А вот как биокосмизм продолжить практически — сложный вопрос. Мне кажется, есть открытые сейчас возможности в искусстве (можно попробовать анархо-биокосмистский панк, например), в педагогике (Гордины были интересными педагогами-практиками), в программировании, геймификации и т.д. Политическое продолжение — самый сложный вопрос, мне кажется, ответ на него даётся в самых разных направлениях техно-анархизма, биохакинга, «крафтового космизма» и т.п. Вероятно, главной чертой этого политического продолжения должно быть что-то вроде «радикального оптимизма», который так хорошо описывается Дэвидом Гребером. Я бы даже сказал — «террористического оптимизма».
вас может заинтересовать

