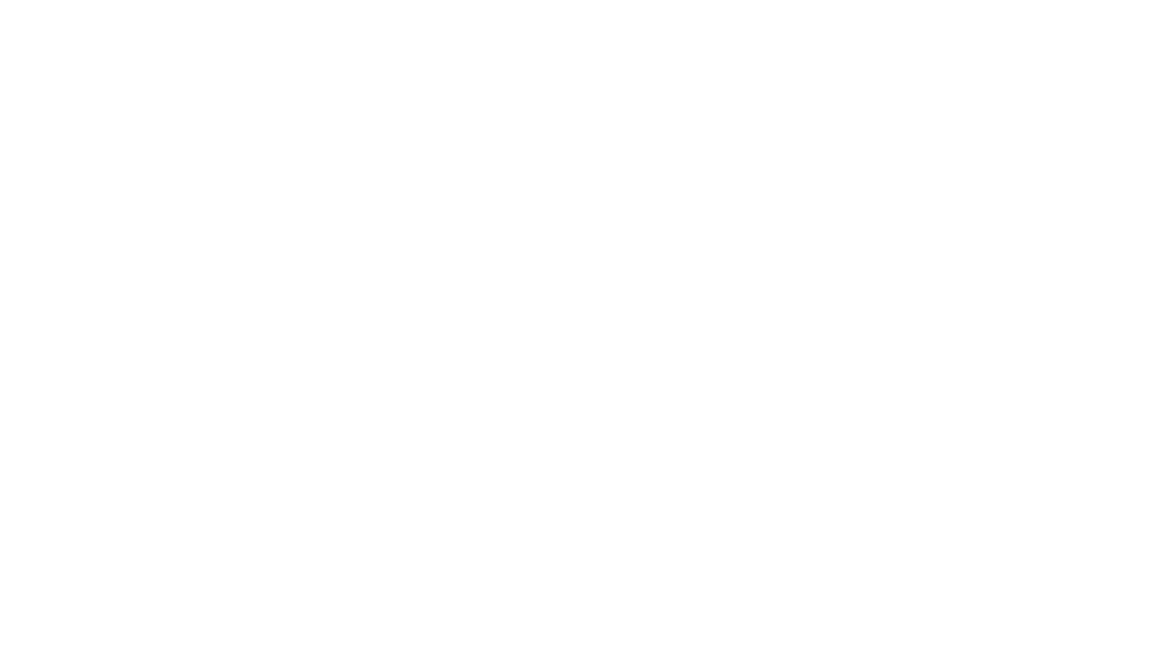
Воздух бескорыстной отрешенности
Публикуем интервью поэта и исследователя современной литературы Дениса Ларионова с поэтом и прозаиком Шамшадом Абдуллаевым, чья новая книга — полное собрание прозаических текстов — готовится к выходу в нашем издательстве. Для того, чтобы сборник добрался до читателей как можно скорее, мы запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.
ДЛ. Вы начали писать в середине восьмидесятых годов. А что было до этого?
ША. До этого была невероятно спокойная жизнь среди исключительно благополучных людей. Перед многими из них сегодня, уже ушедшими, чувствуешь вину — участь потерянного рая, который и есть настоящий рай, как учит нас хорошая книга. Чувствуешь вину перед теми, с кем делил общий опыт безотчетно прожитой настоящести. Так как едва ли мы надеемся тут на вмешательство и помощь сверхъестественной опеки, нам остается лишь знать, что теперь не вернутся к нам свет безнаказанности и стихийная радость (то есть то, что было до этого), в которых мы могли бы ощутить себя «султанами нашего существования».
Ферганcкая поэтическая школа стала одним из продуктивных мифов современной литературы и важным объектом академического изучения. Было ли это очевидно, когда она только собиралась, организовывалась?
Нет, не было очевидно, и к тому же мы вовсе не собирались, не организовывались ради какой-то школы. Наша дружба, наши беседы, наши встречи сорок — сорок пять лет назад развивались и разворачивались сами по себе, стихийно, без всяких планов и без всякого расчета на будущее. Термин «Ферганская школа» привилегированно принадлежит российским критикам. Мы сами никогда себя так не называли. Но теоретикам литературы виднее, именно они улавливают скрытые закономерности в эволюционных претензиях поэтического письма и литературные мифы, именно им дан дар точного узнавания невидимых существ в эстетике любой эпохи, которых Дьердь Лукач, кажется, называл ангелами призвания. В лучшем случае мы вправе определить нашу общность всего лишь группой («школа» все-таки всегда притязает быть частью какого-то крупного исторического движения: неореалисты вышли из итальянского Сопротивления, «окопные поэты» были детьми Великой войны, англо-американские имажисты принадлежали такому грандиозному феномену, как модернизм, маккьяйоли и скапильятура связаны с Рисорджименто, немецкий романтизм берет начало не в шеллингианской меланхолии, а в первую очередь во Французской революции и поражении в Пруссии наполеоновской армии).
На самом деле плодотворную несвоевременность нормального творчества и визионерства где угодно порождает отсутствие жизненной перспективы, когда ты не понимаешь своих видений, но знаешь, что ты видел их, как признался Рембо в письме Полю Демени. По сути, нас питал ситуативный и топографический тупик, залитый солнцем, мягкий, уютный, тупик, в котором время текло медленно, как некая целительная бесцельность, позволявшая нам грезить и даже иметь общий вкус, который представляет собой не просто разновидность судьбы, но и гонца, умеющего мчаться вперед вглубь произведения и возвращаться, чтобы сообщить нам: это отличный текст, можете его читать. В общем, мы возникли не в плодоносной почве, без какой-либо предыстории, как чертополох, который растет на пустыре, нами, кстати, воспетом.
Книга «Другой юг» целиком состоит из прозаических текстов. Где для вас располагается граница между прозой и поэзией? Возможно ли, что в процессе письма стихотворение становится рассказом и наоборот?
В идеале границы между ними нигде не располагаются. Их просто нет. Проза, правда, формально длится дольше. Они обе, проза и поэзия, состоят из одного вещества — из немотивированности, заставляющей нас испытывать интерес к жизни. Это своего рода магма, чья исконная срединность и чья эманация провокативно появляются из бесформия милостью принципиальной неопределенности авторского замысла. Мужчина и женщина в «Затмении» Антониони целуются через стекло, потому что они не читали крошечного верлибра Роже Жильбер-Леконта «Границы любви» («между губ поцелуя / стекло одиночества») и их окружала сплошная неопределенность как масштаб и место чистой свободы.
Однако между прозой и поэзией, разумеется, существуют неуловимые различия. В стихотворении есть элементы, чья эмфатическая выделенность в поэзии делает их незаметными в прозе, и, тем самым, своей незаметностью они приносят пользу тексту (в данном случае прозаическому), стремящемуся постоянно к неизбывному набуханию непроисшедшего. В стихах неслучившееся бывает явлено моментально; в прозе этот маневр тактически заторможен. Кроме того, поэзия эллиптична, в ней быстрая скорость обречена быть неузнанной в обширной вязкости прозы. Можно забросить, допустим, в роман Броха «Смерть Вергилия» реплику из поэзии Пазолини: «Что ни возьми, все остается нетронутым», — и она рискует остаться без читательского внимания. В прозе оптика крепится за счет паразитичности периферийного пространства, в то время как в стихотворении действует эффект вертикального обратного плана, взгляд со дна колодца. В поэзии авторское наблюдение перемещается из осязаемости предметов вверх, к анонимности именований; в прозе, наоборот, слежка смотрящего скользит с осязаемости предметов вниз к именованию анонимности. И так далее. Порой великолепная проза и великолепная поэзия сливаются, превращаясь в одно незамутненное бегство, которое не приемлет культурную дрессировку и шифры удовольствия, отличающиеся в разных эстетиках степенью читательской натаски.
Все, кто писали о вас, не могли пройти мимо темы кинематографа в ваших стихотворениях. Но, кажется, в вашей прозе кинематографический элемент еще более усилен: жизнь героев и мест, где они обитают, пронизана отношением к пространству и времени, которое характерно для кино. Поэтому возникает два связанных друг с другом вопроса. Считаете ли вы себя синефилом? Какую функцию несет столь явное включение элементов кинематографического универсума, беспрецедентное в современной поэзии?
Нет, не синефил. Скорее, зритель, все еще мечтающий о большом кинотеатре, о большом экране, о бобинной пленке, на которую когда-то не жалели серебра. Многие писатели: Райнхард Йиргль, Луис Гойтисоло, Хандке и другие — в своих текстах кинематографической пластикой пользуются как фамильярностью жеста, чтобы не сойти с ума, чтобы заслониться от неодолимой обыденности, от повседневной окружающей их тьмы египетской, от мысли, что достоверное может оказаться выше идеального. Самое неприятное в литературе, что в ней пишущему приходится говорить, приходится слышать собственный голос, но в текстах выигрывает не твой авторский голос, а гул, никому не принадлежащий, гул, который веет мимо читателя, куда-то в сторону.
Тем не менее существует тип наглядности, обитающий только в словах: «Вир будет виться под другими тенями, / не родившимися дрожать на освещенном русле». Это Беккет. Здесь нет авторского говорения, здесь гудит ничейный, вибрирующий остаток невозможности сказать, здесь нарциссическую ущербность голосистой литературы скрадывает и облагораживает глухая, неброская зримость просто увиденного. В принципе, мои фильмические предпочтения вызваны также тем, что кинематограф остается юным искусством и традиция в нем оборачивается не церемониальным местом (как литература), где встречаются живые и мертвые, а прежде всего преемственностью совпадений. Плюс пространство хорошего фильма избавляет нас от назидательной риторики и пафоса и предлагает нам поверхностную элементарность, это вечное алиби натурального, обильные клочья непрерывной явности, которые следует только перечислять на краю земли, не возвышая их. В конечном счете взаимодействие кино и литературы сводится к одному: некоторые фрагменты визуальной новации, взятые из фильма и перекочевавшие в литературный текст, ведут вовсе не к обогащению словесности, но к выходу из ее сюжетных и артикуляционных ловушек.
В ваших текстах часто упоминается музыка, главным образом группы и композиции золотой эры арт-рока. При этом, на мой взгляд, почти все они воспринимаются как органичная часть создаваемого/описываемого вами мира. Насколько это дань культурному контексту вашей юности, а насколько — «благая весть» из «долинной земли и южной хтонической меланхолии», к которым вы постоянно возвращаетесь в своих произведениях?
У каждого поколения свой опыт счастья. Наш материализовался как раз в англосаксонской рок-музыке классического десятилетия, ставшей источником нашей жизненной и галлюцинаторной радости. В шестидесятые-семидесятые годы именно с нею сплелось ощущение бесконечного времени для моих друзей. В «Другом юге» речь идет преимущественно о Фергане сорока-пятидесятилетней давности: нельзя было пройти мимо разговоров о кассетных записях и виниловых пластах, присущих витальной обстановке тех лет. Каким-то странным образом в этой музыке сохранились неделимая эфемерность и мемориальная плоть ферганских окраин того времени, поэтому я счел нужным свидетельствовать о ней, чтоб оттенить сквозь толщу прошлого лунатическое правдоподобие нашей местности той поры.
В ваших текстах часто говорится о невовлеченности в мир, неприкосновении к жизни. «Никакой психологии — только атмосфера и место». Могли бы вы рассказать об истоках — географических, культурных — такого подхода?
Есть искушение сослаться на географическое происхождение этого невмешательства, уточнить сугубо ферганскую автохтонность такого самоощущения. Тем более что здешние места были прибежищем чань-буддизма и вековой ауры суфийского кайфа. Вроде бы воздух бескорыстной отрешенности твоих предков давит на твой мозжечок. От точного попадания авторской рефлексии в зазор лирического беззакония кружится голова. В действительности сама культура переполнена подобным дружным и радушным невмешательством, подобной вызывающе незаинтересованной включенностью в мир — от Мейстера Экхарта и Новалиса, считавших не быть самовоссоединением (не не быть — тоже), до черного ворона Мацуо Басе, до смолистой птицы, чье сидение на ветке — самая интенсивная инерция напоказ, наделенная самой мощной подвижностью в мировой поэзии.
Идеальное стихотворение состоит из того, чего нет ни в нем, ни в природе, нет нигде. Благодаря этому отсутствующему первоисточнику текст становится свершившейся поэтической вещью. «Невмешательство» значит не доносить на реальность, но оставить ее в покое. Такая деликатность создает особую, крайне верткую, средне-среднюю дистанцию между наблюдателем и увиденным, зону пришибленного артистизма, в которой образуется узкая территория еле ощутимой промежуточности, всякий раз тончающей линии визионерского бессребреничества и нищелюбивой, сладчайшей безымянности, интервальный пробел, в котором слышны отнюдь не акустические заклятия, а сама неслышимость и давно отзвучавшие одновременно сдвоенные вопрос и ответ. Это все равно что ты слышишь, как не слышно солнечную пыль в летний полдень в твоей проветриваемой комнате. Здесь теряется необходимость в умножении избытка, это златоносность невзрачного, скудного на вид, но щедрого для исследовательской инициативы поэтической пристальности.
Во многих ваших текстах происходит наложение самых разных исторических периодов: древности и XIX века или модернистского XX века и — чего? Условного сегодня? Важна ли для вас точка настоящего времени (истории), отделенная от прошлого и направленная в будущее?
Любая историческая аллюзия нужна как маневр, как отвлекающий прием, как коннотация, как дополнительный шлейф. Такой трюк накопления материала, притворяющийся иной раз медитативной мистификацией. Главная задача ретроспекции — внушить тебе уверенность, что ты вернулся в утраченное и вправе теперь по-настоящему прожить стертый твоим беспамятством отрезок ситуативной мнимости. Этот императив рядится в такой тип метафоры, который прикидывается внимательностью, заставляющей увиденное получить привилегию восстать из пепла сейчас и вне времени.
Начиная с девяностых годов (а возможно, и ранее) вы публикуете проницательные толкования чужих стихов — как классиков модернизма, так и ваших товарищей по Ферганской школе. Что для вас значит столь пристальное чтение чужих текстов и взаимодействие с ними? И отличается ли оно от взаимодействия с кинематографом?
В такой работе важно угадать, как далеко заведет толкователя его комментаторский риск, лингвистическая авантюра его одинокого воображения. В данном случае засиять может не только изучаемый текст (или фильм; это одно и то же — слежка за кинематографическим субстратом или за потоком слов, который тянется вслед за берегами чтения), но и наглость въедливого селекционера уцелевших останков расчлененного Орфея. Интерес к герменевтическому сверлению небольших кусков письма у меня возник в юности, в 1976 году, когда мне попала в руки книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис». Могу признать правомочность всеохватного взгляда на универсальную непрерывность литературного процесса, но следовать за такой оптикой — дело других, склонных к гигантомании. Вряд ли получится у меня свести разнородные имена истории литературы к одной закономерности моего личного идеализма. Мне удобней фокусирование на отдельности фигуры и на странных приключениях сугубо автономной избирательности. Каждый раз, приступая к исследованию конкретного текста, не знаешь, чем оно закончится; это гораздо слаще, чем заранее подготовить план работы. Ты словно совершаешь ненадолго путешествие за пределы земной жизни и возвращаешься вспять. Испытываешь прилив счастья, когда внутренний импульс — всегда внезапно — велит тебе выбрать для комментария именно этот определенный текст. В момент подобного выбора тебя непременно охватывает дрожь. Это состояние совсем не похоже на психофизический фимиам в твоем мозгу, а скорее на договор с некой личностью внутри тебя, о существовании которой ты не подозреваешь. Не знаю, кто это. Может, он — наш общий герменевтический бог?
Существуют ли в современной литературе авторы, которые, на ваш взгляд, испытали влияние Ферганской школы письма? Или это невозможно?
Надеюсь, что не существуют.
ША. До этого была невероятно спокойная жизнь среди исключительно благополучных людей. Перед многими из них сегодня, уже ушедшими, чувствуешь вину — участь потерянного рая, который и есть настоящий рай, как учит нас хорошая книга. Чувствуешь вину перед теми, с кем делил общий опыт безотчетно прожитой настоящести. Так как едва ли мы надеемся тут на вмешательство и помощь сверхъестественной опеки, нам остается лишь знать, что теперь не вернутся к нам свет безнаказанности и стихийная радость (то есть то, что было до этого), в которых мы могли бы ощутить себя «султанами нашего существования».
Ферганcкая поэтическая школа стала одним из продуктивных мифов современной литературы и важным объектом академического изучения. Было ли это очевидно, когда она только собиралась, организовывалась?
Нет, не было очевидно, и к тому же мы вовсе не собирались, не организовывались ради какой-то школы. Наша дружба, наши беседы, наши встречи сорок — сорок пять лет назад развивались и разворачивались сами по себе, стихийно, без всяких планов и без всякого расчета на будущее. Термин «Ферганская школа» привилегированно принадлежит российским критикам. Мы сами никогда себя так не называли. Но теоретикам литературы виднее, именно они улавливают скрытые закономерности в эволюционных претензиях поэтического письма и литературные мифы, именно им дан дар точного узнавания невидимых существ в эстетике любой эпохи, которых Дьердь Лукач, кажется, называл ангелами призвания. В лучшем случае мы вправе определить нашу общность всего лишь группой («школа» все-таки всегда притязает быть частью какого-то крупного исторического движения: неореалисты вышли из итальянского Сопротивления, «окопные поэты» были детьми Великой войны, англо-американские имажисты принадлежали такому грандиозному феномену, как модернизм, маккьяйоли и скапильятура связаны с Рисорджименто, немецкий романтизм берет начало не в шеллингианской меланхолии, а в первую очередь во Французской революции и поражении в Пруссии наполеоновской армии).
На самом деле плодотворную несвоевременность нормального творчества и визионерства где угодно порождает отсутствие жизненной перспективы, когда ты не понимаешь своих видений, но знаешь, что ты видел их, как признался Рембо в письме Полю Демени. По сути, нас питал ситуативный и топографический тупик, залитый солнцем, мягкий, уютный, тупик, в котором время текло медленно, как некая целительная бесцельность, позволявшая нам грезить и даже иметь общий вкус, который представляет собой не просто разновидность судьбы, но и гонца, умеющего мчаться вперед вглубь произведения и возвращаться, чтобы сообщить нам: это отличный текст, можете его читать. В общем, мы возникли не в плодоносной почве, без какой-либо предыстории, как чертополох, который растет на пустыре, нами, кстати, воспетом.
Книга «Другой юг» целиком состоит из прозаических текстов. Где для вас располагается граница между прозой и поэзией? Возможно ли, что в процессе письма стихотворение становится рассказом и наоборот?
В идеале границы между ними нигде не располагаются. Их просто нет. Проза, правда, формально длится дольше. Они обе, проза и поэзия, состоят из одного вещества — из немотивированности, заставляющей нас испытывать интерес к жизни. Это своего рода магма, чья исконная срединность и чья эманация провокативно появляются из бесформия милостью принципиальной неопределенности авторского замысла. Мужчина и женщина в «Затмении» Антониони целуются через стекло, потому что они не читали крошечного верлибра Роже Жильбер-Леконта «Границы любви» («между губ поцелуя / стекло одиночества») и их окружала сплошная неопределенность как масштаб и место чистой свободы.
Однако между прозой и поэзией, разумеется, существуют неуловимые различия. В стихотворении есть элементы, чья эмфатическая выделенность в поэзии делает их незаметными в прозе, и, тем самым, своей незаметностью они приносят пользу тексту (в данном случае прозаическому), стремящемуся постоянно к неизбывному набуханию непроисшедшего. В стихах неслучившееся бывает явлено моментально; в прозе этот маневр тактически заторможен. Кроме того, поэзия эллиптична, в ней быстрая скорость обречена быть неузнанной в обширной вязкости прозы. Можно забросить, допустим, в роман Броха «Смерть Вергилия» реплику из поэзии Пазолини: «Что ни возьми, все остается нетронутым», — и она рискует остаться без читательского внимания. В прозе оптика крепится за счет паразитичности периферийного пространства, в то время как в стихотворении действует эффект вертикального обратного плана, взгляд со дна колодца. В поэзии авторское наблюдение перемещается из осязаемости предметов вверх, к анонимности именований; в прозе, наоборот, слежка смотрящего скользит с осязаемости предметов вниз к именованию анонимности. И так далее. Порой великолепная проза и великолепная поэзия сливаются, превращаясь в одно незамутненное бегство, которое не приемлет культурную дрессировку и шифры удовольствия, отличающиеся в разных эстетиках степенью читательской натаски.
Все, кто писали о вас, не могли пройти мимо темы кинематографа в ваших стихотворениях. Но, кажется, в вашей прозе кинематографический элемент еще более усилен: жизнь героев и мест, где они обитают, пронизана отношением к пространству и времени, которое характерно для кино. Поэтому возникает два связанных друг с другом вопроса. Считаете ли вы себя синефилом? Какую функцию несет столь явное включение элементов кинематографического универсума, беспрецедентное в современной поэзии?
Нет, не синефил. Скорее, зритель, все еще мечтающий о большом кинотеатре, о большом экране, о бобинной пленке, на которую когда-то не жалели серебра. Многие писатели: Райнхард Йиргль, Луис Гойтисоло, Хандке и другие — в своих текстах кинематографической пластикой пользуются как фамильярностью жеста, чтобы не сойти с ума, чтобы заслониться от неодолимой обыденности, от повседневной окружающей их тьмы египетской, от мысли, что достоверное может оказаться выше идеального. Самое неприятное в литературе, что в ней пишущему приходится говорить, приходится слышать собственный голос, но в текстах выигрывает не твой авторский голос, а гул, никому не принадлежащий, гул, который веет мимо читателя, куда-то в сторону.
Тем не менее существует тип наглядности, обитающий только в словах: «Вир будет виться под другими тенями, / не родившимися дрожать на освещенном русле». Это Беккет. Здесь нет авторского говорения, здесь гудит ничейный, вибрирующий остаток невозможности сказать, здесь нарциссическую ущербность голосистой литературы скрадывает и облагораживает глухая, неброская зримость просто увиденного. В принципе, мои фильмические предпочтения вызваны также тем, что кинематограф остается юным искусством и традиция в нем оборачивается не церемониальным местом (как литература), где встречаются живые и мертвые, а прежде всего преемственностью совпадений. Плюс пространство хорошего фильма избавляет нас от назидательной риторики и пафоса и предлагает нам поверхностную элементарность, это вечное алиби натурального, обильные клочья непрерывной явности, которые следует только перечислять на краю земли, не возвышая их. В конечном счете взаимодействие кино и литературы сводится к одному: некоторые фрагменты визуальной новации, взятые из фильма и перекочевавшие в литературный текст, ведут вовсе не к обогащению словесности, но к выходу из ее сюжетных и артикуляционных ловушек.
В ваших текстах часто упоминается музыка, главным образом группы и композиции золотой эры арт-рока. При этом, на мой взгляд, почти все они воспринимаются как органичная часть создаваемого/описываемого вами мира. Насколько это дань культурному контексту вашей юности, а насколько — «благая весть» из «долинной земли и южной хтонической меланхолии», к которым вы постоянно возвращаетесь в своих произведениях?
У каждого поколения свой опыт счастья. Наш материализовался как раз в англосаксонской рок-музыке классического десятилетия, ставшей источником нашей жизненной и галлюцинаторной радости. В шестидесятые-семидесятые годы именно с нею сплелось ощущение бесконечного времени для моих друзей. В «Другом юге» речь идет преимущественно о Фергане сорока-пятидесятилетней давности: нельзя было пройти мимо разговоров о кассетных записях и виниловых пластах, присущих витальной обстановке тех лет. Каким-то странным образом в этой музыке сохранились неделимая эфемерность и мемориальная плоть ферганских окраин того времени, поэтому я счел нужным свидетельствовать о ней, чтоб оттенить сквозь толщу прошлого лунатическое правдоподобие нашей местности той поры.
В ваших текстах часто говорится о невовлеченности в мир, неприкосновении к жизни. «Никакой психологии — только атмосфера и место». Могли бы вы рассказать об истоках — географических, культурных — такого подхода?
Есть искушение сослаться на географическое происхождение этого невмешательства, уточнить сугубо ферганскую автохтонность такого самоощущения. Тем более что здешние места были прибежищем чань-буддизма и вековой ауры суфийского кайфа. Вроде бы воздух бескорыстной отрешенности твоих предков давит на твой мозжечок. От точного попадания авторской рефлексии в зазор лирического беззакония кружится голова. В действительности сама культура переполнена подобным дружным и радушным невмешательством, подобной вызывающе незаинтересованной включенностью в мир — от Мейстера Экхарта и Новалиса, считавших не быть самовоссоединением (не не быть — тоже), до черного ворона Мацуо Басе, до смолистой птицы, чье сидение на ветке — самая интенсивная инерция напоказ, наделенная самой мощной подвижностью в мировой поэзии.
Идеальное стихотворение состоит из того, чего нет ни в нем, ни в природе, нет нигде. Благодаря этому отсутствующему первоисточнику текст становится свершившейся поэтической вещью. «Невмешательство» значит не доносить на реальность, но оставить ее в покое. Такая деликатность создает особую, крайне верткую, средне-среднюю дистанцию между наблюдателем и увиденным, зону пришибленного артистизма, в которой образуется узкая территория еле ощутимой промежуточности, всякий раз тончающей линии визионерского бессребреничества и нищелюбивой, сладчайшей безымянности, интервальный пробел, в котором слышны отнюдь не акустические заклятия, а сама неслышимость и давно отзвучавшие одновременно сдвоенные вопрос и ответ. Это все равно что ты слышишь, как не слышно солнечную пыль в летний полдень в твоей проветриваемой комнате. Здесь теряется необходимость в умножении избытка, это златоносность невзрачного, скудного на вид, но щедрого для исследовательской инициативы поэтической пристальности.
Во многих ваших текстах происходит наложение самых разных исторических периодов: древности и XIX века или модернистского XX века и — чего? Условного сегодня? Важна ли для вас точка настоящего времени (истории), отделенная от прошлого и направленная в будущее?
Любая историческая аллюзия нужна как маневр, как отвлекающий прием, как коннотация, как дополнительный шлейф. Такой трюк накопления материала, притворяющийся иной раз медитативной мистификацией. Главная задача ретроспекции — внушить тебе уверенность, что ты вернулся в утраченное и вправе теперь по-настоящему прожить стертый твоим беспамятством отрезок ситуативной мнимости. Этот императив рядится в такой тип метафоры, который прикидывается внимательностью, заставляющей увиденное получить привилегию восстать из пепла сейчас и вне времени.
Начиная с девяностых годов (а возможно, и ранее) вы публикуете проницательные толкования чужих стихов — как классиков модернизма, так и ваших товарищей по Ферганской школе. Что для вас значит столь пристальное чтение чужих текстов и взаимодействие с ними? И отличается ли оно от взаимодействия с кинематографом?
В такой работе важно угадать, как далеко заведет толкователя его комментаторский риск, лингвистическая авантюра его одинокого воображения. В данном случае засиять может не только изучаемый текст (или фильм; это одно и то же — слежка за кинематографическим субстратом или за потоком слов, который тянется вслед за берегами чтения), но и наглость въедливого селекционера уцелевших останков расчлененного Орфея. Интерес к герменевтическому сверлению небольших кусков письма у меня возник в юности, в 1976 году, когда мне попала в руки книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис». Могу признать правомочность всеохватного взгляда на универсальную непрерывность литературного процесса, но следовать за такой оптикой — дело других, склонных к гигантомании. Вряд ли получится у меня свести разнородные имена истории литературы к одной закономерности моего личного идеализма. Мне удобней фокусирование на отдельности фигуры и на странных приключениях сугубо автономной избирательности. Каждый раз, приступая к исследованию конкретного текста, не знаешь, чем оно закончится; это гораздо слаще, чем заранее подготовить план работы. Ты словно совершаешь ненадолго путешествие за пределы земной жизни и возвращаешься вспять. Испытываешь прилив счастья, когда внутренний импульс — всегда внезапно — велит тебе выбрать для комментария именно этот определенный текст. В момент подобного выбора тебя непременно охватывает дрожь. Это состояние совсем не похоже на психофизический фимиам в твоем мозгу, а скорее на договор с некой личностью внутри тебя, о существовании которой ты не подозреваешь. Не знаю, кто это. Может, он — наш общий герменевтический бог?
Существуют ли в современной литературе авторы, которые, на ваш взгляд, испытали влияние Ферганской школы письма? Или это невозможно?
Надеюсь, что не существуют.
вас может заинтересовать
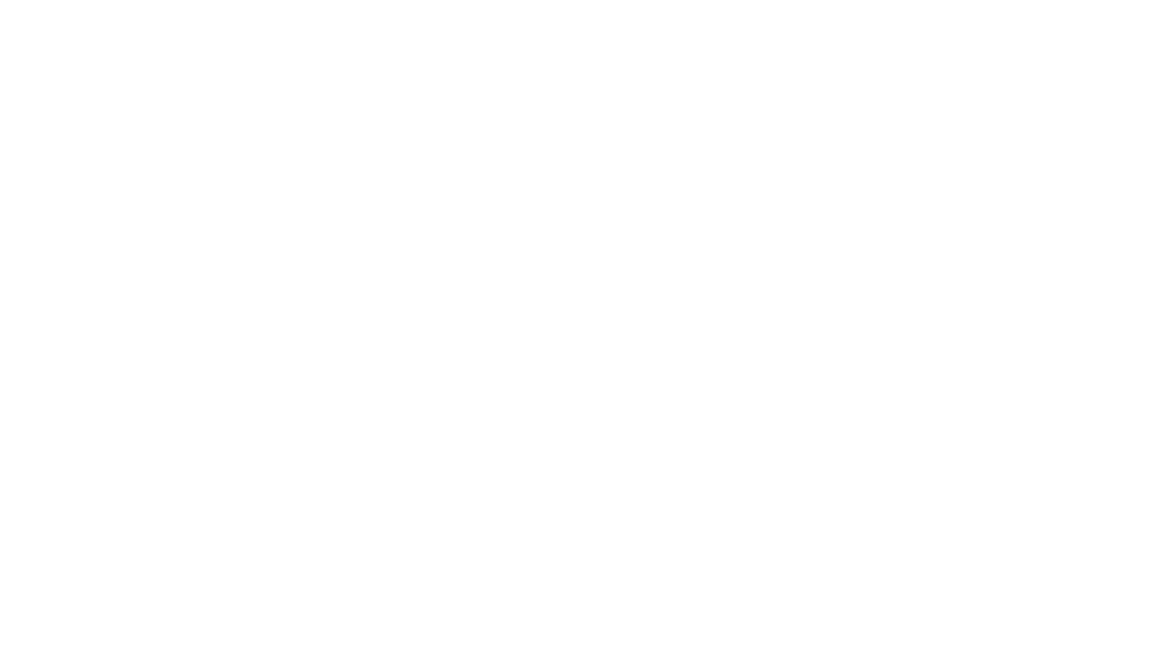
Воздух бескорыстной отрешенности
Публикуем интервью поэта и исследователя современной литературы Дениса Ларионова с поэтом и прозаиком Шамшадом Абдуллаевым, чья новая книга — полное собрание прозаических текстов — готовится к выходу в нашем издательстве. Для того, чтобы сборник добрался до читателей как можно скорее, мы запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru.
ДЛ. Вы начали писать в середине восьмидесятых годов. А что было до этого?
ША. До этого была невероятно спокойная жизнь среди исключительно благополучных людей. Перед многими из них сегодня, уже ушедшими, чувствуешь вину — участь потерянного рая, который и есть настоящий рай, как учит нас хорошая книга. Чувствуешь вину перед теми, с кем делил общий опыт безотчетно прожитой настоящести. Так как едва ли мы надеемся тут на вмешательство и помощь сверхъестественной опеки, нам остается лишь знать, что теперь не вернутся к нам свет безнаказанности и стихийная радость (то есть то, что было до этого), в которых мы могли бы ощутить себя «султанами нашего существования».
Ферганcкая поэтическая школа стала одним из продуктивных мифов современной литературы и важным объектом академического изучения. Было ли это очевидно, когда она только собиралась, организовывалась?
Нет, не было очевидно, и к тому же мы вовсе не собирались, не организовывались ради какой-то школы. Наша дружба, наши беседы, наши встречи сорок — сорок пять лет назад развивались и разворачивались сами по себе, стихийно, без всяких планов и без всякого расчета на будущее. Термин «Ферганская школа» привилегированно принадлежит российским критикам. Мы сами никогда себя так не называли. Но теоретикам литературы виднее, именно они улавливают скрытые закономерности в эволюционных претензиях поэтического письма и литературные мифы, именно им дан дар точного узнавания невидимых существ в эстетике любой эпохи, которых Дьердь Лукач, кажется, называл ангелами призвания. В лучшем случае мы вправе определить нашу общность всего лишь группой («школа» все-таки всегда притязает быть частью какого-то крупного исторического движения: неореалисты вышли из итальянского Сопротивления, «окопные поэты» были детьми Великой войны, англо-американские имажисты принадлежали такому грандиозному феномену, как модернизм, маккьяйоли и скапильятура связаны с Рисорджименто, немецкий романтизм берет начало не в шеллингианской меланхолии, а в первую очередь во Французской революции и поражении в Пруссии наполеоновской армии).
На самом деле плодотворную несвоевременность нормального творчества и визионерства где угодно порождает отсутствие жизненной перспективы, когда ты не понимаешь своих видений, но знаешь, что ты видел их, как признался Рембо в письме Полю Демени. По сути, нас питал ситуативный и топографический тупик, залитый солнцем, мягкий, уютный, тупик, в котором время текло медленно, как некая целительная бесцельность, позволявшая нам грезить и даже иметь общий вкус, который представляет собой не просто разновидность судьбы, но и гонца, умеющего мчаться вперед вглубь произведения и возвращаться, чтобы сообщить нам: это отличный текст, можете его читать. В общем, мы возникли не в плодоносной почве, без какой-либо предыстории, как чертополох, который растет на пустыре, нами, кстати, воспетом.
Книга «Другой юг» целиком состоит из прозаических текстов. Где для вас располагается граница между прозой и поэзией? Возможно ли, что в процессе письма стихотворение становится рассказом и наоборот?
В идеале границы между ними нигде не располагаются. Их просто нет. Проза, правда, формально длится дольше. Они обе, проза и поэзия, состоят из одного вещества — из немотивированности, заставляющей нас испытывать интерес к жизни. Это своего рода магма, чья исконная срединность и чья эманация провокативно появляются из бесформия милостью принципиальной неопределенности авторского замысла. Мужчина и женщина в «Затмении» Антониони целуются через стекло, потому что они не читали крошечного верлибра Роже Жильбер-Леконта «Границы любви» («между губ поцелуя / стекло одиночества») и их окружала сплошная неопределенность как масштаб и место чистой свободы.
Однако между прозой и поэзией, разумеется, существуют неуловимые различия. В стихотворении есть элементы, чья эмфатическая выделенность в поэзии делает их незаметными в прозе, и, тем самым, своей незаметностью они приносят пользу тексту (в данном случае прозаическому), стремящемуся постоянно к неизбывному набуханию непроисшедшего. В стихах неслучившееся бывает явлено моментально; в прозе этот маневр тактически заторможен. Кроме того, поэзия эллиптична, в ней быстрая скорость обречена быть неузнанной в обширной вязкости прозы. Можно забросить, допустим, в роман Броха «Смерть Вергилия» реплику из поэзии Пазолини: «Что ни возьми, все остается нетронутым», — и она рискует остаться без читательского внимания. В прозе оптика крепится за счет паразитичности периферийного пространства, в то время как в стихотворении действует эффект вертикального обратного плана, взгляд со дна колодца. В поэзии авторское наблюдение перемещается из осязаемости предметов вверх, к анонимности именований; в прозе, наоборот, слежка смотрящего скользит с осязаемости предметов вниз к именованию анонимности. И так далее. Порой великолепная проза и великолепная поэзия сливаются, превращаясь в одно незамутненное бегство, которое не приемлет культурную дрессировку и шифры удовольствия, отличающиеся в разных эстетиках степенью читательской натаски.
Все, кто писали о вас, не могли пройти мимо темы кинематографа в ваших стихотворениях. Но, кажется, в вашей прозе кинематографический элемент еще более усилен: жизнь героев и мест, где они обитают, пронизана отношением к пространству и времени, которое характерно для кино. Поэтому возникает два связанных друг с другом вопроса. Считаете ли вы себя синефилом? Какую функцию несет столь явное включение элементов кинематографического универсума, беспрецедентное в современной поэзии?
Нет, не синефил. Скорее, зритель, все еще мечтающий о большом кинотеатре, о большом экране, о бобинной пленке, на которую когда-то не жалели серебра. Многие писатели: Райнхард Йиргль, Луис Гойтисоло, Хандке и другие — в своих текстах кинематографической пластикой пользуются как фамильярностью жеста, чтобы не сойти с ума, чтобы заслониться от неодолимой обыденности, от повседневной окружающей их тьмы египетской, от мысли, что достоверное может оказаться выше идеального. Самое неприятное в литературе, что в ней пишущему приходится говорить, приходится слышать собственный голос, но в текстах выигрывает не твой авторский голос, а гул, никому не принадлежащий, гул, который веет мимо читателя, куда-то в сторону.
Тем не менее существует тип наглядности, обитающий только в словах: «Вир будет виться под другими тенями, / не родившимися дрожать на освещенном русле». Это Беккет. Здесь нет авторского говорения, здесь гудит ничейный, вибрирующий остаток невозможности сказать, здесь нарциссическую ущербность голосистой литературы скрадывает и облагораживает глухая, неброская зримость просто увиденного. В принципе, мои фильмические предпочтения вызваны также тем, что кинематограф остается юным искусством и традиция в нем оборачивается не церемониальным местом (как литература), где встречаются живые и мертвые, а прежде всего преемственностью совпадений. Плюс пространство хорошего фильма избавляет нас от назидательной риторики и пафоса и предлагает нам поверхностную элементарность, это вечное алиби натурального, обильные клочья непрерывной явности, которые следует только перечислять на краю земли, не возвышая их. В конечном счете взаимодействие кино и литературы сводится к одному: некоторые фрагменты визуальной новации, взятые из фильма и перекочевавшие в литературный текст, ведут вовсе не к обогащению словесности, но к выходу из ее сюжетных и артикуляционных ловушек.
В ваших текстах часто упоминается музыка, главным образом группы и композиции золотой эры арт-рока. При этом, на мой взгляд, почти все они воспринимаются как органичная часть создаваемого/описываемого вами мира. Насколько это дань культурному контексту вашей юности, а насколько — «благая весть» из «долинной земли и южной хтонической меланхолии», к которым вы постоянно возвращаетесь в своих произведениях?
У каждого поколения свой опыт счастья. Наш материализовался как раз в англосаксонской рок-музыке классического десятилетия, ставшей источником нашей жизненной и галлюцинаторной радости. В шестидесятые-семидесятые годы именно с нею сплелось ощущение бесконечного времени для моих друзей. В «Другом юге» речь идет преимущественно о Фергане сорока-пятидесятилетней давности: нельзя было пройти мимо разговоров о кассетных записях и виниловых пластах, присущих витальной обстановке тех лет. Каким-то странным образом в этой музыке сохранились неделимая эфемерность и мемориальная плоть ферганских окраин того времени, поэтому я счел нужным свидетельствовать о ней, чтоб оттенить сквозь толщу прошлого лунатическое правдоподобие нашей местности той поры.
В ваших текстах часто говорится о невовлеченности в мир, неприкосновении к жизни. «Никакой психологии — только атмосфера и место». Могли бы вы рассказать об истоках — географических, культурных — такого подхода?
Есть искушение сослаться на географическое происхождение этого невмешательства, уточнить сугубо ферганскую автохтонность такого самоощущения. Тем более что здешние места были прибежищем чань-буддизма и вековой ауры суфийского кайфа. Вроде бы воздух бескорыстной отрешенности твоих предков давит на твой мозжечок. От точного попадания авторской рефлексии в зазор лирического беззакония кружится голова. В действительности сама культура переполнена подобным дружным и радушным невмешательством, подобной вызывающе незаинтересованной включенностью в мир — от Мейстера Экхарта и Новалиса, считавших не быть самовоссоединением (не не быть — тоже), до черного ворона Мацуо Басе, до смолистой птицы, чье сидение на ветке — самая интенсивная инерция напоказ, наделенная самой мощной подвижностью в мировой поэзии.
Идеальное стихотворение состоит из того, чего нет ни в нем, ни в природе, нет нигде. Благодаря этому отсутствующему первоисточнику текст становится свершившейся поэтической вещью. «Невмешательство» значит не доносить на реальность, но оставить ее в покое. Такая деликатность создает особую, крайне верткую, средне-среднюю дистанцию между наблюдателем и увиденным, зону пришибленного артистизма, в которой образуется узкая территория еле ощутимой промежуточности, всякий раз тончающей линии визионерского бессребреничества и нищелюбивой, сладчайшей безымянности, интервальный пробел, в котором слышны отнюдь не акустические заклятия, а сама неслышимость и давно отзвучавшие одновременно сдвоенные вопрос и ответ. Это все равно что ты слышишь, как не слышно солнечную пыль в летний полдень в твоей проветриваемой комнате. Здесь теряется необходимость в умножении избытка, это златоносность невзрачного, скудного на вид, но щедрого для исследовательской инициативы поэтической пристальности.
Во многих ваших текстах происходит наложение самых разных исторических периодов: древности и XIX века или модернистского XX века и — чего? Условного сегодня? Важна ли для вас точка настоящего времени (истории), отделенная от прошлого и направленная в будущее?
Любая историческая аллюзия нужна как маневр, как отвлекающий прием, как коннотация, как дополнительный шлейф. Такой трюк накопления материала, притворяющийся иной раз медитативной мистификацией. Главная задача ретроспекции — внушить тебе уверенность, что ты вернулся в утраченное и вправе теперь по-настоящему прожить стертый твоим беспамятством отрезок ситуативной мнимости. Этот императив рядится в такой тип метафоры, который прикидывается внимательностью, заставляющей увиденное получить привилегию восстать из пепла сейчас и вне времени.
Начиная с девяностых годов (а возможно, и ранее) вы публикуете проницательные толкования чужих стихов — как классиков модернизма, так и ваших товарищей по Ферганской школе. Что для вас значит столь пристальное чтение чужих текстов и взаимодействие с ними? И отличается ли оно от взаимодействия с кинематографом?
В такой работе важно угадать, как далеко заведет толкователя его комментаторский риск, лингвистическая авантюра его одинокого воображения. В данном случае засиять может не только изучаемый текст (или фильм; это одно и то же — слежка за кинематографическим субстратом или за потоком слов, который тянется вслед за берегами чтения), но и наглость въедливого селекционера уцелевших останков расчлененного Орфея. Интерес к герменевтическому сверлению небольших кусков письма у меня возник в юности, в 1976 году, когда мне попала в руки книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис». Могу признать правомочность всеохватного взгляда на универсальную непрерывность литературного процесса, но следовать за такой оптикой — дело других, склонных к гигантомании. Вряд ли получится у меня свести разнородные имена истории литературы к одной закономерности моего личного идеализма. Мне удобней фокусирование на отдельности фигуры и на странных приключениях сугубо автономной избирательности. Каждый раз, приступая к исследованию конкретного текста, не знаешь, чем оно закончится; это гораздо слаще, чем заранее подготовить план работы. Ты словно совершаешь ненадолго путешествие за пределы земной жизни и возвращаешься вспять. Испытываешь прилив счастья, когда внутренний импульс — всегда внезапно — велит тебе выбрать для комментария именно этот определенный текст. В момент подобного выбора тебя непременно охватывает дрожь. Это состояние совсем не похоже на психофизический фимиам в твоем мозгу, а скорее на договор с некой личностью внутри тебя, о существовании которой ты не подозреваешь. Не знаю, кто это. Может, он — наш общий герменевтический бог?
Существуют ли в современной литературе авторы, которые, на ваш взгляд, испытали влияние Ферганской школы письма? Или это невозможно?
Надеюсь, что не существуют.
ША. До этого была невероятно спокойная жизнь среди исключительно благополучных людей. Перед многими из них сегодня, уже ушедшими, чувствуешь вину — участь потерянного рая, который и есть настоящий рай, как учит нас хорошая книга. Чувствуешь вину перед теми, с кем делил общий опыт безотчетно прожитой настоящести. Так как едва ли мы надеемся тут на вмешательство и помощь сверхъестественной опеки, нам остается лишь знать, что теперь не вернутся к нам свет безнаказанности и стихийная радость (то есть то, что было до этого), в которых мы могли бы ощутить себя «султанами нашего существования».
Ферганcкая поэтическая школа стала одним из продуктивных мифов современной литературы и важным объектом академического изучения. Было ли это очевидно, когда она только собиралась, организовывалась?
Нет, не было очевидно, и к тому же мы вовсе не собирались, не организовывались ради какой-то школы. Наша дружба, наши беседы, наши встречи сорок — сорок пять лет назад развивались и разворачивались сами по себе, стихийно, без всяких планов и без всякого расчета на будущее. Термин «Ферганская школа» привилегированно принадлежит российским критикам. Мы сами никогда себя так не называли. Но теоретикам литературы виднее, именно они улавливают скрытые закономерности в эволюционных претензиях поэтического письма и литературные мифы, именно им дан дар точного узнавания невидимых существ в эстетике любой эпохи, которых Дьердь Лукач, кажется, называл ангелами призвания. В лучшем случае мы вправе определить нашу общность всего лишь группой («школа» все-таки всегда притязает быть частью какого-то крупного исторического движения: неореалисты вышли из итальянского Сопротивления, «окопные поэты» были детьми Великой войны, англо-американские имажисты принадлежали такому грандиозному феномену, как модернизм, маккьяйоли и скапильятура связаны с Рисорджименто, немецкий романтизм берет начало не в шеллингианской меланхолии, а в первую очередь во Французской революции и поражении в Пруссии наполеоновской армии).
На самом деле плодотворную несвоевременность нормального творчества и визионерства где угодно порождает отсутствие жизненной перспективы, когда ты не понимаешь своих видений, но знаешь, что ты видел их, как признался Рембо в письме Полю Демени. По сути, нас питал ситуативный и топографический тупик, залитый солнцем, мягкий, уютный, тупик, в котором время текло медленно, как некая целительная бесцельность, позволявшая нам грезить и даже иметь общий вкус, который представляет собой не просто разновидность судьбы, но и гонца, умеющего мчаться вперед вглубь произведения и возвращаться, чтобы сообщить нам: это отличный текст, можете его читать. В общем, мы возникли не в плодоносной почве, без какой-либо предыстории, как чертополох, который растет на пустыре, нами, кстати, воспетом.
Книга «Другой юг» целиком состоит из прозаических текстов. Где для вас располагается граница между прозой и поэзией? Возможно ли, что в процессе письма стихотворение становится рассказом и наоборот?
В идеале границы между ними нигде не располагаются. Их просто нет. Проза, правда, формально длится дольше. Они обе, проза и поэзия, состоят из одного вещества — из немотивированности, заставляющей нас испытывать интерес к жизни. Это своего рода магма, чья исконная срединность и чья эманация провокативно появляются из бесформия милостью принципиальной неопределенности авторского замысла. Мужчина и женщина в «Затмении» Антониони целуются через стекло, потому что они не читали крошечного верлибра Роже Жильбер-Леконта «Границы любви» («между губ поцелуя / стекло одиночества») и их окружала сплошная неопределенность как масштаб и место чистой свободы.
Однако между прозой и поэзией, разумеется, существуют неуловимые различия. В стихотворении есть элементы, чья эмфатическая выделенность в поэзии делает их незаметными в прозе, и, тем самым, своей незаметностью они приносят пользу тексту (в данном случае прозаическому), стремящемуся постоянно к неизбывному набуханию непроисшедшего. В стихах неслучившееся бывает явлено моментально; в прозе этот маневр тактически заторможен. Кроме того, поэзия эллиптична, в ней быстрая скорость обречена быть неузнанной в обширной вязкости прозы. Можно забросить, допустим, в роман Броха «Смерть Вергилия» реплику из поэзии Пазолини: «Что ни возьми, все остается нетронутым», — и она рискует остаться без читательского внимания. В прозе оптика крепится за счет паразитичности периферийного пространства, в то время как в стихотворении действует эффект вертикального обратного плана, взгляд со дна колодца. В поэзии авторское наблюдение перемещается из осязаемости предметов вверх, к анонимности именований; в прозе, наоборот, слежка смотрящего скользит с осязаемости предметов вниз к именованию анонимности. И так далее. Порой великолепная проза и великолепная поэзия сливаются, превращаясь в одно незамутненное бегство, которое не приемлет культурную дрессировку и шифры удовольствия, отличающиеся в разных эстетиках степенью читательской натаски.
Все, кто писали о вас, не могли пройти мимо темы кинематографа в ваших стихотворениях. Но, кажется, в вашей прозе кинематографический элемент еще более усилен: жизнь героев и мест, где они обитают, пронизана отношением к пространству и времени, которое характерно для кино. Поэтому возникает два связанных друг с другом вопроса. Считаете ли вы себя синефилом? Какую функцию несет столь явное включение элементов кинематографического универсума, беспрецедентное в современной поэзии?
Нет, не синефил. Скорее, зритель, все еще мечтающий о большом кинотеатре, о большом экране, о бобинной пленке, на которую когда-то не жалели серебра. Многие писатели: Райнхард Йиргль, Луис Гойтисоло, Хандке и другие — в своих текстах кинематографической пластикой пользуются как фамильярностью жеста, чтобы не сойти с ума, чтобы заслониться от неодолимой обыденности, от повседневной окружающей их тьмы египетской, от мысли, что достоверное может оказаться выше идеального. Самое неприятное в литературе, что в ней пишущему приходится говорить, приходится слышать собственный голос, но в текстах выигрывает не твой авторский голос, а гул, никому не принадлежащий, гул, который веет мимо читателя, куда-то в сторону.
Тем не менее существует тип наглядности, обитающий только в словах: «Вир будет виться под другими тенями, / не родившимися дрожать на освещенном русле». Это Беккет. Здесь нет авторского говорения, здесь гудит ничейный, вибрирующий остаток невозможности сказать, здесь нарциссическую ущербность голосистой литературы скрадывает и облагораживает глухая, неброская зримость просто увиденного. В принципе, мои фильмические предпочтения вызваны также тем, что кинематограф остается юным искусством и традиция в нем оборачивается не церемониальным местом (как литература), где встречаются живые и мертвые, а прежде всего преемственностью совпадений. Плюс пространство хорошего фильма избавляет нас от назидательной риторики и пафоса и предлагает нам поверхностную элементарность, это вечное алиби натурального, обильные клочья непрерывной явности, которые следует только перечислять на краю земли, не возвышая их. В конечном счете взаимодействие кино и литературы сводится к одному: некоторые фрагменты визуальной новации, взятые из фильма и перекочевавшие в литературный текст, ведут вовсе не к обогащению словесности, но к выходу из ее сюжетных и артикуляционных ловушек.
В ваших текстах часто упоминается музыка, главным образом группы и композиции золотой эры арт-рока. При этом, на мой взгляд, почти все они воспринимаются как органичная часть создаваемого/описываемого вами мира. Насколько это дань культурному контексту вашей юности, а насколько — «благая весть» из «долинной земли и южной хтонической меланхолии», к которым вы постоянно возвращаетесь в своих произведениях?
У каждого поколения свой опыт счастья. Наш материализовался как раз в англосаксонской рок-музыке классического десятилетия, ставшей источником нашей жизненной и галлюцинаторной радости. В шестидесятые-семидесятые годы именно с нею сплелось ощущение бесконечного времени для моих друзей. В «Другом юге» речь идет преимущественно о Фергане сорока-пятидесятилетней давности: нельзя было пройти мимо разговоров о кассетных записях и виниловых пластах, присущих витальной обстановке тех лет. Каким-то странным образом в этой музыке сохранились неделимая эфемерность и мемориальная плоть ферганских окраин того времени, поэтому я счел нужным свидетельствовать о ней, чтоб оттенить сквозь толщу прошлого лунатическое правдоподобие нашей местности той поры.
В ваших текстах часто говорится о невовлеченности в мир, неприкосновении к жизни. «Никакой психологии — только атмосфера и место». Могли бы вы рассказать об истоках — географических, культурных — такого подхода?
Есть искушение сослаться на географическое происхождение этого невмешательства, уточнить сугубо ферганскую автохтонность такого самоощущения. Тем более что здешние места были прибежищем чань-буддизма и вековой ауры суфийского кайфа. Вроде бы воздух бескорыстной отрешенности твоих предков давит на твой мозжечок. От точного попадания авторской рефлексии в зазор лирического беззакония кружится голова. В действительности сама культура переполнена подобным дружным и радушным невмешательством, подобной вызывающе незаинтересованной включенностью в мир — от Мейстера Экхарта и Новалиса, считавших не быть самовоссоединением (не не быть — тоже), до черного ворона Мацуо Басе, до смолистой птицы, чье сидение на ветке — самая интенсивная инерция напоказ, наделенная самой мощной подвижностью в мировой поэзии.
Идеальное стихотворение состоит из того, чего нет ни в нем, ни в природе, нет нигде. Благодаря этому отсутствующему первоисточнику текст становится свершившейся поэтической вещью. «Невмешательство» значит не доносить на реальность, но оставить ее в покое. Такая деликатность создает особую, крайне верткую, средне-среднюю дистанцию между наблюдателем и увиденным, зону пришибленного артистизма, в которой образуется узкая территория еле ощутимой промежуточности, всякий раз тончающей линии визионерского бессребреничества и нищелюбивой, сладчайшей безымянности, интервальный пробел, в котором слышны отнюдь не акустические заклятия, а сама неслышимость и давно отзвучавшие одновременно сдвоенные вопрос и ответ. Это все равно что ты слышишь, как не слышно солнечную пыль в летний полдень в твоей проветриваемой комнате. Здесь теряется необходимость в умножении избытка, это златоносность невзрачного, скудного на вид, но щедрого для исследовательской инициативы поэтической пристальности.
Во многих ваших текстах происходит наложение самых разных исторических периодов: древности и XIX века или модернистского XX века и — чего? Условного сегодня? Важна ли для вас точка настоящего времени (истории), отделенная от прошлого и направленная в будущее?
Любая историческая аллюзия нужна как маневр, как отвлекающий прием, как коннотация, как дополнительный шлейф. Такой трюк накопления материала, притворяющийся иной раз медитативной мистификацией. Главная задача ретроспекции — внушить тебе уверенность, что ты вернулся в утраченное и вправе теперь по-настоящему прожить стертый твоим беспамятством отрезок ситуативной мнимости. Этот императив рядится в такой тип метафоры, который прикидывается внимательностью, заставляющей увиденное получить привилегию восстать из пепла сейчас и вне времени.
Начиная с девяностых годов (а возможно, и ранее) вы публикуете проницательные толкования чужих стихов — как классиков модернизма, так и ваших товарищей по Ферганской школе. Что для вас значит столь пристальное чтение чужих текстов и взаимодействие с ними? И отличается ли оно от взаимодействия с кинематографом?
В такой работе важно угадать, как далеко заведет толкователя его комментаторский риск, лингвистическая авантюра его одинокого воображения. В данном случае засиять может не только изучаемый текст (или фильм; это одно и то же — слежка за кинематографическим субстратом или за потоком слов, который тянется вслед за берегами чтения), но и наглость въедливого селекционера уцелевших останков расчлененного Орфея. Интерес к герменевтическому сверлению небольших кусков письма у меня возник в юности, в 1976 году, когда мне попала в руки книга Эриха Ауэрбаха «Мимесис». Могу признать правомочность всеохватного взгляда на универсальную непрерывность литературного процесса, но следовать за такой оптикой — дело других, склонных к гигантомании. Вряд ли получится у меня свести разнородные имена истории литературы к одной закономерности моего личного идеализма. Мне удобней фокусирование на отдельности фигуры и на странных приключениях сугубо автономной избирательности. Каждый раз, приступая к исследованию конкретного текста, не знаешь, чем оно закончится; это гораздо слаще, чем заранее подготовить план работы. Ты словно совершаешь ненадолго путешествие за пределы земной жизни и возвращаешься вспять. Испытываешь прилив счастья, когда внутренний импульс — всегда внезапно — велит тебе выбрать для комментария именно этот определенный текст. В момент подобного выбора тебя непременно охватывает дрожь. Это состояние совсем не похоже на психофизический фимиам в твоем мозгу, а скорее на договор с некой личностью внутри тебя, о существовании которой ты не подозреваешь. Не знаю, кто это. Может, он — наш общий герменевтический бог?
Существуют ли в современной литературе авторы, которые, на ваш взгляд, испытали влияние Ферганской школы письма? Или это невозможно?
Надеюсь, что не существуют.
вас может заинтересовать

