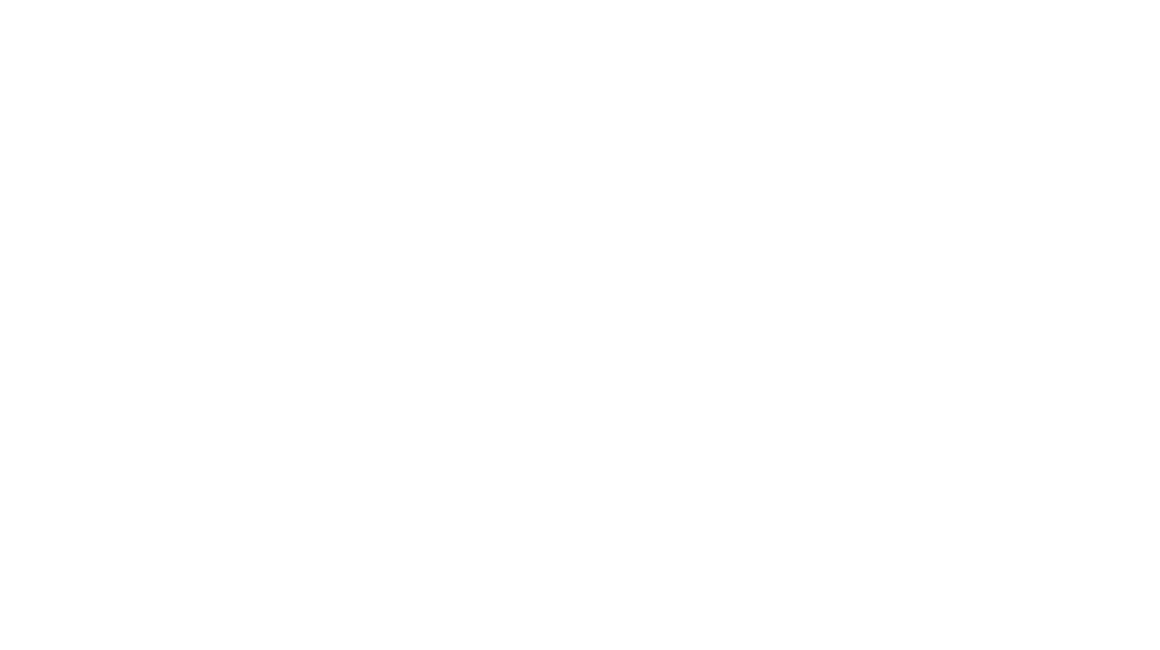
Вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной
Писатель Данил Леховицер поговорил с куратором литературной программы Центра Вознесенского Ильей Данишевским об издательском проекте «Центрифуга»
ДЛ: Илья, в одном интервью ты говорил, что культура — это всегда сражение. За что сражается «Центрифуга»?
ИД: Сейчас в первую очередь — за возможность издавать стихи, за преодоление экономического коллапса, который ждет культуру как самое некоммерциализированное, трудное для интеграции рекламы пространство. Наверное, настаивать на чем-либо (например, что стихи продолжают существовать и это важно) — всегда сражение, но я все же говорил в первую очередь о текстах, о том, что они всегда за что-то или против чего-то, а «Центрифуга», например, просто не мешает им.
ДЛ: Если не брать в расчет текущую пандемическую ситуацию, как бы ты охарактеризовал ту же самую борьбу, но два-три месяца назад?
ИД: онцепция заключается в том, что каждая книжка сражается за разное, то есть мы не выбрали один вектор борьбы, а сразу согласились, что будем печатать по решению редакционной коллегии совершенно разных авторов и, соответственно, поддерживать их борьбу. То есть наш процесс выбора — это консенсус трех голосов. Мы согласились, что будем рассматривать совершенно разные края поэзии, и там могут быть совершенно разные битвы. Понятно, за что сражается Лида Юсупова, а Василий Бородин — явно эстетическое сражение, как и Ростислав Амелин.
ДЛ: В редколлегию входишь ты, Мария Степанова и Лев Оборин. По каким критериям каждый из вас выбирает тот или иной текст, который соответствует общему ядру проекта?
ИД: В первую очередь те книжки, которые нам вот прям сейчас хотелось бы почитать. Мы накидали списки, наложили их и нашли пересечения. Когда мы летом это придумали, у нас был сразу достаточно обширный список. И, главное, мы хотим переводные книжки.
ДЛ: Не могу не спросить: в условиях закрытых границ, отправленных на карантин учреждений и обнуления 2020-го на каком этапе сейчас проект? Он приостановился?
ИД: Нет, он не приостановился, просто слегка растянулся во времени из-за изменения логистики, из-за времени, которое каждому из нас требуется на перестройку.
ДЛ: Первые два сборника, Анны Глазовой и Ростислава Амелина, должны были выйти в прошлом месяце. Когда они должны выйти теперь?
ИД: Думаю, теперь осенью выйдут все книжки сразу.
ДЛ: Мы говорили, что каждый сборник — это пространство борьбы. Какая борьба у Глазовой и какая у Амелина?
ИД: У Амелина — как раз пойти наперекор всей повестке актуальной поэзии. Он написал фантастический иллюстрированный эпос в стихах. Это штука практически на границе с комиксами, его задача — сделать некий поп-проект в хорошем смысле слова «поп». У этого фантастического эпоса уже есть сиквел, созданная «Вики» и так далее. Это компьютерная игра, по которой еще не сделали компьютерную игру.
Стихи Глазовой, мне кажется, — это попытка создания моста: утраченный русский модерн и как модерн мог бы сегодня себя чувствовать. Для меня это похоже на утренние поэтические страницы, прямой разговор с бессознательным, когда человек просто фиксирует всю свою подсознательную реальность и складывает из этого притчу. Когда я писал про ее прошлую книгу, первое, с чем мне хотелось ее сравнить, — это «Погребенный великан» Исигуро, хотя это странное сравнение, конечно.
ДЛ: Такая археологическая работа — это зебальдовский проект?
ИД: Нет, мне так не кажется. Это сновидческий, притчевый подход, способ показать память как раз не зебальдовским методом. Зебальд пытается ее объективизировать, пытается найти артефакты. То есть подлинность — существующая категория у Зебальда, а Исигуро показывает простроенный фэнтези-сеттинг, специально антиподлинный с самого начала и на уровне языка, и на уровне фактуры. Подлинность неважна для него, по крайней мере визуальная. Там невозможна фотография, артефакты, невозможно найти что-то конкретное в этой памяти.
ДЛ: Вы говорили о сотрудничестве с Премией Драгомощенко, а в прошлом году ее выиграл львовский поэт Даниил Задорожный. Собираетесь ли вы расширять фронтир в пацифистском смысле этого слова, будут ли в серии украинские поэты?
ИД: По квотам нет, но они возможны.
ДЛ: Кого вы хотели втянуть в издательскую орбиту «Центрифуги» и вместе с тем в русскую читательскую биографию? Какие это иностранные и неизвестные нам авторы?
ИД: В первую очередь, Вальжина Морт, на которую мы пристально смотрим. У нас даже есть оговоренные тайминги (следующий год) на получение этой книжки и ее перевода. Также выйдет Янкелевич.
У нас большой список, но, так как книжки выходят по две, важно делать их каждый раз слегка противоречащими друг другу. Когда мы говорим: «Вася Бородин и Лида Юсупова», мы видим совершенно эстетический проект первого и собранную мозаику из судебных показаний у второй. Нам важно эти книжки друг с другом противоречиво сочетать.
ДЛ: Кому бы ты противопоставил Вальжину Морт с ее онтологическим подходом?
ИД: Жадану в первую очередь. Мы говорили про Зебальда и различный методологический подход к механизмам памяти — у Вальжины Морт и Жадана тоже методологически разный подход к материалу.
ДЛ: Ты упомянул недавно в интервью, что издание поэзии в России тебе кажется занятием безуспешным. Как ты думаешь, это когда-нибудь может измениться?
ИД: Нет, не может. Экзистенциальный вопрос: «А чтобы что?» вообще важный вопрос для всех поэтов. Мне понятно, зачем они пишут, а издавать, чтобы что? И очень интересно, как разные поэты на это реагируют. Для чего они издают книжки, для чего выкладывают тексты в соцсеть? Большинство поэтов не очень хотят вокруг себя ежедневную стаю поклонников, а сама идея издания книги очень на это похожа. Ведь мы издаем, чтобы вокруг нас что-то собиралось. Речь не о капиталистическом превращении одного в другое, но о смысле этого сгущения, которое происходит после реализации текста. Если я не знаю, для чего точно оно происходит, какие у меня могут быть надежды?
ДЛ: Возможно ли в России добиться хоть сколько-то похожей западной модели, чтобы, кроме писателей П. и С., кто-то получал хоть сколько-то приличные гонорары, как, условно, Салли Руни, которая действительно может там зарабатывать только творчеством?
ИД: Чем лучше отлажена инфраструктура, тем большее количество ее звеньев получает деньги. Происходит селекция, лишние звенья отламываются из-за какого-то технологического изменения, а все остальные звенья получают свои деньги. Сейчас все технологии будут полностью изменены, и это тоже способ для авторов найти новый язык и новый способ коммуникации. На самом деле катастрофа добавляет драйва литературе и любому искусству. Но это не про помощь в заработке, это просто про самоценную перемену.
ДЛ: И какие, по-твоему, это должны быть технологии?
ИД: Это может быть что угодно, просто это эпоха перемен. Каждому сейчас придется разобраться, как он существует. Больше не будут работать те инерционные процессы, что вот он написал книжку, книжка вышла, две презентации отработали, пишем дальше. Сейчас все будет существовать как-то иначе. И это очень любопытно. В первую очередь Инстаграм, интеграция текста и соцсетей, создание из соцсетей какого-то литературного проекта, так как сейчас это наиболее доступно и не требует ни нарушения карантина, ни дополнительных вложений.
ДЛ: То есть, по-твоему, произойдет диджитализация?
ИД: Я говорю о коллаборации. Но коллаборация требует двух людей, и, поскольку сейчас это все осложнено, главная коллаборация, конечно, будет с машиной. Карантин символически — это такая штука для принуждения к контакту с новыми инструментами.
ДЛ: Уже выходят какие-то поэтические тексты, рефлексии на тему карантина, которые в виде диджитализации с ней работают? И не думали ли о таком проекте?
ИД: Амелин пытается работать с этим, но он как раз пытается игнорировать и карантин, и коронавирус. Его интересует вообще сшитие себя с диджитальным пространством. Вообще, по-моему, Амелина интересует коллаборация со всем на свете. Если ты спрашиваешь про карантин, то да, мне уже в ленте попадались какие-то сборники коронавирусные. Я не уверен, насколько это актуально, мне как раз кажется, что нет.
ДЛ: Читать про карантин?
ИД: Я их не открывал, поэтому не знаю, про карантин ли там и социальные перемены. Я думаю, там, скорее, просто какие-то агитки против коронавируса, как гимн Рязани против коронавируса.
ДЛ: Я тебя хотел спросить, может, это аберрация моей новостной ленты, но мне кажется, что словосочетание «современная русская поэзия» и тему насилия произносят через запятую. Насилие как вездесущая темная потенциальность тоже будет присутствовать в текстах издательского портфеля «Центрифуги»?
ИД: Будет, в первую очередь, Лида Юсупова, ее тексты, сделанные из судебных приговоров в делах по насилию над женщинами. Но странно, что ты сказал об этом так, будто эта тема появилась только сейчас. А «Илиада» разве не про массовое насилие?
ДЛ: Сейчас это не так живописно, как бойня под Троей. Сейчас это разбросано по квартирам, по интернету, по Сети…
ИД: Потому что меняются социальные формы, наша социальность. Сейчас битва под Троей невозможна. Но логически, мне кажется, это абсолютно одно и то же. Лида Юсупова, которая дает голос этим женщинам, — такая же война, просто спрятанная на кухне, и сейчас из-за карантина более разгоряченная. Мы видим растущую статистику насилия, которая вспыхнула из-за того, что люди оказались в герметичных пространствах. Так что да, эта тема будет затронута в той или иной степени.
Да и вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной.
ДЛ: А тексты феминистского порядка, которые поднимают тему домашнего насилия, различные техники агрессии со стороны патриархального общества и так далее, будут еще? Что-то похожее на Юсупову, например Рымбу, Костылева?
ИД: Рымбу будет. Костылева — к концу следующего года, если соберет книжку. Мы не выдавливаем из контекста, они не производят тексты под нас, мы говорим о том, что у кого-то уже есть собранный материал. Мы очень хотим Фанайлову, которая написала огромный цикл про Украину «Троя vs. Лисистрата».
ДЛ: Мы с тобой говорим про сегодня, а у меня есть чувство, что настоящее и будущее культуры действительно не готовит ничего, кроме повторения, в том числе поэтических литературных практик. Как ты считаешь, тексты, которые будут выходить в «Центрифуге», способны уловить эту настоящность.
ИД: Да, мне кажется, они именно что способны уловить настоящее, но насколько они новые по отношению к Гомеру — другой вопрос. Меняется способ коммуникации с реальностью, адаптируясь под наши новые технологии, новые желания человечества. Какая-нибудь Грета Тунберг маловероятна в Античности или в Средние века. Это новый взгляд на реальность, и поэзия быстро схватывает и рефлексирует.
ДЛ: Я хотел еще спросить про сращивание гейм-индустрии и поэтической формы. Как это для тебя возможно?
ИД: Последнее, что случилось в гейм-индустрии, доказало, что это новый вектор современного искусства: саунд становится не декоративным, а приглашаются современные композиторы, современные художники работают над дизайном. Это становится похожим на фестивальное кино, где каждый элемент добавляется в общую картину не декоративно, а смыслово. И понятно, что литература может многое тут добавить. Мартин уже пишет сеттинг для Миадзаки. Это путь к современному искусству. Важно, кто это сделал и кто поучаствовал, а не что это за игра. Здесь возможна коллаборация с поэзией как самочувствующим нервом реальности. Но здесь будут те, кто способен адаптировать свой язык под это. Вообще, гейм-индустрия почему-то любопытнее в последнее время, чем литература.
ИД: Сейчас в первую очередь — за возможность издавать стихи, за преодоление экономического коллапса, который ждет культуру как самое некоммерциализированное, трудное для интеграции рекламы пространство. Наверное, настаивать на чем-либо (например, что стихи продолжают существовать и это важно) — всегда сражение, но я все же говорил в первую очередь о текстах, о том, что они всегда за что-то или против чего-то, а «Центрифуга», например, просто не мешает им.
ДЛ: Если не брать в расчет текущую пандемическую ситуацию, как бы ты охарактеризовал ту же самую борьбу, но два-три месяца назад?
ИД: онцепция заключается в том, что каждая книжка сражается за разное, то есть мы не выбрали один вектор борьбы, а сразу согласились, что будем печатать по решению редакционной коллегии совершенно разных авторов и, соответственно, поддерживать их борьбу. То есть наш процесс выбора — это консенсус трех голосов. Мы согласились, что будем рассматривать совершенно разные края поэзии, и там могут быть совершенно разные битвы. Понятно, за что сражается Лида Юсупова, а Василий Бородин — явно эстетическое сражение, как и Ростислав Амелин.
ДЛ: В редколлегию входишь ты, Мария Степанова и Лев Оборин. По каким критериям каждый из вас выбирает тот или иной текст, который соответствует общему ядру проекта?
ИД: В первую очередь те книжки, которые нам вот прям сейчас хотелось бы почитать. Мы накидали списки, наложили их и нашли пересечения. Когда мы летом это придумали, у нас был сразу достаточно обширный список. И, главное, мы хотим переводные книжки.
ДЛ: Не могу не спросить: в условиях закрытых границ, отправленных на карантин учреждений и обнуления 2020-го на каком этапе сейчас проект? Он приостановился?
ИД: Нет, он не приостановился, просто слегка растянулся во времени из-за изменения логистики, из-за времени, которое каждому из нас требуется на перестройку.
ДЛ: Первые два сборника, Анны Глазовой и Ростислава Амелина, должны были выйти в прошлом месяце. Когда они должны выйти теперь?
ИД: Думаю, теперь осенью выйдут все книжки сразу.
ДЛ: Мы говорили, что каждый сборник — это пространство борьбы. Какая борьба у Глазовой и какая у Амелина?
ИД: У Амелина — как раз пойти наперекор всей повестке актуальной поэзии. Он написал фантастический иллюстрированный эпос в стихах. Это штука практически на границе с комиксами, его задача — сделать некий поп-проект в хорошем смысле слова «поп». У этого фантастического эпоса уже есть сиквел, созданная «Вики» и так далее. Это компьютерная игра, по которой еще не сделали компьютерную игру.
Стихи Глазовой, мне кажется, — это попытка создания моста: утраченный русский модерн и как модерн мог бы сегодня себя чувствовать. Для меня это похоже на утренние поэтические страницы, прямой разговор с бессознательным, когда человек просто фиксирует всю свою подсознательную реальность и складывает из этого притчу. Когда я писал про ее прошлую книгу, первое, с чем мне хотелось ее сравнить, — это «Погребенный великан» Исигуро, хотя это странное сравнение, конечно.
ДЛ: Такая археологическая работа — это зебальдовский проект?
ИД: Нет, мне так не кажется. Это сновидческий, притчевый подход, способ показать память как раз не зебальдовским методом. Зебальд пытается ее объективизировать, пытается найти артефакты. То есть подлинность — существующая категория у Зебальда, а Исигуро показывает простроенный фэнтези-сеттинг, специально антиподлинный с самого начала и на уровне языка, и на уровне фактуры. Подлинность неважна для него, по крайней мере визуальная. Там невозможна фотография, артефакты, невозможно найти что-то конкретное в этой памяти.
ДЛ: Вы говорили о сотрудничестве с Премией Драгомощенко, а в прошлом году ее выиграл львовский поэт Даниил Задорожный. Собираетесь ли вы расширять фронтир в пацифистском смысле этого слова, будут ли в серии украинские поэты?
ИД: По квотам нет, но они возможны.
ДЛ: Кого вы хотели втянуть в издательскую орбиту «Центрифуги» и вместе с тем в русскую читательскую биографию? Какие это иностранные и неизвестные нам авторы?
ИД: В первую очередь, Вальжина Морт, на которую мы пристально смотрим. У нас даже есть оговоренные тайминги (следующий год) на получение этой книжки и ее перевода. Также выйдет Янкелевич.
У нас большой список, но, так как книжки выходят по две, важно делать их каждый раз слегка противоречащими друг другу. Когда мы говорим: «Вася Бородин и Лида Юсупова», мы видим совершенно эстетический проект первого и собранную мозаику из судебных показаний у второй. Нам важно эти книжки друг с другом противоречиво сочетать.
ДЛ: Кому бы ты противопоставил Вальжину Морт с ее онтологическим подходом?
ИД: Жадану в первую очередь. Мы говорили про Зебальда и различный методологический подход к механизмам памяти — у Вальжины Морт и Жадана тоже методологически разный подход к материалу.
ДЛ: Ты упомянул недавно в интервью, что издание поэзии в России тебе кажется занятием безуспешным. Как ты думаешь, это когда-нибудь может измениться?
ИД: Нет, не может. Экзистенциальный вопрос: «А чтобы что?» вообще важный вопрос для всех поэтов. Мне понятно, зачем они пишут, а издавать, чтобы что? И очень интересно, как разные поэты на это реагируют. Для чего они издают книжки, для чего выкладывают тексты в соцсеть? Большинство поэтов не очень хотят вокруг себя ежедневную стаю поклонников, а сама идея издания книги очень на это похожа. Ведь мы издаем, чтобы вокруг нас что-то собиралось. Речь не о капиталистическом превращении одного в другое, но о смысле этого сгущения, которое происходит после реализации текста. Если я не знаю, для чего точно оно происходит, какие у меня могут быть надежды?
ДЛ: Возможно ли в России добиться хоть сколько-то похожей западной модели, чтобы, кроме писателей П. и С., кто-то получал хоть сколько-то приличные гонорары, как, условно, Салли Руни, которая действительно может там зарабатывать только творчеством?
ИД: Чем лучше отлажена инфраструктура, тем большее количество ее звеньев получает деньги. Происходит селекция, лишние звенья отламываются из-за какого-то технологического изменения, а все остальные звенья получают свои деньги. Сейчас все технологии будут полностью изменены, и это тоже способ для авторов найти новый язык и новый способ коммуникации. На самом деле катастрофа добавляет драйва литературе и любому искусству. Но это не про помощь в заработке, это просто про самоценную перемену.
ДЛ: И какие, по-твоему, это должны быть технологии?
ИД: Это может быть что угодно, просто это эпоха перемен. Каждому сейчас придется разобраться, как он существует. Больше не будут работать те инерционные процессы, что вот он написал книжку, книжка вышла, две презентации отработали, пишем дальше. Сейчас все будет существовать как-то иначе. И это очень любопытно. В первую очередь Инстаграм, интеграция текста и соцсетей, создание из соцсетей какого-то литературного проекта, так как сейчас это наиболее доступно и не требует ни нарушения карантина, ни дополнительных вложений.
ДЛ: То есть, по-твоему, произойдет диджитализация?
ИД: Я говорю о коллаборации. Но коллаборация требует двух людей, и, поскольку сейчас это все осложнено, главная коллаборация, конечно, будет с машиной. Карантин символически — это такая штука для принуждения к контакту с новыми инструментами.
ДЛ: Уже выходят какие-то поэтические тексты, рефлексии на тему карантина, которые в виде диджитализации с ней работают? И не думали ли о таком проекте?
ИД: Амелин пытается работать с этим, но он как раз пытается игнорировать и карантин, и коронавирус. Его интересует вообще сшитие себя с диджитальным пространством. Вообще, по-моему, Амелина интересует коллаборация со всем на свете. Если ты спрашиваешь про карантин, то да, мне уже в ленте попадались какие-то сборники коронавирусные. Я не уверен, насколько это актуально, мне как раз кажется, что нет.
ДЛ: Читать про карантин?
ИД: Я их не открывал, поэтому не знаю, про карантин ли там и социальные перемены. Я думаю, там, скорее, просто какие-то агитки против коронавируса, как гимн Рязани против коронавируса.
ДЛ: Я тебя хотел спросить, может, это аберрация моей новостной ленты, но мне кажется, что словосочетание «современная русская поэзия» и тему насилия произносят через запятую. Насилие как вездесущая темная потенциальность тоже будет присутствовать в текстах издательского портфеля «Центрифуги»?
ИД: Будет, в первую очередь, Лида Юсупова, ее тексты, сделанные из судебных приговоров в делах по насилию над женщинами. Но странно, что ты сказал об этом так, будто эта тема появилась только сейчас. А «Илиада» разве не про массовое насилие?
ДЛ: Сейчас это не так живописно, как бойня под Троей. Сейчас это разбросано по квартирам, по интернету, по Сети…
ИД: Потому что меняются социальные формы, наша социальность. Сейчас битва под Троей невозможна. Но логически, мне кажется, это абсолютно одно и то же. Лида Юсупова, которая дает голос этим женщинам, — такая же война, просто спрятанная на кухне, и сейчас из-за карантина более разгоряченная. Мы видим растущую статистику насилия, которая вспыхнула из-за того, что люди оказались в герметичных пространствах. Так что да, эта тема будет затронута в той или иной степени.
Да и вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной.
ДЛ: А тексты феминистского порядка, которые поднимают тему домашнего насилия, различные техники агрессии со стороны патриархального общества и так далее, будут еще? Что-то похожее на Юсупову, например Рымбу, Костылева?
ИД: Рымбу будет. Костылева — к концу следующего года, если соберет книжку. Мы не выдавливаем из контекста, они не производят тексты под нас, мы говорим о том, что у кого-то уже есть собранный материал. Мы очень хотим Фанайлову, которая написала огромный цикл про Украину «Троя vs. Лисистрата».
ДЛ: Мы с тобой говорим про сегодня, а у меня есть чувство, что настоящее и будущее культуры действительно не готовит ничего, кроме повторения, в том числе поэтических литературных практик. Как ты считаешь, тексты, которые будут выходить в «Центрифуге», способны уловить эту настоящность.
ИД: Да, мне кажется, они именно что способны уловить настоящее, но насколько они новые по отношению к Гомеру — другой вопрос. Меняется способ коммуникации с реальностью, адаптируясь под наши новые технологии, новые желания человечества. Какая-нибудь Грета Тунберг маловероятна в Античности или в Средние века. Это новый взгляд на реальность, и поэзия быстро схватывает и рефлексирует.
ДЛ: Я хотел еще спросить про сращивание гейм-индустрии и поэтической формы. Как это для тебя возможно?
ИД: Последнее, что случилось в гейм-индустрии, доказало, что это новый вектор современного искусства: саунд становится не декоративным, а приглашаются современные композиторы, современные художники работают над дизайном. Это становится похожим на фестивальное кино, где каждый элемент добавляется в общую картину не декоративно, а смыслово. И понятно, что литература может многое тут добавить. Мартин уже пишет сеттинг для Миадзаки. Это путь к современному искусству. Важно, кто это сделал и кто поучаствовал, а не что это за игра. Здесь возможна коллаборация с поэзией как самочувствующим нервом реальности. Но здесь будут те, кто способен адаптировать свой язык под это. Вообще, гейм-индустрия почему-то любопытнее в последнее время, чем литература.
вас может заинтересовать
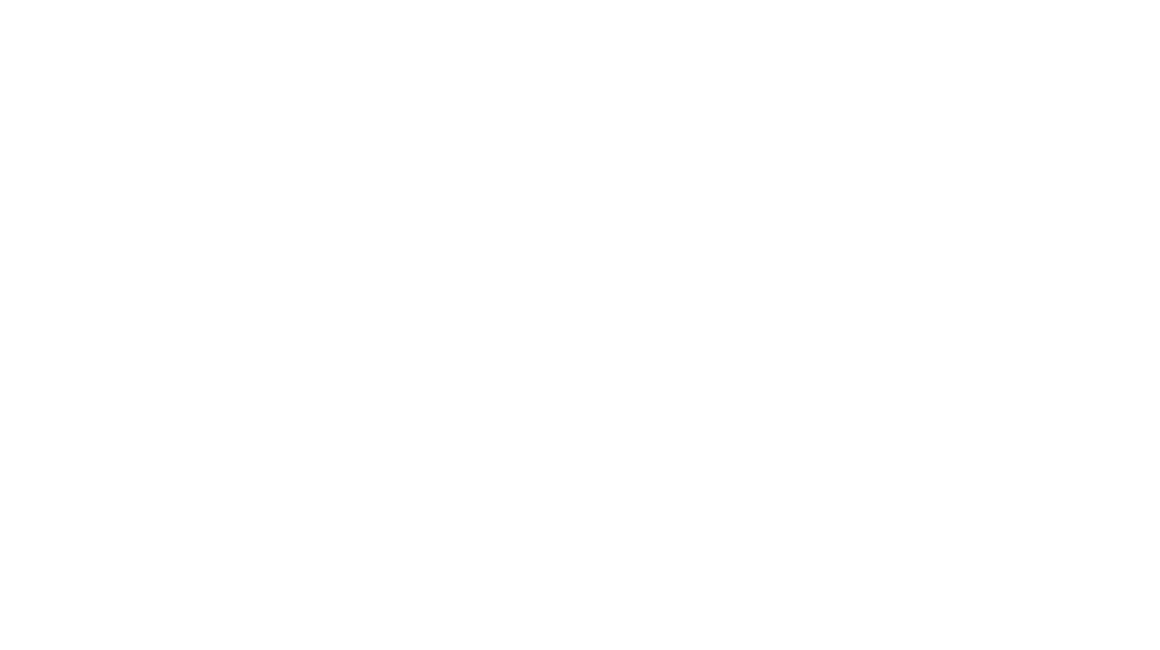
Вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной
Писатель Данил Леховицер поговорил с куратором литературной программы Центра Вознесенского Ильей Данишевским об издательском проекте «Центрифуга»
ДЛ: Илья, в одном интервью ты говорил, что культура — это всегда сражение. За что сражается «Центрифуга»?
ИД: Сейчас в первую очередь — за возможность издавать стихи, за преодоление экономического коллапса, который ждет культуру как самое некоммерциализированное, трудное для интеграции рекламы пространство. Наверное, настаивать на чем-либо (например, что стихи продолжают существовать и это важно) — всегда сражение, но я все же говорил в первую очередь о текстах, о том, что они всегда за что-то или против чего-то, а «Центрифуга», например, просто не мешает им.
ДЛ: Если не брать в расчет текущую пандемическую ситуацию, как бы ты охарактеризовал ту же самую борьбу, но два-три месяца назад?
ИД: онцепция заключается в том, что каждая книжка сражается за разное, то есть мы не выбрали один вектор борьбы, а сразу согласились, что будем печатать по решению редакционной коллегии совершенно разных авторов и, соответственно, поддерживать их борьбу. То есть наш процесс выбора — это консенсус трех голосов. Мы согласились, что будем рассматривать совершенно разные края поэзии, и там могут быть совершенно разные битвы. Понятно, за что сражается Лида Юсупова, а Василий Бородин — явно эстетическое сражение, как и Ростислав Амелин.
ДЛ: В редколлегию входишь ты, Мария Степанова и Лев Оборин. По каким критериям каждый из вас выбирает тот или иной текст, который соответствует общему ядру проекта?
ИД: В первую очередь те книжки, которые нам вот прям сейчас хотелось бы почитать. Мы накидали списки, наложили их и нашли пересечения. Когда мы летом это придумали, у нас был сразу достаточно обширный список. И, главное, мы хотим переводные книжки.
ДЛ: Не могу не спросить: в условиях закрытых границ, отправленных на карантин учреждений и обнуления 2020-го на каком этапе сейчас проект? Он приостановился?
ИД: Нет, он не приостановился, просто слегка растянулся во времени из-за изменения логистики, из-за времени, которое каждому из нас требуется на перестройку.
ДЛ: Первые два сборника, Анны Глазовой и Ростислава Амелина, должны были выйти в прошлом месяце. Когда они должны выйти теперь?
ИД: Думаю, теперь осенью выйдут все книжки сразу.
ДЛ: Мы говорили, что каждый сборник — это пространство борьбы. Какая борьба у Глазовой и какая у Амелина?
ИД: У Амелина — как раз пойти наперекор всей повестке актуальной поэзии. Он написал фантастический иллюстрированный эпос в стихах. Это штука практически на границе с комиксами, его задача — сделать некий поп-проект в хорошем смысле слова «поп». У этого фантастического эпоса уже есть сиквел, созданная «Вики» и так далее. Это компьютерная игра, по которой еще не сделали компьютерную игру.
Стихи Глазовой, мне кажется, — это попытка создания моста: утраченный русский модерн и как модерн мог бы сегодня себя чувствовать. Для меня это похоже на утренние поэтические страницы, прямой разговор с бессознательным, когда человек просто фиксирует всю свою подсознательную реальность и складывает из этого притчу. Когда я писал про ее прошлую книгу, первое, с чем мне хотелось ее сравнить, — это «Погребенный великан» Исигуро, хотя это странное сравнение, конечно.
ДЛ: Такая археологическая работа — это зебальдовский проект?
ИД: Нет, мне так не кажется. Это сновидческий, притчевый подход, способ показать память как раз не зебальдовским методом. Зебальд пытается ее объективизировать, пытается найти артефакты. То есть подлинность — существующая категория у Зебальда, а Исигуро показывает простроенный фэнтези-сеттинг, специально антиподлинный с самого начала и на уровне языка, и на уровне фактуры. Подлинность неважна для него, по крайней мере визуальная. Там невозможна фотография, артефакты, невозможно найти что-то конкретное в этой памяти.
ДЛ: Вы говорили о сотрудничестве с Премией Драгомощенко, а в прошлом году ее выиграл львовский поэт Даниил Задорожный. Собираетесь ли вы расширять фронтир в пацифистском смысле этого слова, будут ли в серии украинские поэты?
ИД: По квотам нет, но они возможны.
ДЛ: Кого вы хотели втянуть в издательскую орбиту «Центрифуги» и вместе с тем в русскую читательскую биографию? Какие это иностранные и неизвестные нам авторы?
ИД: В первую очередь, Вальжина Морт, на которую мы пристально смотрим. У нас даже есть оговоренные тайминги (следующий год) на получение этой книжки и ее перевода. Также выйдет Янкелевич.
У нас большой список, но, так как книжки выходят по две, важно делать их каждый раз слегка противоречащими друг другу. Когда мы говорим: «Вася Бородин и Лида Юсупова», мы видим совершенно эстетический проект первого и собранную мозаику из судебных показаний у второй. Нам важно эти книжки друг с другом противоречиво сочетать.
ДЛ: Кому бы ты противопоставил Вальжину Морт с ее онтологическим подходом?
ИД: Жадану в первую очередь. Мы говорили про Зебальда и различный методологический подход к механизмам памяти — у Вальжины Морт и Жадана тоже методологически разный подход к материалу.
ДЛ: Ты упомянул недавно в интервью, что издание поэзии в России тебе кажется занятием безуспешным. Как ты думаешь, это когда-нибудь может измениться?
ИД: Нет, не может. Экзистенциальный вопрос: «А чтобы что?» вообще важный вопрос для всех поэтов. Мне понятно, зачем они пишут, а издавать, чтобы что? И очень интересно, как разные поэты на это реагируют. Для чего они издают книжки, для чего выкладывают тексты в соцсеть? Большинство поэтов не очень хотят вокруг себя ежедневную стаю поклонников, а сама идея издания книги очень на это похожа. Ведь мы издаем, чтобы вокруг нас что-то собиралось. Речь не о капиталистическом превращении одного в другое, но о смысле этого сгущения, которое происходит после реализации текста. Если я не знаю, для чего точно оно происходит, какие у меня могут быть надежды?
ДЛ: Возможно ли в России добиться хоть сколько-то похожей западной модели, чтобы, кроме писателей П. и С., кто-то получал хоть сколько-то приличные гонорары, как, условно, Салли Руни, которая действительно может там зарабатывать только творчеством?
ИД: Чем лучше отлажена инфраструктура, тем большее количество ее звеньев получает деньги. Происходит селекция, лишние звенья отламываются из-за какого-то технологического изменения, а все остальные звенья получают свои деньги. Сейчас все технологии будут полностью изменены, и это тоже способ для авторов найти новый язык и новый способ коммуникации. На самом деле катастрофа добавляет драйва литературе и любому искусству. Но это не про помощь в заработке, это просто про самоценную перемену.
ДЛ: И какие, по-твоему, это должны быть технологии?
ИД: Это может быть что угодно, просто это эпоха перемен. Каждому сейчас придется разобраться, как он существует. Больше не будут работать те инерционные процессы, что вот он написал книжку, книжка вышла, две презентации отработали, пишем дальше. Сейчас все будет существовать как-то иначе. И это очень любопытно. В первую очередь Инстаграм, интеграция текста и соцсетей, создание из соцсетей какого-то литературного проекта, так как сейчас это наиболее доступно и не требует ни нарушения карантина, ни дополнительных вложений.
ДЛ: То есть, по-твоему, произойдет диджитализация?
ИД: Я говорю о коллаборации. Но коллаборация требует двух людей, и, поскольку сейчас это все осложнено, главная коллаборация, конечно, будет с машиной. Карантин символически — это такая штука для принуждения к контакту с новыми инструментами.
ДЛ: Уже выходят какие-то поэтические тексты, рефлексии на тему карантина, которые в виде диджитализации с ней работают? И не думали ли о таком проекте?
ИД: Амелин пытается работать с этим, но он как раз пытается игнорировать и карантин, и коронавирус. Его интересует вообще сшитие себя с диджитальным пространством. Вообще, по-моему, Амелина интересует коллаборация со всем на свете. Если ты спрашиваешь про карантин, то да, мне уже в ленте попадались какие-то сборники коронавирусные. Я не уверен, насколько это актуально, мне как раз кажется, что нет.
ДЛ: Читать про карантин?
ИД: Я их не открывал, поэтому не знаю, про карантин ли там и социальные перемены. Я думаю, там, скорее, просто какие-то агитки против коронавируса, как гимн Рязани против коронавируса.
ДЛ: Я тебя хотел спросить, может, это аберрация моей новостной ленты, но мне кажется, что словосочетание «современная русская поэзия» и тему насилия произносят через запятую. Насилие как вездесущая темная потенциальность тоже будет присутствовать в текстах издательского портфеля «Центрифуги»?
ИД: Будет, в первую очередь, Лида Юсупова, ее тексты, сделанные из судебных приговоров в делах по насилию над женщинами. Но странно, что ты сказал об этом так, будто эта тема появилась только сейчас. А «Илиада» разве не про массовое насилие?
ДЛ: Сейчас это не так живописно, как бойня под Троей. Сейчас это разбросано по квартирам, по интернету, по Сети…
ИД: Потому что меняются социальные формы, наша социальность. Сейчас битва под Троей невозможна. Но логически, мне кажется, это абсолютно одно и то же. Лида Юсупова, которая дает голос этим женщинам, — такая же война, просто спрятанная на кухне, и сейчас из-за карантина более разгоряченная. Мы видим растущую статистику насилия, которая вспыхнула из-за того, что люди оказались в герметичных пространствах. Так что да, эта тема будет затронута в той или иной степени.
Да и вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной.
ДЛ: А тексты феминистского порядка, которые поднимают тему домашнего насилия, различные техники агрессии со стороны патриархального общества и так далее, будут еще? Что-то похожее на Юсупову, например Рымбу, Костылева?
ИД: Рымбу будет. Костылева — к концу следующего года, если соберет книжку. Мы не выдавливаем из контекста, они не производят тексты под нас, мы говорим о том, что у кого-то уже есть собранный материал. Мы очень хотим Фанайлову, которая написала огромный цикл про Украину «Троя vs. Лисистрата».
ДЛ: Мы с тобой говорим про сегодня, а у меня есть чувство, что настоящее и будущее культуры действительно не готовит ничего, кроме повторения, в том числе поэтических литературных практик. Как ты считаешь, тексты, которые будут выходить в «Центрифуге», способны уловить эту настоящность.
ИД: Да, мне кажется, они именно что способны уловить настоящее, но насколько они новые по отношению к Гомеру — другой вопрос. Меняется способ коммуникации с реальностью, адаптируясь под наши новые технологии, новые желания человечества. Какая-нибудь Грета Тунберг маловероятна в Античности или в Средние века. Это новый взгляд на реальность, и поэзия быстро схватывает и рефлексирует.
ДЛ: Я хотел еще спросить про сращивание гейм-индустрии и поэтической формы. Как это для тебя возможно?
ИД: Последнее, что случилось в гейм-индустрии, доказало, что это новый вектор современного искусства: саунд становится не декоративным, а приглашаются современные композиторы, современные художники работают над дизайном. Это становится похожим на фестивальное кино, где каждый элемент добавляется в общую картину не декоративно, а смыслово. И понятно, что литература может многое тут добавить. Мартин уже пишет сеттинг для Миадзаки. Это путь к современному искусству. Важно, кто это сделал и кто поучаствовал, а не что это за игра. Здесь возможна коллаборация с поэзией как самочувствующим нервом реальности. Но здесь будут те, кто способен адаптировать свой язык под это. Вообще, гейм-индустрия почему-то любопытнее в последнее время, чем литература.
ИД: Сейчас в первую очередь — за возможность издавать стихи, за преодоление экономического коллапса, который ждет культуру как самое некоммерциализированное, трудное для интеграции рекламы пространство. Наверное, настаивать на чем-либо (например, что стихи продолжают существовать и это важно) — всегда сражение, но я все же говорил в первую очередь о текстах, о том, что они всегда за что-то или против чего-то, а «Центрифуга», например, просто не мешает им.
ДЛ: Если не брать в расчет текущую пандемическую ситуацию, как бы ты охарактеризовал ту же самую борьбу, но два-три месяца назад?
ИД: онцепция заключается в том, что каждая книжка сражается за разное, то есть мы не выбрали один вектор борьбы, а сразу согласились, что будем печатать по решению редакционной коллегии совершенно разных авторов и, соответственно, поддерживать их борьбу. То есть наш процесс выбора — это консенсус трех голосов. Мы согласились, что будем рассматривать совершенно разные края поэзии, и там могут быть совершенно разные битвы. Понятно, за что сражается Лида Юсупова, а Василий Бородин — явно эстетическое сражение, как и Ростислав Амелин.
ДЛ: В редколлегию входишь ты, Мария Степанова и Лев Оборин. По каким критериям каждый из вас выбирает тот или иной текст, который соответствует общему ядру проекта?
ИД: В первую очередь те книжки, которые нам вот прям сейчас хотелось бы почитать. Мы накидали списки, наложили их и нашли пересечения. Когда мы летом это придумали, у нас был сразу достаточно обширный список. И, главное, мы хотим переводные книжки.
ДЛ: Не могу не спросить: в условиях закрытых границ, отправленных на карантин учреждений и обнуления 2020-го на каком этапе сейчас проект? Он приостановился?
ИД: Нет, он не приостановился, просто слегка растянулся во времени из-за изменения логистики, из-за времени, которое каждому из нас требуется на перестройку.
ДЛ: Первые два сборника, Анны Глазовой и Ростислава Амелина, должны были выйти в прошлом месяце. Когда они должны выйти теперь?
ИД: Думаю, теперь осенью выйдут все книжки сразу.
ДЛ: Мы говорили, что каждый сборник — это пространство борьбы. Какая борьба у Глазовой и какая у Амелина?
ИД: У Амелина — как раз пойти наперекор всей повестке актуальной поэзии. Он написал фантастический иллюстрированный эпос в стихах. Это штука практически на границе с комиксами, его задача — сделать некий поп-проект в хорошем смысле слова «поп». У этого фантастического эпоса уже есть сиквел, созданная «Вики» и так далее. Это компьютерная игра, по которой еще не сделали компьютерную игру.
Стихи Глазовой, мне кажется, — это попытка создания моста: утраченный русский модерн и как модерн мог бы сегодня себя чувствовать. Для меня это похоже на утренние поэтические страницы, прямой разговор с бессознательным, когда человек просто фиксирует всю свою подсознательную реальность и складывает из этого притчу. Когда я писал про ее прошлую книгу, первое, с чем мне хотелось ее сравнить, — это «Погребенный великан» Исигуро, хотя это странное сравнение, конечно.
ДЛ: Такая археологическая работа — это зебальдовский проект?
ИД: Нет, мне так не кажется. Это сновидческий, притчевый подход, способ показать память как раз не зебальдовским методом. Зебальд пытается ее объективизировать, пытается найти артефакты. То есть подлинность — существующая категория у Зебальда, а Исигуро показывает простроенный фэнтези-сеттинг, специально антиподлинный с самого начала и на уровне языка, и на уровне фактуры. Подлинность неважна для него, по крайней мере визуальная. Там невозможна фотография, артефакты, невозможно найти что-то конкретное в этой памяти.
ДЛ: Вы говорили о сотрудничестве с Премией Драгомощенко, а в прошлом году ее выиграл львовский поэт Даниил Задорожный. Собираетесь ли вы расширять фронтир в пацифистском смысле этого слова, будут ли в серии украинские поэты?
ИД: По квотам нет, но они возможны.
ДЛ: Кого вы хотели втянуть в издательскую орбиту «Центрифуги» и вместе с тем в русскую читательскую биографию? Какие это иностранные и неизвестные нам авторы?
ИД: В первую очередь, Вальжина Морт, на которую мы пристально смотрим. У нас даже есть оговоренные тайминги (следующий год) на получение этой книжки и ее перевода. Также выйдет Янкелевич.
У нас большой список, но, так как книжки выходят по две, важно делать их каждый раз слегка противоречащими друг другу. Когда мы говорим: «Вася Бородин и Лида Юсупова», мы видим совершенно эстетический проект первого и собранную мозаику из судебных показаний у второй. Нам важно эти книжки друг с другом противоречиво сочетать.
ДЛ: Кому бы ты противопоставил Вальжину Морт с ее онтологическим подходом?
ИД: Жадану в первую очередь. Мы говорили про Зебальда и различный методологический подход к механизмам памяти — у Вальжины Морт и Жадана тоже методологически разный подход к материалу.
ДЛ: Ты упомянул недавно в интервью, что издание поэзии в России тебе кажется занятием безуспешным. Как ты думаешь, это когда-нибудь может измениться?
ИД: Нет, не может. Экзистенциальный вопрос: «А чтобы что?» вообще важный вопрос для всех поэтов. Мне понятно, зачем они пишут, а издавать, чтобы что? И очень интересно, как разные поэты на это реагируют. Для чего они издают книжки, для чего выкладывают тексты в соцсеть? Большинство поэтов не очень хотят вокруг себя ежедневную стаю поклонников, а сама идея издания книги очень на это похожа. Ведь мы издаем, чтобы вокруг нас что-то собиралось. Речь не о капиталистическом превращении одного в другое, но о смысле этого сгущения, которое происходит после реализации текста. Если я не знаю, для чего точно оно происходит, какие у меня могут быть надежды?
ДЛ: Возможно ли в России добиться хоть сколько-то похожей западной модели, чтобы, кроме писателей П. и С., кто-то получал хоть сколько-то приличные гонорары, как, условно, Салли Руни, которая действительно может там зарабатывать только творчеством?
ИД: Чем лучше отлажена инфраструктура, тем большее количество ее звеньев получает деньги. Происходит селекция, лишние звенья отламываются из-за какого-то технологического изменения, а все остальные звенья получают свои деньги. Сейчас все технологии будут полностью изменены, и это тоже способ для авторов найти новый язык и новый способ коммуникации. На самом деле катастрофа добавляет драйва литературе и любому искусству. Но это не про помощь в заработке, это просто про самоценную перемену.
ДЛ: И какие, по-твоему, это должны быть технологии?
ИД: Это может быть что угодно, просто это эпоха перемен. Каждому сейчас придется разобраться, как он существует. Больше не будут работать те инерционные процессы, что вот он написал книжку, книжка вышла, две презентации отработали, пишем дальше. Сейчас все будет существовать как-то иначе. И это очень любопытно. В первую очередь Инстаграм, интеграция текста и соцсетей, создание из соцсетей какого-то литературного проекта, так как сейчас это наиболее доступно и не требует ни нарушения карантина, ни дополнительных вложений.
ДЛ: То есть, по-твоему, произойдет диджитализация?
ИД: Я говорю о коллаборации. Но коллаборация требует двух людей, и, поскольку сейчас это все осложнено, главная коллаборация, конечно, будет с машиной. Карантин символически — это такая штука для принуждения к контакту с новыми инструментами.
ДЛ: Уже выходят какие-то поэтические тексты, рефлексии на тему карантина, которые в виде диджитализации с ней работают? И не думали ли о таком проекте?
ИД: Амелин пытается работать с этим, но он как раз пытается игнорировать и карантин, и коронавирус. Его интересует вообще сшитие себя с диджитальным пространством. Вообще, по-моему, Амелина интересует коллаборация со всем на свете. Если ты спрашиваешь про карантин, то да, мне уже в ленте попадались какие-то сборники коронавирусные. Я не уверен, насколько это актуально, мне как раз кажется, что нет.
ДЛ: Читать про карантин?
ИД: Я их не открывал, поэтому не знаю, про карантин ли там и социальные перемены. Я думаю, там, скорее, просто какие-то агитки против коронавируса, как гимн Рязани против коронавируса.
ДЛ: Я тебя хотел спросить, может, это аберрация моей новостной ленты, но мне кажется, что словосочетание «современная русская поэзия» и тему насилия произносят через запятую. Насилие как вездесущая темная потенциальность тоже будет присутствовать в текстах издательского портфеля «Центрифуги»?
ИД: Будет, в первую очередь, Лида Юсупова, ее тексты, сделанные из судебных приговоров в делах по насилию над женщинами. Но странно, что ты сказал об этом так, будто эта тема появилась только сейчас. А «Илиада» разве не про массовое насилие?
ДЛ: Сейчас это не так живописно, как бойня под Троей. Сейчас это разбросано по квартирам, по интернету, по Сети…
ИД: Потому что меняются социальные формы, наша социальность. Сейчас битва под Троей невозможна. Но логически, мне кажется, это абсолютно одно и то же. Лида Юсупова, которая дает голос этим женщинам, — такая же война, просто спрятанная на кухне, и сейчас из-за карантина более разгоряченная. Мы видим растущую статистику насилия, которая вспыхнула из-за того, что люди оказались в герметичных пространствах. Так что да, эта тема будет затронута в той или иной степени.
Да и вряд ли Ахилл назвал бы свою смерть живописной.
ДЛ: А тексты феминистского порядка, которые поднимают тему домашнего насилия, различные техники агрессии со стороны патриархального общества и так далее, будут еще? Что-то похожее на Юсупову, например Рымбу, Костылева?
ИД: Рымбу будет. Костылева — к концу следующего года, если соберет книжку. Мы не выдавливаем из контекста, они не производят тексты под нас, мы говорим о том, что у кого-то уже есть собранный материал. Мы очень хотим Фанайлову, которая написала огромный цикл про Украину «Троя vs. Лисистрата».
ДЛ: Мы с тобой говорим про сегодня, а у меня есть чувство, что настоящее и будущее культуры действительно не готовит ничего, кроме повторения, в том числе поэтических литературных практик. Как ты считаешь, тексты, которые будут выходить в «Центрифуге», способны уловить эту настоящность.
ИД: Да, мне кажется, они именно что способны уловить настоящее, но насколько они новые по отношению к Гомеру — другой вопрос. Меняется способ коммуникации с реальностью, адаптируясь под наши новые технологии, новые желания человечества. Какая-нибудь Грета Тунберг маловероятна в Античности или в Средние века. Это новый взгляд на реальность, и поэзия быстро схватывает и рефлексирует.
ДЛ: Я хотел еще спросить про сращивание гейм-индустрии и поэтической формы. Как это для тебя возможно?
ИД: Последнее, что случилось в гейм-индустрии, доказало, что это новый вектор современного искусства: саунд становится не декоративным, а приглашаются современные композиторы, современные художники работают над дизайном. Это становится похожим на фестивальное кино, где каждый элемент добавляется в общую картину не декоративно, а смыслово. И понятно, что литература может многое тут добавить. Мартин уже пишет сеттинг для Миадзаки. Это путь к современному искусству. Важно, кто это сделал и кто поучаствовал, а не что это за игра. Здесь возможна коллаборация с поэзией как самочувствующим нервом реальности. Но здесь будут те, кто способен адаптировать свой язык под это. Вообще, гейм-индустрия почему-то любопытнее в последнее время, чем литература.
вас может заинтересовать

