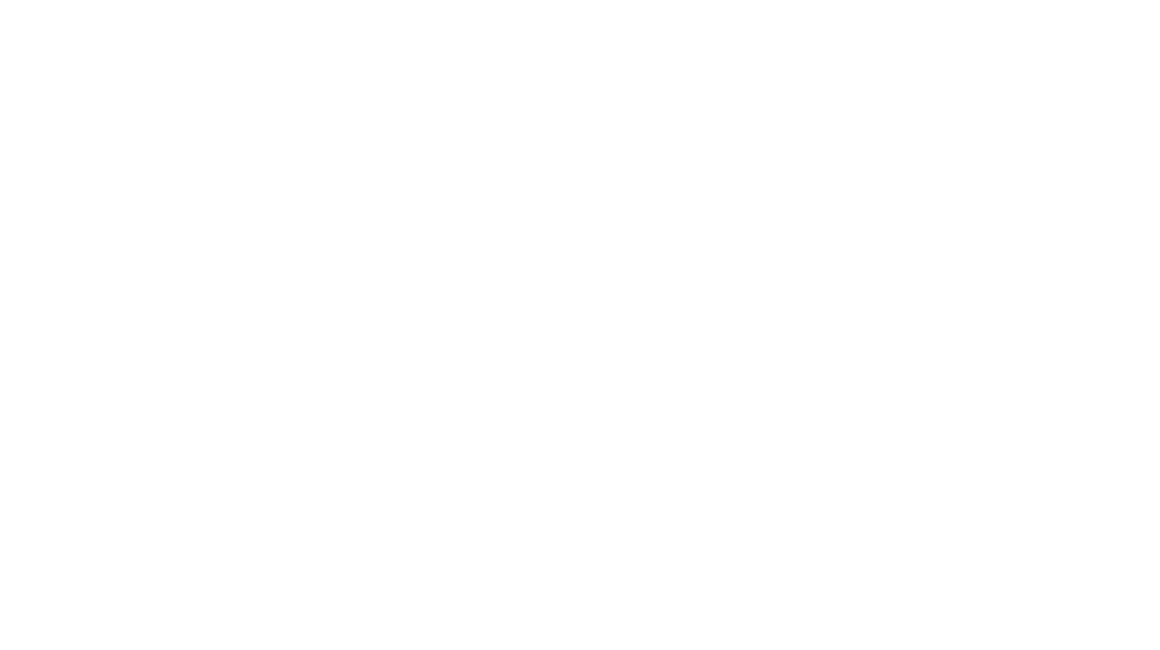
Другой континент опыта
Беседа Галины Рымбу с философом Аллой Митрофановой об этике и эпистемологии феминизма, о внутреннем опыте материнства и социокультурных целях литературной и философской работы.
Галина Рымбу: Алла, расскажи, пожалуйста, про движение «киберфеминизма», его теоретические и практические контуры. Как оно возникло, через что и когда ты к нему пришла?
Алла Митрофанова: Киберфеминизм — это художественное и теоретическое движение, созданное в 1990-е годы. В 2000-е оно казалось чем-то экстравагантным и привилегированным (какой киберфеминизм, если не у всех есть доступ к сети?), но в последнее время всем стало понятно, что есть прямая взаимозависимость реальности и технологии: сбор данных, их фильтрация, выборочная и вариативная алгоритмизация.
История в нашем локальном варианте такова: у нас в Петербурге был семинар по философии технологии в нашем первом техноклубе «Тоннель» в 1993 году, потом киберфемин-клуб на Пушкинской, 10 в сквоте. Поскольку тема была новая, то участвовало много женщин. Стихийно возникло наименование «киберфеминистки». В 1994 году на большом фестивале электронного искусства я встретила близкую по виду и убеждениям австралийскую арт-группу Vns matrix. Они тоже называли себя киберфеминистками, мы решили, что это может быть общим движением. Движение росло, и благодаря почтовой рассылке, которую сделали кураторка Кэти Рэй Хофман и радиоактивистка Диана МакКарти, образовалось большое сообщество. Наши немецкие подруги (Корнелия Солфранк и др.) созвали киберфеминистский интернационал на Документе IX в Касселе. Кроме меня, из России в нем участвовала «Фабрика найденных одежд» (Наталья Першина-Якиманская и Ольга Егорова). Позже к нам присоединилась Ирина Аристархова, написавшая отличную книгу по биотехнологии «Гостеприимство матрицы» («Лимбах-пресс», 2017).
Мой интерес к технологии был связан с теорией машины в советском авангарде, где машина анализировалась в понятиях социального конструирования новой политики, эстетики, гендерного равенства и нового быта. Было понятно, что новая технология связана с переопределением эстетического, политического и социального поля, а также телесности. Что мы и исследовали на постоянных семинарах, выставках, в электронном журнале «Виртуальная анатомия». Потом мы открыли школу компьютерной и технической грамотности для женщин «Сделай сама», помогали делать первые сайты женским политическим организациям. Это в основном история 90-х. Сейчас киберфеминизм возвращается в разных формах киберфеминистских (см. «ВКонтакте») и ксенофеминистских блогов, изданий, зинов, акций.
Алла Митрофанова: Киберфеминизм — это художественное и теоретическое движение, созданное в 1990-е годы. В 2000-е оно казалось чем-то экстравагантным и привилегированным (какой киберфеминизм, если не у всех есть доступ к сети?), но в последнее время всем стало понятно, что есть прямая взаимозависимость реальности и технологии: сбор данных, их фильтрация, выборочная и вариативная алгоритмизация.
История в нашем локальном варианте такова: у нас в Петербурге был семинар по философии технологии в нашем первом техноклубе «Тоннель» в 1993 году, потом киберфемин-клуб на Пушкинской, 10 в сквоте. Поскольку тема была новая, то участвовало много женщин. Стихийно возникло наименование «киберфеминистки». В 1994 году на большом фестивале электронного искусства я встретила близкую по виду и убеждениям австралийскую арт-группу Vns matrix. Они тоже называли себя киберфеминистками, мы решили, что это может быть общим движением. Движение росло, и благодаря почтовой рассылке, которую сделали кураторка Кэти Рэй Хофман и радиоактивистка Диана МакКарти, образовалось большое сообщество. Наши немецкие подруги (Корнелия Солфранк и др.) созвали киберфеминистский интернационал на Документе IX в Касселе. Кроме меня, из России в нем участвовала «Фабрика найденных одежд» (Наталья Першина-Якиманская и Ольга Егорова). Позже к нам присоединилась Ирина Аристархова, написавшая отличную книгу по биотехнологии «Гостеприимство матрицы» («Лимбах-пресс», 2017).
Мой интерес к технологии был связан с теорией машины в советском авангарде, где машина анализировалась в понятиях социального конструирования новой политики, эстетики, гендерного равенства и нового быта. Было понятно, что новая технология связана с переопределением эстетического, политического и социального поля, а также телесности. Что мы и исследовали на постоянных семинарах, выставках, в электронном журнале «Виртуальная анатомия». Потом мы открыли школу компьютерной и технической грамотности для женщин «Сделай сама», помогали делать первые сайты женским политическим организациям. Это в основном история 90-х. Сейчас киберфеминизм возвращается в разных формах киберфеминистских (см. «ВКонтакте») и ксенофеминистских блогов, изданий, зинов, акций.
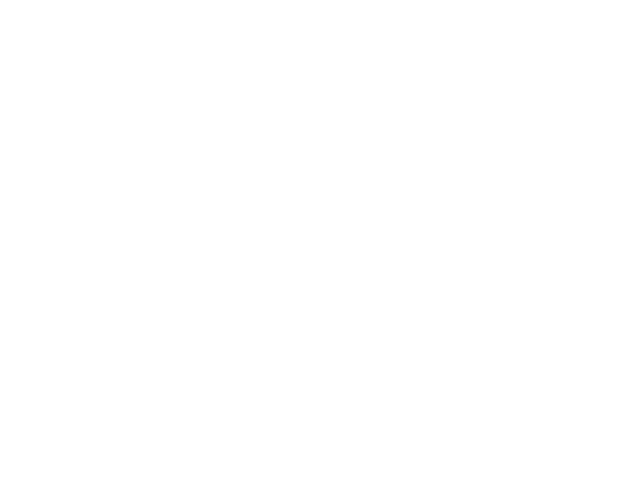
ГР: Если я правильно понимаю, «драйв» киберфеминизма 90-х подкреплялся верой в эмансипаторную, горизонтальную, субверсивную силу интернета и новых технологий. Но сегодня мы видим, что все не так просто, и сфера технологий, интернет-коммуникации продолжает быть местом производства бинарностей, сексизма и объективации, мизогинии, речи-ненависти, аффективного и дискурсивного насилия, наконец, за счет нее процветает система производства когнитивного капитализма, которая, по мнению Франко Бифо Берарди, подпитывается не через производство нового знания и информации, а за счет разных типов изощренной (в том числе языковой) комбинаторики информации старой, уже-данного и известного. Но, возможно, это не повод для депрессивного пессимизма по отношению к технологиям. Какие стратегии самоорганизованного сопротивления контролю над информацией, технологиями и производимыми ими способами надзора, потребления и коммуникации кажутся тебе сегодня эффективными? Какую роль в переизобретении этих стратегий могут играть искусство и литература?
АМ: Технология не сваливается на голову, это не изобретение злых парней, как полагает гуманистическая критика технологии. Технология содержит в себе гуманитарные практики, то есть новый тип аналитики, который работает не с целостными объектами и индивидами, а с их следами, маркерами, сборками. Но точно так же работает и поэтическое письмо. Например, в твоей книге «Жизнь в пространстве» («Новое литературное обозрение», 2018. — Примеч. ред.) есть пять разных модусов реальности, которые собраны разными поэтическими технологиями. Так же работают и политические манипуляции. Кажется, что анализировать технологии легче, чем собственно гуманитарные техники. Мы по-разному себя ведем в многочисленных социальных сетях, поскольку там различные алгоритмы, и это не машины подавления, а, скорее, машины, необходимые нам для самореализации. И это обогащает реальность, переизобретает наше существование, что одновременно эмансипаторно и рискованно, поскольку прежние мифологии, стереотипы воспроизводятся проще. Критика Берарди — это критика отрицания, поскольку он, кажется, не пользуется сетями, электронными библиотеками в силу своей университетской привилегированности. Осмысленная и политическая критика идет изнутри сетей. И тут нельзя не послушать Александру Элбакян, которая говорит, что старое понимание политики как бинарных оппозиций и лобового столкновения уже давно деполитизировано и единственно политическим действием можно считать изобретение нового социального алгоритма и удержания его до нормализации. И ей это удалось, как никому. Отсылаю к своей статье на «Ноже» про Sci-Hub.
ГР: «Манифест киборга» Донны Харауэй недавно был переиздан на русском языке. Несмотря на то, что этот текст был написан тридцать лет назад, он актуален. Харауэй указывает на необходимость отказа от парадигмы универсального знания в пользу знания ситуационного. Но как оно производится и какие политики производит? Это ведь не только научное знание? Могут ли художественные практики или практики поэтического письма быть местом производства такого знания, задействующего новые рациональности, и изобретать новые способы «быть вместе», отвергая ранее навязанные гендерные, расовые, возрастные, политические границы?
АМ: Если бы издали не «Манифест» в очередной раз, а ее книги или, на худой конец, ридер, который изучается на кафедрах СТС, истории науки, то твоего вопроса уже не могло бы быть. Научный объект не может быть нейтральным, в нем есть политический, гендерный код, который из самой научной дисциплины не распознается. И тут приходят художественные практики с их субверсиями, способностью сдвигать эпистемологические рамки. Наука неосознанно до сих пор говорит языком доминирования, милитаризма, обесценивания разного опыта. Но сложность в том, что для того, чтобы это заметить, нужно владеть специальной аналитикой, которая хорошо разработана в феминистской эпистемологии и деконструкции. Нужно понять не только, что говорится, но, главное, из какой позиции — и чем эта позиция обусловлена. Здесь важен богатый опыт исследований 1980–1990-х, который должен быть в академическом образовании. Мне кажется, что у нас Деррида прошел под песню Псоя: «Эх, Дари-дари-дари-да». А о феминистской эпистемологии только начали говорить.
ГР: Как ваша киберфеминистская группа мыслила материнство, беременность, заботу? Это было больше про разделение заботы и ее политизацию, или вы пытались вывести какие-то новые онтологии и практики материнства, которые расходились с теми, что были описаны ранее в феминизме второй волны?
АМ: Мы рассматривали материнство как исключенный из канона телесный и культурный опыт. Идея была в том, что это «другой континент» опыта с многообразием культурных интерпретаций, но его феноменологическая и социально-политическая стороны вытесняются, то есть эта практика традиционно описана только со стороны властных нарративов. Недостающий внутренний опыт может быть введен в культуру через искусство. Без этого материнство будет оставаться медикализированным, политизированным как естественный ресурс и, конечно, будет обесценено как вид современной эксплуатации.
В нашей культуре индивиды включены в политическую видимость как готовые работники, или новобранцы, или потребители товаров, а что с ними происходило до того, никого не касается и «никто никому не обязан». Это аналог нефтедобычи: природа сама изготовила нефть — общество само себя нарожало. И это старая проблема в марксизме: она осмыслялась Розой Люксембург и Александрой Коллонтай как «социальное воспроизводство» и необходимость создания социальных институтов вместо «невидимого женского труда». В значительной мере эту проблему удалось решить во времена «феминистского большевистского уклона» благодаря Коллонтай, Крупской, Арманд и другим. Это наследие, от которого нельзя отказываться, но необходимо разрабатывать дальше как ценностную часть культуры. При этом мы, конечно, поддерживаем ответственное отцовство, биотехнологические исследования искусственной матки, генетики, но прежде опыт материнства должен быть описан множеством разных способов изнутри процесса без редукции и обесценивания. Этот подход с нами разделяет Ира Аристархова в своей книге «Гостеприимство матрицы» («Издательство Ивана Лимбаха», 2017). У Иры отличная книга, изначально она была написана на английском языке и издана в Колумбийском университете, на русский её перевел Даниил Жайворонок.
ГР: Феминизм сегодня — это еще и изобретение новых коммуникативных режимов, общего языка для новых нестабильных сообществ и идентичностей, развитие практик солидарности, которые идут против антагонизмов и бинарностей. Какова, на твой взгляд, в этом роль сетевого пространства и таких флешмобов, как #MeToo и #яНеБоюсьСказать? Я вижу тут некоторую проблему. С одной стороны, стихийно наружу вышло множество разных голосов, которые говорят о том, что насилие и гендерная дискриминация никуда не исчезли, просто многие о них молчали и не знали, на каком языке, как и где об этом можно говорить, с другой — здесь, возможно, не обходится без политизации позиции жертвы, непродуктивной с точки зрения неэссенциалистских феминизмов. Но может ли быть так: речь прорывается с позиции жертвы, а в процессе говорения, диалога, отклика, наоборот, находятся уже какие-то другие языки, основания, сети солидарности?
АМ: Да, позиция жертвы составляет часть языка насилия. Но не думаю, что у меня есть право судить, кому и как начинать разговор. Идет как идет — это сложный коллективный процесс. Значит, политики телесности и существования будут меняться таким образом, через эти стадии. Но мы уже сейчас видим, что сексизм, скрытый раньше за шутками и «самоочевидным», стал заметен, неуспешен и глуп. Надеюсь, что постепенно будут становиться неприемлемыми императивные суждения, привычки утверждать что-то за других, навязчивое многоречие с самолюбованием и прочие речевые формы «естественной» привилегированности за счет обесценивания других. Культурная норма явно меняется, и это не в первый и не в последний раз.
ГР: На «Кольте» в разговоре с Марией Нестеренко о недавно изданном избранном Ларисы Рейснер «Фронт» ты даешь очень интересное определение революционного феминистского и женского письма 1920-х: это не столько практики, которые борются с патриархатными структурами и описывают новый женский быт, сколько «маргинализированное с точки зрения идеологии» письмо. «Оно включает в себя ту жизнь, которая была исключена из социальных структур», и «это письмо, которое находится в нестабильных обстоятельствах, которое программирует и задает новые формы жизни, повышая их ценность». Только ли к революционному женскому письму применимо такое определение? Или это вообще некое общее свойство феминистского и женского письма? Что ты вкладываешь в понятие «независимое женское революционное письмо»? С другой стороны, в чем его революционность? Получается, что если мы посмотрим на письмо Рейснер, то она опрокидывает все стереотипы: оно не выстраивает себя по авангардному мужскому канону, а вопрос формы для него, скорее, вторичен, здесь почти не описывается и не проблематизируется женский опыт, оно не агитирует и не рисует утопические горизонты. Тогда через какие оптики оно может быть осмыслено?
АМ: В интересный период 1960–1980-х годов, когда в неклассической логике и эпистемологии рассматривались проблемы возможных миров, различных типов логических высказываний, феминистская эпистемология показала, что у привычного разделения на природу и культуру, существование и сознание есть гендерные основания с характерной иерархией. Разные формы и практики существования оказались эпистемологически феминизированы, а абстракции маскулинизированы. В условиях гендерного неравенства абстракция, конечно, доминирует над запутанностью существования. Из культуры пропадают не только женщины, но и сложности любого существования, маргинализованные группы и в целом тела, эмоции, а также возможность изменить существование в лучшую сторону. То есть существование всегда редуцировано к безъязыкой и бессмысленной природе, мы как-то сами собой появляемся, рождаемся, воспитываемся и возникаем на рынке труда, где наделенные знанием правители — менеджеры требуют от нас соответствия профессиональным навыкам и стандартам внешности. Этика и эпистемология феминизма, как и левая политика, говорят о ценности и обусловленности любого существования, о необходимости изобретать институты заботы, о том, что наука и политика — это не столько большие масштабы геополитических заговоров и военных противостояний, а политики социальной повседневности, уровня жизни, разворачивания конкретных жизней людей в их возможностях и намерениях, доступ к знаниям, исследованиям, творчеству, культуре. Иначе, политика — это не подавление и контроль, это полиция. Но политика — это изобретение институтов эгалитарной эмансипации, конструирование новых отношений (здесь я использую разделение Рансьера). Феминизм наследует классической бинарности «природа — культура», «существование — сознание», но он на стороне существования, он возвращает существование из вытесненного и не мыслимого к аналитике различного опыта. Как и сто лет назад, феминизм оказывается центральной эмансипаторной позицией в новой философии.
ГР: Возьмем русскоязычный контекст, то, что мы регулярно разбираем и обсуждаем на семинарах «Ф-письмо» в книжном «Порядок слов». Мне кажется, что идет много акцента на женский опыт, новое конструирование индивидуальной и коллективной женской идентичности (как, например, в «Ветре ярости» Оксаны Васякиной), но в то же время здесь и хрупкая жизнь, уязвимые, ускользающие связи, чувственный опыт, который, с одной стороны, подавлен, репрессирован текущей политической ситуацией в РФ, с другой — отказывается с ней сливаться, изобретает какие-то укрытия, способы ускользания, например, от навязываемых гендерных политик, стабилизации, определения. На твой взгляд, есть ли у него сегодня, в частности в постсоветском контексте, какой-то политический и эмансипаторный потенциал? И есть ли внутри русскоязычного «ф-письма» такие практики, которые соответствуют установкам «киборганического письма», обозначенного Харауэй?
АМ: Мне кажется, что интенсивное продумывание того, что еще вчера не могло быть замечено, — это культурная особенность нашего времени. Литературное письмо работает параллельно с накоплением и алгоритмизацией больших данных. В литературном письме мы приспосабливаемся к тому, чтобы замечать детали, фиксировать состояния, оставлять и стирать следы, выдерживать дистанцию, не залипать и делать переходы из одной ситуации в другую. Изобретаются способы «укрытий» и одновременно далеко проникающих связей и солидарностей. И тут непонятно, будет ли какая-то стратегия локальной или глобальной. Такая киборганическая трансформация языка и коммуникации — наша новая форма с ее новыми правилами. Она полна плюсов и минусов, не очень сохранна, но крайне интенсивна. Мы все так или иначе чувствуем интенсивную включенность во что-то.
ГР: Знаю, что сейчас одна из главных областей твоих интересов, — это объектно-ориентированный феминизм, новый материализм и новые феминистские онтологии, которые в некоторой степени противостоят объектно-ориентированным. Расскажи об этом поподробнее. В каких точках ООО и ООФ расходятся, а в каких, наоборот, могут образовывать альянсы? Что такое «новая феминистская рациональность»? Что ООФ может дать для постсоветского феминистского контекста и практик?
АМ: Недавно нами в совместной работе опубликован на «Сигме» классный текст «Объектно-ориентированный феминизм». Его написала философиня, художница, феминистка Катрин Бихар. Она организовала семинар, где несколько лет велась полемика между различными направлениями современной философии: неоматериализмом, объектно-ориентированной философией, философией науки и техники, теорией игр и прочими. В результате возникших расхождений по многим теоретическим вопросам сформировался феминистский ракурс объектной онтологии, в нем много аналитического юмора. Например, говоря о равенстве объектов в объектной онтологии, Харман должен был бы причислить себя к объектам, но он оказывается в метапозиции, которая странным образом совпадает с классической позицией субъекта. Когда Богост делает плоскую онтологию объектов, он неосознанно включает в нее объекты, наделенные формами социальной униженности (то есть мизогинные и расовые), наряду с привилегированными, не делая различия. Метод ООФ можно резюмировать так: мы не можем выпрыгнуть из конкретности того существования, которым наделены в гендерных, расовых и социальных форматах, и не должны их игнорировать. Наше знание локально, и не следует претендовать на особую метапозицию знания. Но это и дает нам жизненное и интеллектуальное разнообразие и возможность совершать конкретные художественные и политические действия. Та форма, в которой мы себя осуществляем, с ее уязвимостью и некоторыми привилегиями, имеет значение, именно она дает знания, союзы и может быть изменена к лучшему. А это и есть социокультурная и этико-политическая цель литературной и философской работы.
АМ: Технология не сваливается на голову, это не изобретение злых парней, как полагает гуманистическая критика технологии. Технология содержит в себе гуманитарные практики, то есть новый тип аналитики, который работает не с целостными объектами и индивидами, а с их следами, маркерами, сборками. Но точно так же работает и поэтическое письмо. Например, в твоей книге «Жизнь в пространстве» («Новое литературное обозрение», 2018. — Примеч. ред.) есть пять разных модусов реальности, которые собраны разными поэтическими технологиями. Так же работают и политические манипуляции. Кажется, что анализировать технологии легче, чем собственно гуманитарные техники. Мы по-разному себя ведем в многочисленных социальных сетях, поскольку там различные алгоритмы, и это не машины подавления, а, скорее, машины, необходимые нам для самореализации. И это обогащает реальность, переизобретает наше существование, что одновременно эмансипаторно и рискованно, поскольку прежние мифологии, стереотипы воспроизводятся проще. Критика Берарди — это критика отрицания, поскольку он, кажется, не пользуется сетями, электронными библиотеками в силу своей университетской привилегированности. Осмысленная и политическая критика идет изнутри сетей. И тут нельзя не послушать Александру Элбакян, которая говорит, что старое понимание политики как бинарных оппозиций и лобового столкновения уже давно деполитизировано и единственно политическим действием можно считать изобретение нового социального алгоритма и удержания его до нормализации. И ей это удалось, как никому. Отсылаю к своей статье на «Ноже» про Sci-Hub.
ГР: «Манифест киборга» Донны Харауэй недавно был переиздан на русском языке. Несмотря на то, что этот текст был написан тридцать лет назад, он актуален. Харауэй указывает на необходимость отказа от парадигмы универсального знания в пользу знания ситуационного. Но как оно производится и какие политики производит? Это ведь не только научное знание? Могут ли художественные практики или практики поэтического письма быть местом производства такого знания, задействующего новые рациональности, и изобретать новые способы «быть вместе», отвергая ранее навязанные гендерные, расовые, возрастные, политические границы?
АМ: Если бы издали не «Манифест» в очередной раз, а ее книги или, на худой конец, ридер, который изучается на кафедрах СТС, истории науки, то твоего вопроса уже не могло бы быть. Научный объект не может быть нейтральным, в нем есть политический, гендерный код, который из самой научной дисциплины не распознается. И тут приходят художественные практики с их субверсиями, способностью сдвигать эпистемологические рамки. Наука неосознанно до сих пор говорит языком доминирования, милитаризма, обесценивания разного опыта. Но сложность в том, что для того, чтобы это заметить, нужно владеть специальной аналитикой, которая хорошо разработана в феминистской эпистемологии и деконструкции. Нужно понять не только, что говорится, но, главное, из какой позиции — и чем эта позиция обусловлена. Здесь важен богатый опыт исследований 1980–1990-х, который должен быть в академическом образовании. Мне кажется, что у нас Деррида прошел под песню Псоя: «Эх, Дари-дари-дари-да». А о феминистской эпистемологии только начали говорить.
ГР: Как ваша киберфеминистская группа мыслила материнство, беременность, заботу? Это было больше про разделение заботы и ее политизацию, или вы пытались вывести какие-то новые онтологии и практики материнства, которые расходились с теми, что были описаны ранее в феминизме второй волны?
АМ: Мы рассматривали материнство как исключенный из канона телесный и культурный опыт. Идея была в том, что это «другой континент» опыта с многообразием культурных интерпретаций, но его феноменологическая и социально-политическая стороны вытесняются, то есть эта практика традиционно описана только со стороны властных нарративов. Недостающий внутренний опыт может быть введен в культуру через искусство. Без этого материнство будет оставаться медикализированным, политизированным как естественный ресурс и, конечно, будет обесценено как вид современной эксплуатации.
В нашей культуре индивиды включены в политическую видимость как готовые работники, или новобранцы, или потребители товаров, а что с ними происходило до того, никого не касается и «никто никому не обязан». Это аналог нефтедобычи: природа сама изготовила нефть — общество само себя нарожало. И это старая проблема в марксизме: она осмыслялась Розой Люксембург и Александрой Коллонтай как «социальное воспроизводство» и необходимость создания социальных институтов вместо «невидимого женского труда». В значительной мере эту проблему удалось решить во времена «феминистского большевистского уклона» благодаря Коллонтай, Крупской, Арманд и другим. Это наследие, от которого нельзя отказываться, но необходимо разрабатывать дальше как ценностную часть культуры. При этом мы, конечно, поддерживаем ответственное отцовство, биотехнологические исследования искусственной матки, генетики, но прежде опыт материнства должен быть описан множеством разных способов изнутри процесса без редукции и обесценивания. Этот подход с нами разделяет Ира Аристархова в своей книге «Гостеприимство матрицы» («Издательство Ивана Лимбаха», 2017). У Иры отличная книга, изначально она была написана на английском языке и издана в Колумбийском университете, на русский её перевел Даниил Жайворонок.
ГР: Феминизм сегодня — это еще и изобретение новых коммуникативных режимов, общего языка для новых нестабильных сообществ и идентичностей, развитие практик солидарности, которые идут против антагонизмов и бинарностей. Какова, на твой взгляд, в этом роль сетевого пространства и таких флешмобов, как #MeToo и #яНеБоюсьСказать? Я вижу тут некоторую проблему. С одной стороны, стихийно наружу вышло множество разных голосов, которые говорят о том, что насилие и гендерная дискриминация никуда не исчезли, просто многие о них молчали и не знали, на каком языке, как и где об этом можно говорить, с другой — здесь, возможно, не обходится без политизации позиции жертвы, непродуктивной с точки зрения неэссенциалистских феминизмов. Но может ли быть так: речь прорывается с позиции жертвы, а в процессе говорения, диалога, отклика, наоборот, находятся уже какие-то другие языки, основания, сети солидарности?
АМ: Да, позиция жертвы составляет часть языка насилия. Но не думаю, что у меня есть право судить, кому и как начинать разговор. Идет как идет — это сложный коллективный процесс. Значит, политики телесности и существования будут меняться таким образом, через эти стадии. Но мы уже сейчас видим, что сексизм, скрытый раньше за шутками и «самоочевидным», стал заметен, неуспешен и глуп. Надеюсь, что постепенно будут становиться неприемлемыми императивные суждения, привычки утверждать что-то за других, навязчивое многоречие с самолюбованием и прочие речевые формы «естественной» привилегированности за счет обесценивания других. Культурная норма явно меняется, и это не в первый и не в последний раз.
ГР: На «Кольте» в разговоре с Марией Нестеренко о недавно изданном избранном Ларисы Рейснер «Фронт» ты даешь очень интересное определение революционного феминистского и женского письма 1920-х: это не столько практики, которые борются с патриархатными структурами и описывают новый женский быт, сколько «маргинализированное с точки зрения идеологии» письмо. «Оно включает в себя ту жизнь, которая была исключена из социальных структур», и «это письмо, которое находится в нестабильных обстоятельствах, которое программирует и задает новые формы жизни, повышая их ценность». Только ли к революционному женскому письму применимо такое определение? Или это вообще некое общее свойство феминистского и женского письма? Что ты вкладываешь в понятие «независимое женское революционное письмо»? С другой стороны, в чем его революционность? Получается, что если мы посмотрим на письмо Рейснер, то она опрокидывает все стереотипы: оно не выстраивает себя по авангардному мужскому канону, а вопрос формы для него, скорее, вторичен, здесь почти не описывается и не проблематизируется женский опыт, оно не агитирует и не рисует утопические горизонты. Тогда через какие оптики оно может быть осмыслено?
АМ: В интересный период 1960–1980-х годов, когда в неклассической логике и эпистемологии рассматривались проблемы возможных миров, различных типов логических высказываний, феминистская эпистемология показала, что у привычного разделения на природу и культуру, существование и сознание есть гендерные основания с характерной иерархией. Разные формы и практики существования оказались эпистемологически феминизированы, а абстракции маскулинизированы. В условиях гендерного неравенства абстракция, конечно, доминирует над запутанностью существования. Из культуры пропадают не только женщины, но и сложности любого существования, маргинализованные группы и в целом тела, эмоции, а также возможность изменить существование в лучшую сторону. То есть существование всегда редуцировано к безъязыкой и бессмысленной природе, мы как-то сами собой появляемся, рождаемся, воспитываемся и возникаем на рынке труда, где наделенные знанием правители — менеджеры требуют от нас соответствия профессиональным навыкам и стандартам внешности. Этика и эпистемология феминизма, как и левая политика, говорят о ценности и обусловленности любого существования, о необходимости изобретать институты заботы, о том, что наука и политика — это не столько большие масштабы геополитических заговоров и военных противостояний, а политики социальной повседневности, уровня жизни, разворачивания конкретных жизней людей в их возможностях и намерениях, доступ к знаниям, исследованиям, творчеству, культуре. Иначе, политика — это не подавление и контроль, это полиция. Но политика — это изобретение институтов эгалитарной эмансипации, конструирование новых отношений (здесь я использую разделение Рансьера). Феминизм наследует классической бинарности «природа — культура», «существование — сознание», но он на стороне существования, он возвращает существование из вытесненного и не мыслимого к аналитике различного опыта. Как и сто лет назад, феминизм оказывается центральной эмансипаторной позицией в новой философии.
ГР: Возьмем русскоязычный контекст, то, что мы регулярно разбираем и обсуждаем на семинарах «Ф-письмо» в книжном «Порядок слов». Мне кажется, что идет много акцента на женский опыт, новое конструирование индивидуальной и коллективной женской идентичности (как, например, в «Ветре ярости» Оксаны Васякиной), но в то же время здесь и хрупкая жизнь, уязвимые, ускользающие связи, чувственный опыт, который, с одной стороны, подавлен, репрессирован текущей политической ситуацией в РФ, с другой — отказывается с ней сливаться, изобретает какие-то укрытия, способы ускользания, например, от навязываемых гендерных политик, стабилизации, определения. На твой взгляд, есть ли у него сегодня, в частности в постсоветском контексте, какой-то политический и эмансипаторный потенциал? И есть ли внутри русскоязычного «ф-письма» такие практики, которые соответствуют установкам «киборганического письма», обозначенного Харауэй?
АМ: Мне кажется, что интенсивное продумывание того, что еще вчера не могло быть замечено, — это культурная особенность нашего времени. Литературное письмо работает параллельно с накоплением и алгоритмизацией больших данных. В литературном письме мы приспосабливаемся к тому, чтобы замечать детали, фиксировать состояния, оставлять и стирать следы, выдерживать дистанцию, не залипать и делать переходы из одной ситуации в другую. Изобретаются способы «укрытий» и одновременно далеко проникающих связей и солидарностей. И тут непонятно, будет ли какая-то стратегия локальной или глобальной. Такая киборганическая трансформация языка и коммуникации — наша новая форма с ее новыми правилами. Она полна плюсов и минусов, не очень сохранна, но крайне интенсивна. Мы все так или иначе чувствуем интенсивную включенность во что-то.
ГР: Знаю, что сейчас одна из главных областей твоих интересов, — это объектно-ориентированный феминизм, новый материализм и новые феминистские онтологии, которые в некоторой степени противостоят объектно-ориентированным. Расскажи об этом поподробнее. В каких точках ООО и ООФ расходятся, а в каких, наоборот, могут образовывать альянсы? Что такое «новая феминистская рациональность»? Что ООФ может дать для постсоветского феминистского контекста и практик?
АМ: Недавно нами в совместной работе опубликован на «Сигме» классный текст «Объектно-ориентированный феминизм». Его написала философиня, художница, феминистка Катрин Бихар. Она организовала семинар, где несколько лет велась полемика между различными направлениями современной философии: неоматериализмом, объектно-ориентированной философией, философией науки и техники, теорией игр и прочими. В результате возникших расхождений по многим теоретическим вопросам сформировался феминистский ракурс объектной онтологии, в нем много аналитического юмора. Например, говоря о равенстве объектов в объектной онтологии, Харман должен был бы причислить себя к объектам, но он оказывается в метапозиции, которая странным образом совпадает с классической позицией субъекта. Когда Богост делает плоскую онтологию объектов, он неосознанно включает в нее объекты, наделенные формами социальной униженности (то есть мизогинные и расовые), наряду с привилегированными, не делая различия. Метод ООФ можно резюмировать так: мы не можем выпрыгнуть из конкретности того существования, которым наделены в гендерных, расовых и социальных форматах, и не должны их игнорировать. Наше знание локально, и не следует претендовать на особую метапозицию знания. Но это и дает нам жизненное и интеллектуальное разнообразие и возможность совершать конкретные художественные и политические действия. Та форма, в которой мы себя осуществляем, с ее уязвимостью и некоторыми привилегиями, имеет значение, именно она дает знания, союзы и может быть изменена к лучшему. А это и есть социокультурная и этико-политическая цель литературной и философской работы.
вас может заинтересовать
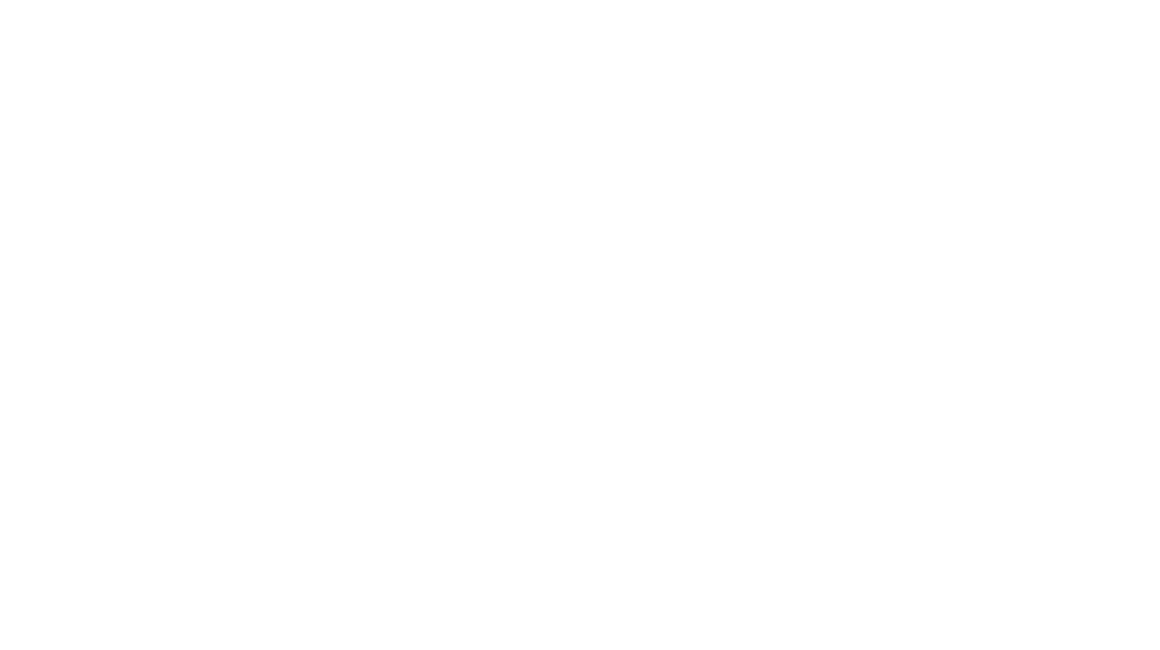
Другой континент опыта
Беседа Галины Рымбу с философом Аллой Митрофановой об этике и эпистемологии феминизма, о внутреннем опыте материнства и социокультурных целях литературной и философской работы.
Галина Рымбу: Алла, расскажи, пожалуйста, про движение «киберфеминизма», его теоретические и практические контуры. Как оно возникло, через что и когда ты к нему пришла?
Алла Митрофанова: Киберфеминизм — это художественное и теоретическое движение, созданное в 1990-е годы. В 2000-е оно казалось чем-то экстравагантным и привилегированным (какой киберфеминизм, если не у всех есть доступ к сети?), но в последнее время всем стало понятно, что есть прямая взаимозависимость реальности и технологии: сбор данных, их фильтрация, выборочная и вариативная алгоритмизация.
История в нашем локальном варианте такова: у нас в Петербурге был семинар по философии технологии в нашем первом техноклубе «Тоннель» в 1993 году, потом киберфемин-клуб на Пушкинской, 10 в сквоте. Поскольку тема была новая, то участвовало много женщин. Стихийно возникло наименование «киберфеминистки». В 1994 году на большом фестивале электронного искусства я встретила близкую по виду и убеждениям австралийскую арт-группу Vns matrix. Они тоже называли себя киберфеминистками, мы решили, что это может быть общим движением. Движение росло, и благодаря почтовой рассылке, которую сделали кураторка Кэти Рэй Хофман и радиоактивистка Диана МакКарти, образовалось большое сообщество. Наши немецкие подруги (Корнелия Солфранк и др.) созвали киберфеминистский интернационал на Документе IX в Касселе. Кроме меня, из России в нем участвовала «Фабрика найденных одежд» (Наталья Першина-Якиманская и Ольга Егорова). Позже к нам присоединилась Ирина Аристархова, написавшая отличную книгу по биотехнологии «Гостеприимство матрицы» («Лимбах-пресс», 2017).
Мой интерес к технологии был связан с теорией машины в советском авангарде, где машина анализировалась в понятиях социального конструирования новой политики, эстетики, гендерного равенства и нового быта. Было понятно, что новая технология связана с переопределением эстетического, политического и социального поля, а также телесности. Что мы и исследовали на постоянных семинарах, выставках, в электронном журнале «Виртуальная анатомия». Потом мы открыли школу компьютерной и технической грамотности для женщин «Сделай сама», помогали делать первые сайты женским политическим организациям. Это в основном история 90-х. Сейчас киберфеминизм возвращается в разных формах киберфеминистских (см. «ВКонтакте») и ксенофеминистских блогов, изданий, зинов, акций.
Алла Митрофанова: Киберфеминизм — это художественное и теоретическое движение, созданное в 1990-е годы. В 2000-е оно казалось чем-то экстравагантным и привилегированным (какой киберфеминизм, если не у всех есть доступ к сети?), но в последнее время всем стало понятно, что есть прямая взаимозависимость реальности и технологии: сбор данных, их фильтрация, выборочная и вариативная алгоритмизация.
История в нашем локальном варианте такова: у нас в Петербурге был семинар по философии технологии в нашем первом техноклубе «Тоннель» в 1993 году, потом киберфемин-клуб на Пушкинской, 10 в сквоте. Поскольку тема была новая, то участвовало много женщин. Стихийно возникло наименование «киберфеминистки». В 1994 году на большом фестивале электронного искусства я встретила близкую по виду и убеждениям австралийскую арт-группу Vns matrix. Они тоже называли себя киберфеминистками, мы решили, что это может быть общим движением. Движение росло, и благодаря почтовой рассылке, которую сделали кураторка Кэти Рэй Хофман и радиоактивистка Диана МакКарти, образовалось большое сообщество. Наши немецкие подруги (Корнелия Солфранк и др.) созвали киберфеминистский интернационал на Документе IX в Касселе. Кроме меня, из России в нем участвовала «Фабрика найденных одежд» (Наталья Першина-Якиманская и Ольга Егорова). Позже к нам присоединилась Ирина Аристархова, написавшая отличную книгу по биотехнологии «Гостеприимство матрицы» («Лимбах-пресс», 2017).
Мой интерес к технологии был связан с теорией машины в советском авангарде, где машина анализировалась в понятиях социального конструирования новой политики, эстетики, гендерного равенства и нового быта. Было понятно, что новая технология связана с переопределением эстетического, политического и социального поля, а также телесности. Что мы и исследовали на постоянных семинарах, выставках, в электронном журнале «Виртуальная анатомия». Потом мы открыли школу компьютерной и технической грамотности для женщин «Сделай сама», помогали делать первые сайты женским политическим организациям. Это в основном история 90-х. Сейчас киберфеминизм возвращается в разных формах киберфеминистских (см. «ВКонтакте») и ксенофеминистских блогов, изданий, зинов, акций.
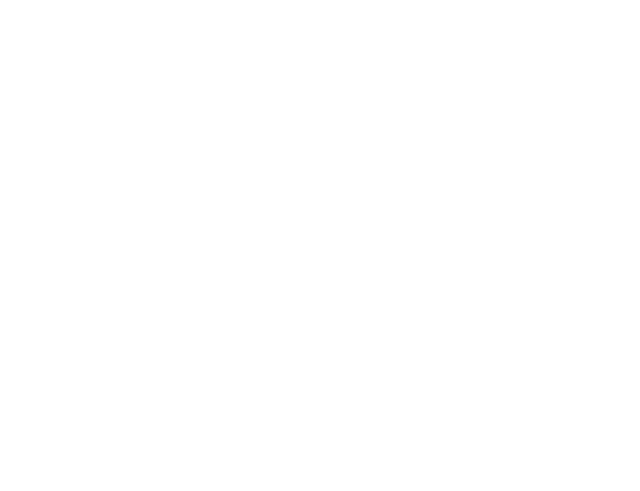
ГР: Если я правильно понимаю, «драйв» киберфеминизма 90-х подкреплялся верой в эмансипаторную, горизонтальную, субверсивную силу интернета и новых технологий. Но сегодня мы видим, что все не так просто, и сфера технологий, интернет-коммуникации продолжает быть местом производства бинарностей, сексизма и объективации, мизогинии, речи-ненависти, аффективного и дискурсивного насилия, наконец, за счет нее процветает система производства когнитивного капитализма, которая, по мнению Франко Бифо Берарди, подпитывается не через производство нового знания и информации, а за счет разных типов изощренной (в том числе языковой) комбинаторики информации старой, уже-данного и известного. Но, возможно, это не повод для депрессивного пессимизма по отношению к технологиям. Какие стратегии самоорганизованного сопротивления контролю над информацией, технологиями и производимыми ими способами надзора, потребления и коммуникации кажутся тебе сегодня эффективными? Какую роль в переизобретении этих стратегий могут играть искусство и литература?
АМ: Технология не сваливается на голову, это не изобретение злых парней, как полагает гуманистическая критика технологии. Технология содержит в себе гуманитарные практики, то есть новый тип аналитики, который работает не с целостными объектами и индивидами, а с их следами, маркерами, сборками. Но точно так же работает и поэтическое письмо. Например, в твоей книге «Жизнь в пространстве» («Новое литературное обозрение», 2018. — Примеч. ред.) есть пять разных модусов реальности, которые собраны разными поэтическими технологиями. Так же работают и политические манипуляции. Кажется, что анализировать технологии легче, чем собственно гуманитарные техники. Мы по-разному себя ведем в многочисленных социальных сетях, поскольку там различные алгоритмы, и это не машины подавления, а, скорее, машины, необходимые нам для самореализации. И это обогащает реальность, переизобретает наше существование, что одновременно эмансипаторно и рискованно, поскольку прежние мифологии, стереотипы воспроизводятся проще. Критика Берарди — это критика отрицания, поскольку он, кажется, не пользуется сетями, электронными библиотеками в силу своей университетской привилегированности. Осмысленная и политическая критика идет изнутри сетей. И тут нельзя не послушать Александру Элбакян, которая говорит, что старое понимание политики как бинарных оппозиций и лобового столкновения уже давно деполитизировано и единственно политическим действием можно считать изобретение нового социального алгоритма и удержания его до нормализации. И ей это удалось, как никому. Отсылаю к своей статье на «Ноже» про Sci-Hub.
ГР: «Манифест киборга» Донны Харауэй недавно был переиздан на русском языке. Несмотря на то, что этот текст был написан тридцать лет назад, он актуален. Харауэй указывает на необходимость отказа от парадигмы универсального знания в пользу знания ситуационного. Но как оно производится и какие политики производит? Это ведь не только научное знание? Могут ли художественные практики или практики поэтического письма быть местом производства такого знания, задействующего новые рациональности, и изобретать новые способы «быть вместе», отвергая ранее навязанные гендерные, расовые, возрастные, политические границы?
АМ: Если бы издали не «Манифест» в очередной раз, а ее книги или, на худой конец, ридер, который изучается на кафедрах СТС, истории науки, то твоего вопроса уже не могло бы быть. Научный объект не может быть нейтральным, в нем есть политический, гендерный код, который из самой научной дисциплины не распознается. И тут приходят художественные практики с их субверсиями, способностью сдвигать эпистемологические рамки. Наука неосознанно до сих пор говорит языком доминирования, милитаризма, обесценивания разного опыта. Но сложность в том, что для того, чтобы это заметить, нужно владеть специальной аналитикой, которая хорошо разработана в феминистской эпистемологии и деконструкции. Нужно понять не только, что говорится, но, главное, из какой позиции — и чем эта позиция обусловлена. Здесь важен богатый опыт исследований 1980–1990-х, который должен быть в академическом образовании. Мне кажется, что у нас Деррида прошел под песню Псоя: «Эх, Дари-дари-дари-да». А о феминистской эпистемологии только начали говорить.
ГР: Как ваша киберфеминистская группа мыслила материнство, беременность, заботу? Это было больше про разделение заботы и ее политизацию, или вы пытались вывести какие-то новые онтологии и практики материнства, которые расходились с теми, что были описаны ранее в феминизме второй волны?
АМ: Мы рассматривали материнство как исключенный из канона телесный и культурный опыт. Идея была в том, что это «другой континент» опыта с многообразием культурных интерпретаций, но его феноменологическая и социально-политическая стороны вытесняются, то есть эта практика традиционно описана только со стороны властных нарративов. Недостающий внутренний опыт может быть введен в культуру через искусство. Без этого материнство будет оставаться медикализированным, политизированным как естественный ресурс и, конечно, будет обесценено как вид современной эксплуатации.
В нашей культуре индивиды включены в политическую видимость как готовые работники, или новобранцы, или потребители товаров, а что с ними происходило до того, никого не касается и «никто никому не обязан». Это аналог нефтедобычи: природа сама изготовила нефть — общество само себя нарожало. И это старая проблема в марксизме: она осмыслялась Розой Люксембург и Александрой Коллонтай как «социальное воспроизводство» и необходимость создания социальных институтов вместо «невидимого женского труда». В значительной мере эту проблему удалось решить во времена «феминистского большевистского уклона» благодаря Коллонтай, Крупской, Арманд и другим. Это наследие, от которого нельзя отказываться, но необходимо разрабатывать дальше как ценностную часть культуры. При этом мы, конечно, поддерживаем ответственное отцовство, биотехнологические исследования искусственной матки, генетики, но прежде опыт материнства должен быть описан множеством разных способов изнутри процесса без редукции и обесценивания. Этот подход с нами разделяет Ира Аристархова в своей книге «Гостеприимство матрицы» («Издательство Ивана Лимбаха», 2017). У Иры отличная книга, изначально она была написана на английском языке и издана в Колумбийском университете, на русский её перевел Даниил Жайворонок.
ГР: Феминизм сегодня — это еще и изобретение новых коммуникативных режимов, общего языка для новых нестабильных сообществ и идентичностей, развитие практик солидарности, которые идут против антагонизмов и бинарностей. Какова, на твой взгляд, в этом роль сетевого пространства и таких флешмобов, как #MeToo и #яНеБоюсьСказать? Я вижу тут некоторую проблему. С одной стороны, стихийно наружу вышло множество разных голосов, которые говорят о том, что насилие и гендерная дискриминация никуда не исчезли, просто многие о них молчали и не знали, на каком языке, как и где об этом можно говорить, с другой — здесь, возможно, не обходится без политизации позиции жертвы, непродуктивной с точки зрения неэссенциалистских феминизмов. Но может ли быть так: речь прорывается с позиции жертвы, а в процессе говорения, диалога, отклика, наоборот, находятся уже какие-то другие языки, основания, сети солидарности?
АМ: Да, позиция жертвы составляет часть языка насилия. Но не думаю, что у меня есть право судить, кому и как начинать разговор. Идет как идет — это сложный коллективный процесс. Значит, политики телесности и существования будут меняться таким образом, через эти стадии. Но мы уже сейчас видим, что сексизм, скрытый раньше за шутками и «самоочевидным», стал заметен, неуспешен и глуп. Надеюсь, что постепенно будут становиться неприемлемыми императивные суждения, привычки утверждать что-то за других, навязчивое многоречие с самолюбованием и прочие речевые формы «естественной» привилегированности за счет обесценивания других. Культурная норма явно меняется, и это не в первый и не в последний раз.
ГР: На «Кольте» в разговоре с Марией Нестеренко о недавно изданном избранном Ларисы Рейснер «Фронт» ты даешь очень интересное определение революционного феминистского и женского письма 1920-х: это не столько практики, которые борются с патриархатными структурами и описывают новый женский быт, сколько «маргинализированное с точки зрения идеологии» письмо. «Оно включает в себя ту жизнь, которая была исключена из социальных структур», и «это письмо, которое находится в нестабильных обстоятельствах, которое программирует и задает новые формы жизни, повышая их ценность». Только ли к революционному женскому письму применимо такое определение? Или это вообще некое общее свойство феминистского и женского письма? Что ты вкладываешь в понятие «независимое женское революционное письмо»? С другой стороны, в чем его революционность? Получается, что если мы посмотрим на письмо Рейснер, то она опрокидывает все стереотипы: оно не выстраивает себя по авангардному мужскому канону, а вопрос формы для него, скорее, вторичен, здесь почти не описывается и не проблематизируется женский опыт, оно не агитирует и не рисует утопические горизонты. Тогда через какие оптики оно может быть осмыслено?
АМ: В интересный период 1960–1980-х годов, когда в неклассической логике и эпистемологии рассматривались проблемы возможных миров, различных типов логических высказываний, феминистская эпистемология показала, что у привычного разделения на природу и культуру, существование и сознание есть гендерные основания с характерной иерархией. Разные формы и практики существования оказались эпистемологически феминизированы, а абстракции маскулинизированы. В условиях гендерного неравенства абстракция, конечно, доминирует над запутанностью существования. Из культуры пропадают не только женщины, но и сложности любого существования, маргинализованные группы и в целом тела, эмоции, а также возможность изменить существование в лучшую сторону. То есть существование всегда редуцировано к безъязыкой и бессмысленной природе, мы как-то сами собой появляемся, рождаемся, воспитываемся и возникаем на рынке труда, где наделенные знанием правители — менеджеры требуют от нас соответствия профессиональным навыкам и стандартам внешности. Этика и эпистемология феминизма, как и левая политика, говорят о ценности и обусловленности любого существования, о необходимости изобретать институты заботы, о том, что наука и политика — это не столько большие масштабы геополитических заговоров и военных противостояний, а политики социальной повседневности, уровня жизни, разворачивания конкретных жизней людей в их возможностях и намерениях, доступ к знаниям, исследованиям, творчеству, культуре. Иначе, политика — это не подавление и контроль, это полиция. Но политика — это изобретение институтов эгалитарной эмансипации, конструирование новых отношений (здесь я использую разделение Рансьера). Феминизм наследует классической бинарности «природа — культура», «существование — сознание», но он на стороне существования, он возвращает существование из вытесненного и не мыслимого к аналитике различного опыта. Как и сто лет назад, феминизм оказывается центральной эмансипаторной позицией в новой философии.
ГР: Возьмем русскоязычный контекст, то, что мы регулярно разбираем и обсуждаем на семинарах «Ф-письмо» в книжном «Порядок слов». Мне кажется, что идет много акцента на женский опыт, новое конструирование индивидуальной и коллективной женской идентичности (как, например, в «Ветре ярости» Оксаны Васякиной), но в то же время здесь и хрупкая жизнь, уязвимые, ускользающие связи, чувственный опыт, который, с одной стороны, подавлен, репрессирован текущей политической ситуацией в РФ, с другой — отказывается с ней сливаться, изобретает какие-то укрытия, способы ускользания, например, от навязываемых гендерных политик, стабилизации, определения. На твой взгляд, есть ли у него сегодня, в частности в постсоветском контексте, какой-то политический и эмансипаторный потенциал? И есть ли внутри русскоязычного «ф-письма» такие практики, которые соответствуют установкам «киборганического письма», обозначенного Харауэй?
АМ: Мне кажется, что интенсивное продумывание того, что еще вчера не могло быть замечено, — это культурная особенность нашего времени. Литературное письмо работает параллельно с накоплением и алгоритмизацией больших данных. В литературном письме мы приспосабливаемся к тому, чтобы замечать детали, фиксировать состояния, оставлять и стирать следы, выдерживать дистанцию, не залипать и делать переходы из одной ситуации в другую. Изобретаются способы «укрытий» и одновременно далеко проникающих связей и солидарностей. И тут непонятно, будет ли какая-то стратегия локальной или глобальной. Такая киборганическая трансформация языка и коммуникации — наша новая форма с ее новыми правилами. Она полна плюсов и минусов, не очень сохранна, но крайне интенсивна. Мы все так или иначе чувствуем интенсивную включенность во что-то.
ГР: Знаю, что сейчас одна из главных областей твоих интересов, — это объектно-ориентированный феминизм, новый материализм и новые феминистские онтологии, которые в некоторой степени противостоят объектно-ориентированным. Расскажи об этом поподробнее. В каких точках ООО и ООФ расходятся, а в каких, наоборот, могут образовывать альянсы? Что такое «новая феминистская рациональность»? Что ООФ может дать для постсоветского феминистского контекста и практик?
АМ: Недавно нами в совместной работе опубликован на «Сигме» классный текст «Объектно-ориентированный феминизм». Его написала философиня, художница, феминистка Катрин Бихар. Она организовала семинар, где несколько лет велась полемика между различными направлениями современной философии: неоматериализмом, объектно-ориентированной философией, философией науки и техники, теорией игр и прочими. В результате возникших расхождений по многим теоретическим вопросам сформировался феминистский ракурс объектной онтологии, в нем много аналитического юмора. Например, говоря о равенстве объектов в объектной онтологии, Харман должен был бы причислить себя к объектам, но он оказывается в метапозиции, которая странным образом совпадает с классической позицией субъекта. Когда Богост делает плоскую онтологию объектов, он неосознанно включает в нее объекты, наделенные формами социальной униженности (то есть мизогинные и расовые), наряду с привилегированными, не делая различия. Метод ООФ можно резюмировать так: мы не можем выпрыгнуть из конкретности того существования, которым наделены в гендерных, расовых и социальных форматах, и не должны их игнорировать. Наше знание локально, и не следует претендовать на особую метапозицию знания. Но это и дает нам жизненное и интеллектуальное разнообразие и возможность совершать конкретные художественные и политические действия. Та форма, в которой мы себя осуществляем, с ее уязвимостью и некоторыми привилегиями, имеет значение, именно она дает знания, союзы и может быть изменена к лучшему. А это и есть социокультурная и этико-политическая цель литературной и философской работы.
АМ: Технология не сваливается на голову, это не изобретение злых парней, как полагает гуманистическая критика технологии. Технология содержит в себе гуманитарные практики, то есть новый тип аналитики, который работает не с целостными объектами и индивидами, а с их следами, маркерами, сборками. Но точно так же работает и поэтическое письмо. Например, в твоей книге «Жизнь в пространстве» («Новое литературное обозрение», 2018. — Примеч. ред.) есть пять разных модусов реальности, которые собраны разными поэтическими технологиями. Так же работают и политические манипуляции. Кажется, что анализировать технологии легче, чем собственно гуманитарные техники. Мы по-разному себя ведем в многочисленных социальных сетях, поскольку там различные алгоритмы, и это не машины подавления, а, скорее, машины, необходимые нам для самореализации. И это обогащает реальность, переизобретает наше существование, что одновременно эмансипаторно и рискованно, поскольку прежние мифологии, стереотипы воспроизводятся проще. Критика Берарди — это критика отрицания, поскольку он, кажется, не пользуется сетями, электронными библиотеками в силу своей университетской привилегированности. Осмысленная и политическая критика идет изнутри сетей. И тут нельзя не послушать Александру Элбакян, которая говорит, что старое понимание политики как бинарных оппозиций и лобового столкновения уже давно деполитизировано и единственно политическим действием можно считать изобретение нового социального алгоритма и удержания его до нормализации. И ей это удалось, как никому. Отсылаю к своей статье на «Ноже» про Sci-Hub.
ГР: «Манифест киборга» Донны Харауэй недавно был переиздан на русском языке. Несмотря на то, что этот текст был написан тридцать лет назад, он актуален. Харауэй указывает на необходимость отказа от парадигмы универсального знания в пользу знания ситуационного. Но как оно производится и какие политики производит? Это ведь не только научное знание? Могут ли художественные практики или практики поэтического письма быть местом производства такого знания, задействующего новые рациональности, и изобретать новые способы «быть вместе», отвергая ранее навязанные гендерные, расовые, возрастные, политические границы?
АМ: Если бы издали не «Манифест» в очередной раз, а ее книги или, на худой конец, ридер, который изучается на кафедрах СТС, истории науки, то твоего вопроса уже не могло бы быть. Научный объект не может быть нейтральным, в нем есть политический, гендерный код, который из самой научной дисциплины не распознается. И тут приходят художественные практики с их субверсиями, способностью сдвигать эпистемологические рамки. Наука неосознанно до сих пор говорит языком доминирования, милитаризма, обесценивания разного опыта. Но сложность в том, что для того, чтобы это заметить, нужно владеть специальной аналитикой, которая хорошо разработана в феминистской эпистемологии и деконструкции. Нужно понять не только, что говорится, но, главное, из какой позиции — и чем эта позиция обусловлена. Здесь важен богатый опыт исследований 1980–1990-х, который должен быть в академическом образовании. Мне кажется, что у нас Деррида прошел под песню Псоя: «Эх, Дари-дари-дари-да». А о феминистской эпистемологии только начали говорить.
ГР: Как ваша киберфеминистская группа мыслила материнство, беременность, заботу? Это было больше про разделение заботы и ее политизацию, или вы пытались вывести какие-то новые онтологии и практики материнства, которые расходились с теми, что были описаны ранее в феминизме второй волны?
АМ: Мы рассматривали материнство как исключенный из канона телесный и культурный опыт. Идея была в том, что это «другой континент» опыта с многообразием культурных интерпретаций, но его феноменологическая и социально-политическая стороны вытесняются, то есть эта практика традиционно описана только со стороны властных нарративов. Недостающий внутренний опыт может быть введен в культуру через искусство. Без этого материнство будет оставаться медикализированным, политизированным как естественный ресурс и, конечно, будет обесценено как вид современной эксплуатации.
В нашей культуре индивиды включены в политическую видимость как готовые работники, или новобранцы, или потребители товаров, а что с ними происходило до того, никого не касается и «никто никому не обязан». Это аналог нефтедобычи: природа сама изготовила нефть — общество само себя нарожало. И это старая проблема в марксизме: она осмыслялась Розой Люксембург и Александрой Коллонтай как «социальное воспроизводство» и необходимость создания социальных институтов вместо «невидимого женского труда». В значительной мере эту проблему удалось решить во времена «феминистского большевистского уклона» благодаря Коллонтай, Крупской, Арманд и другим. Это наследие, от которого нельзя отказываться, но необходимо разрабатывать дальше как ценностную часть культуры. При этом мы, конечно, поддерживаем ответственное отцовство, биотехнологические исследования искусственной матки, генетики, но прежде опыт материнства должен быть описан множеством разных способов изнутри процесса без редукции и обесценивания. Этот подход с нами разделяет Ира Аристархова в своей книге «Гостеприимство матрицы» («Издательство Ивана Лимбаха», 2017). У Иры отличная книга, изначально она была написана на английском языке и издана в Колумбийском университете, на русский её перевел Даниил Жайворонок.
ГР: Феминизм сегодня — это еще и изобретение новых коммуникативных режимов, общего языка для новых нестабильных сообществ и идентичностей, развитие практик солидарности, которые идут против антагонизмов и бинарностей. Какова, на твой взгляд, в этом роль сетевого пространства и таких флешмобов, как #MeToo и #яНеБоюсьСказать? Я вижу тут некоторую проблему. С одной стороны, стихийно наружу вышло множество разных голосов, которые говорят о том, что насилие и гендерная дискриминация никуда не исчезли, просто многие о них молчали и не знали, на каком языке, как и где об этом можно говорить, с другой — здесь, возможно, не обходится без политизации позиции жертвы, непродуктивной с точки зрения неэссенциалистских феминизмов. Но может ли быть так: речь прорывается с позиции жертвы, а в процессе говорения, диалога, отклика, наоборот, находятся уже какие-то другие языки, основания, сети солидарности?
АМ: Да, позиция жертвы составляет часть языка насилия. Но не думаю, что у меня есть право судить, кому и как начинать разговор. Идет как идет — это сложный коллективный процесс. Значит, политики телесности и существования будут меняться таким образом, через эти стадии. Но мы уже сейчас видим, что сексизм, скрытый раньше за шутками и «самоочевидным», стал заметен, неуспешен и глуп. Надеюсь, что постепенно будут становиться неприемлемыми императивные суждения, привычки утверждать что-то за других, навязчивое многоречие с самолюбованием и прочие речевые формы «естественной» привилегированности за счет обесценивания других. Культурная норма явно меняется, и это не в первый и не в последний раз.
ГР: На «Кольте» в разговоре с Марией Нестеренко о недавно изданном избранном Ларисы Рейснер «Фронт» ты даешь очень интересное определение революционного феминистского и женского письма 1920-х: это не столько практики, которые борются с патриархатными структурами и описывают новый женский быт, сколько «маргинализированное с точки зрения идеологии» письмо. «Оно включает в себя ту жизнь, которая была исключена из социальных структур», и «это письмо, которое находится в нестабильных обстоятельствах, которое программирует и задает новые формы жизни, повышая их ценность». Только ли к революционному женскому письму применимо такое определение? Или это вообще некое общее свойство феминистского и женского письма? Что ты вкладываешь в понятие «независимое женское революционное письмо»? С другой стороны, в чем его революционность? Получается, что если мы посмотрим на письмо Рейснер, то она опрокидывает все стереотипы: оно не выстраивает себя по авангардному мужскому канону, а вопрос формы для него, скорее, вторичен, здесь почти не описывается и не проблематизируется женский опыт, оно не агитирует и не рисует утопические горизонты. Тогда через какие оптики оно может быть осмыслено?
АМ: В интересный период 1960–1980-х годов, когда в неклассической логике и эпистемологии рассматривались проблемы возможных миров, различных типов логических высказываний, феминистская эпистемология показала, что у привычного разделения на природу и культуру, существование и сознание есть гендерные основания с характерной иерархией. Разные формы и практики существования оказались эпистемологически феминизированы, а абстракции маскулинизированы. В условиях гендерного неравенства абстракция, конечно, доминирует над запутанностью существования. Из культуры пропадают не только женщины, но и сложности любого существования, маргинализованные группы и в целом тела, эмоции, а также возможность изменить существование в лучшую сторону. То есть существование всегда редуцировано к безъязыкой и бессмысленной природе, мы как-то сами собой появляемся, рождаемся, воспитываемся и возникаем на рынке труда, где наделенные знанием правители — менеджеры требуют от нас соответствия профессиональным навыкам и стандартам внешности. Этика и эпистемология феминизма, как и левая политика, говорят о ценности и обусловленности любого существования, о необходимости изобретать институты заботы, о том, что наука и политика — это не столько большие масштабы геополитических заговоров и военных противостояний, а политики социальной повседневности, уровня жизни, разворачивания конкретных жизней людей в их возможностях и намерениях, доступ к знаниям, исследованиям, творчеству, культуре. Иначе, политика — это не подавление и контроль, это полиция. Но политика — это изобретение институтов эгалитарной эмансипации, конструирование новых отношений (здесь я использую разделение Рансьера). Феминизм наследует классической бинарности «природа — культура», «существование — сознание», но он на стороне существования, он возвращает существование из вытесненного и не мыслимого к аналитике различного опыта. Как и сто лет назад, феминизм оказывается центральной эмансипаторной позицией в новой философии.
ГР: Возьмем русскоязычный контекст, то, что мы регулярно разбираем и обсуждаем на семинарах «Ф-письмо» в книжном «Порядок слов». Мне кажется, что идет много акцента на женский опыт, новое конструирование индивидуальной и коллективной женской идентичности (как, например, в «Ветре ярости» Оксаны Васякиной), но в то же время здесь и хрупкая жизнь, уязвимые, ускользающие связи, чувственный опыт, который, с одной стороны, подавлен, репрессирован текущей политической ситуацией в РФ, с другой — отказывается с ней сливаться, изобретает какие-то укрытия, способы ускользания, например, от навязываемых гендерных политик, стабилизации, определения. На твой взгляд, есть ли у него сегодня, в частности в постсоветском контексте, какой-то политический и эмансипаторный потенциал? И есть ли внутри русскоязычного «ф-письма» такие практики, которые соответствуют установкам «киборганического письма», обозначенного Харауэй?
АМ: Мне кажется, что интенсивное продумывание того, что еще вчера не могло быть замечено, — это культурная особенность нашего времени. Литературное письмо работает параллельно с накоплением и алгоритмизацией больших данных. В литературном письме мы приспосабливаемся к тому, чтобы замечать детали, фиксировать состояния, оставлять и стирать следы, выдерживать дистанцию, не залипать и делать переходы из одной ситуации в другую. Изобретаются способы «укрытий» и одновременно далеко проникающих связей и солидарностей. И тут непонятно, будет ли какая-то стратегия локальной или глобальной. Такая киборганическая трансформация языка и коммуникации — наша новая форма с ее новыми правилами. Она полна плюсов и минусов, не очень сохранна, но крайне интенсивна. Мы все так или иначе чувствуем интенсивную включенность во что-то.
ГР: Знаю, что сейчас одна из главных областей твоих интересов, — это объектно-ориентированный феминизм, новый материализм и новые феминистские онтологии, которые в некоторой степени противостоят объектно-ориентированным. Расскажи об этом поподробнее. В каких точках ООО и ООФ расходятся, а в каких, наоборот, могут образовывать альянсы? Что такое «новая феминистская рациональность»? Что ООФ может дать для постсоветского феминистского контекста и практик?
АМ: Недавно нами в совместной работе опубликован на «Сигме» классный текст «Объектно-ориентированный феминизм». Его написала философиня, художница, феминистка Катрин Бихар. Она организовала семинар, где несколько лет велась полемика между различными направлениями современной философии: неоматериализмом, объектно-ориентированной философией, философией науки и техники, теорией игр и прочими. В результате возникших расхождений по многим теоретическим вопросам сформировался феминистский ракурс объектной онтологии, в нем много аналитического юмора. Например, говоря о равенстве объектов в объектной онтологии, Харман должен был бы причислить себя к объектам, но он оказывается в метапозиции, которая странным образом совпадает с классической позицией субъекта. Когда Богост делает плоскую онтологию объектов, он неосознанно включает в нее объекты, наделенные формами социальной униженности (то есть мизогинные и расовые), наряду с привилегированными, не делая различия. Метод ООФ можно резюмировать так: мы не можем выпрыгнуть из конкретности того существования, которым наделены в гендерных, расовых и социальных форматах, и не должны их игнорировать. Наше знание локально, и не следует претендовать на особую метапозицию знания. Но это и дает нам жизненное и интеллектуальное разнообразие и возможность совершать конкретные художественные и политические действия. Та форма, в которой мы себя осуществляем, с ее уязвимостью и некоторыми привилегиями, имеет значение, именно она дает знания, союзы и может быть изменена к лучшему. А это и есть социокультурная и этико-политическая цель литературной и философской работы.
вас может заинтересовать

