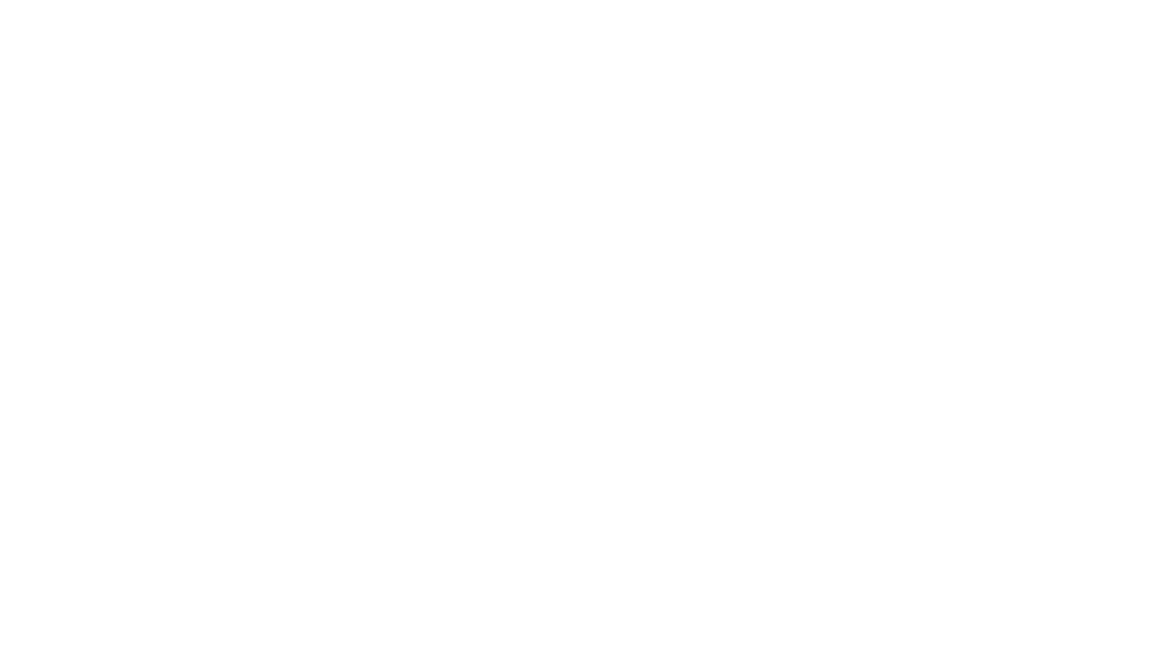
Идеология дистанции
Публикуем задуманное, как теперь очевидно, в другую эпоху (речь о начале 2022 года) интервью с философом Борисом Клюшниковым, который по нашей просьбе читал в Переделкине лекцию о «Пульчинелле» Агамбена и поделился своими размышлениями о маске и дистанции, «несовременности» Агамбена и жесте Пульчинеллы, создающим трагическую сцену.
Катя Морозова: Джорджо Агамбен, известный своим ковидным диссидентством, в «Пульчинелле» рассуждает о маске. Но что такое маска сегодня — с учетом пандемийного опыта?
Борис Клюшников: Прошло уже достаточно времени, и, оглядываясь назад, мы можем более внимательно проследить за развитием важнейших интегральных связей в проекте Агамбена. Важно, что когда Агамбен впервые выступил по поводу ковида, его заявления рассматривались с точки зрения «непопадания» в современные условия. Я помню, как Реза Негарестани писал, что позиция по поводу ковида точно дает нам знать, какие философские проекты по инерции развиваются в сторону этико-онтологической ошибки, а какие проекты включают ковид, а значит и современность, и, соответственно, актуальны. Я помню, как я внутренне поддерживал тогда Негарестани: Агамбен казался фигурой из какой-то неуместной сегодня эпохи (эпохи доцифрового образования, например). Я думаю, многие, в том числе сам Агамбен, пытаются уже после пандемии понять, а в чем состоял странный выпад Агамбена. Сейчас я думаю, что мы должны переосмыслить философию Агамбена уже с учетом войны, которая несет в себе ядро описанного мной выше парадокса: сама война с Украиной обладает характеристикой «несовременности» и воспринимается как наступление ужасного воображаемого прошлого на настоящее. Если Негарестани говорил об Агамбене как о субъективной траектории «несовременности», то сейчас это выпадение кажется частью объективных процессов. Я напомню, что для Агамбена само понятие современности, о чем я говорил на лекции, связано с возможностью стать «несовпадающим» элементом, который сквозь блеск эпохи хранит свидетельство о тьме времени.
По поводу ковидной маски: во время пандемии она стала, я считаю, символом нового консенсуса по поводу этики дистанции. Позиция Агамбена кажется в этом случае следующей: не воспринимаем ли мы идеологию дистанции без должной дистанции, которой требует современность? Этот парадокс распространяется и на ковидную маску: а маска ли она? Что такое маска? Маска в первую очередь указывает на расслоение между тем, что мы можем назвать лицом, с одной стороны, и ликом — с другой. Лицо — это место нерегистрируемых микровыражений, мышечных движений. Лицо — это место выражения сложноцензурируемых либидинальных импульсов. Маска (здесь я, пожалуй, обращусь к книге Ханса Бельтинга «Лица») оказывается остановкой движений, цензурой лица, которая должна привести лицо в соответствие с духом или ролью в сцене (это я имею в виду под ликом). Так вот, карнавал в Италии для Агамбена важен именно этим определением маски. Ковидная маска не закрепляет движения. Хочу отметить, что я выступаю против позиции Агамбена по поводу ковида, но мы не можем не отметить, что для Агамбена существует принципиальная разница между маской Пульчинеллы и ковидной маской: ковидная маска переводит контакты в поле «чистых лиц» — вы буквально встречаете в городе людей с белым экраном на месте рта. На этом экране проецируется реальность определенного договора. В тексте о Пульчинелле Агамбен называет это «ложной диалектикой маски и лица». Маска Пульчинеллы призвана вернуть маске маску — и одновременно с этим вернуть театру и сцене их важнейшее политическое значение.
Борис Клюшников: Прошло уже достаточно времени, и, оглядываясь назад, мы можем более внимательно проследить за развитием важнейших интегральных связей в проекте Агамбена. Важно, что когда Агамбен впервые выступил по поводу ковида, его заявления рассматривались с точки зрения «непопадания» в современные условия. Я помню, как Реза Негарестани писал, что позиция по поводу ковида точно дает нам знать, какие философские проекты по инерции развиваются в сторону этико-онтологической ошибки, а какие проекты включают ковид, а значит и современность, и, соответственно, актуальны. Я помню, как я внутренне поддерживал тогда Негарестани: Агамбен казался фигурой из какой-то неуместной сегодня эпохи (эпохи доцифрового образования, например). Я думаю, многие, в том числе сам Агамбен, пытаются уже после пандемии понять, а в чем состоял странный выпад Агамбена. Сейчас я думаю, что мы должны переосмыслить философию Агамбена уже с учетом войны, которая несет в себе ядро описанного мной выше парадокса: сама война с Украиной обладает характеристикой «несовременности» и воспринимается как наступление ужасного воображаемого прошлого на настоящее. Если Негарестани говорил об Агамбене как о субъективной траектории «несовременности», то сейчас это выпадение кажется частью объективных процессов. Я напомню, что для Агамбена само понятие современности, о чем я говорил на лекции, связано с возможностью стать «несовпадающим» элементом, который сквозь блеск эпохи хранит свидетельство о тьме времени.
По поводу ковидной маски: во время пандемии она стала, я считаю, символом нового консенсуса по поводу этики дистанции. Позиция Агамбена кажется в этом случае следующей: не воспринимаем ли мы идеологию дистанции без должной дистанции, которой требует современность? Этот парадокс распространяется и на ковидную маску: а маска ли она? Что такое маска? Маска в первую очередь указывает на расслоение между тем, что мы можем назвать лицом, с одной стороны, и ликом — с другой. Лицо — это место нерегистрируемых микровыражений, мышечных движений. Лицо — это место выражения сложноцензурируемых либидинальных импульсов. Маска (здесь я, пожалуй, обращусь к книге Ханса Бельтинга «Лица») оказывается остановкой движений, цензурой лица, которая должна привести лицо в соответствие с духом или ролью в сцене (это я имею в виду под ликом). Так вот, карнавал в Италии для Агамбена важен именно этим определением маски. Ковидная маска не закрепляет движения. Хочу отметить, что я выступаю против позиции Агамбена по поводу ковида, но мы не можем не отметить, что для Агамбена существует принципиальная разница между маской Пульчинеллы и ковидной маской: ковидная маска переводит контакты в поле «чистых лиц» — вы буквально встречаете в городе людей с белым экраном на месте рта. На этом экране проецируется реальность определенного договора. В тексте о Пульчинелле Агамбен называет это «ложной диалектикой маски и лица». Маска Пульчинеллы призвана вернуть маске маску — и одновременно с этим вернуть театру и сцене их важнейшее политическое значение.
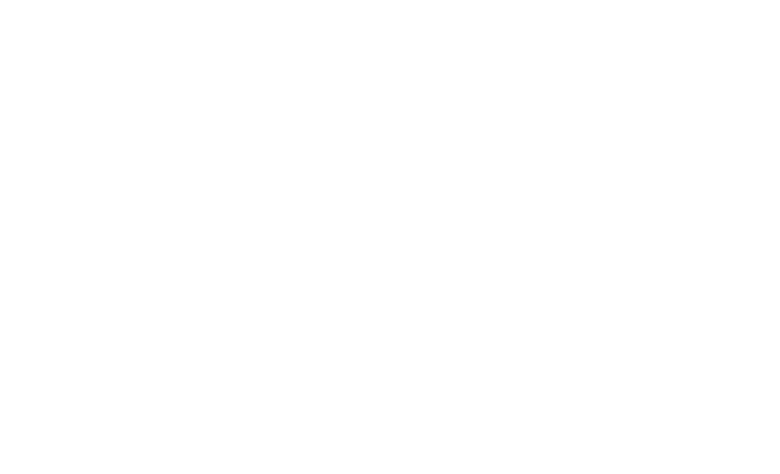
КМ: Начало работы над книгой Агамбена в нашем издательстве совпало с началом пандемии, распространившейся по Европе с севера Италии (из Ломбардии и Венето), где тогда проводился венецианский карнавал. Первые сотрудники коммунальных служб в белых костюмах химзащиты и масках болезненно напоминали именно Пульчинеллу, но переосмысленного, Пульчинеллу из научной фантастики. Насколько его божественный/демонический, по Агамбену, образ можно вписать в современные сюжеты?
БК: Такие фигуры, как Пульчинелла, — это определенные персонажи, Агамбена интересуют роли этих персонажей в отношении сцены. Выскажу, быть может, смелое предположение, но если мы ищем Пульчинеллу в этой метафоре, то это сам Агамбен. После того как многие закенселили Агамбена, он начал осмыслять это состояние (странным образом) — благодарил за то, что мир дал ему возможность больше не быть приглашенным на многие конференции и события. Я думаю, Агамбен сам бы не согласился с такой формулировкой, но в его описании художника Тьеполо (стареющий художник в момент развала республики) через обращение к Пульчинеле он пытался показать, как катастрофа обращается фарсом.
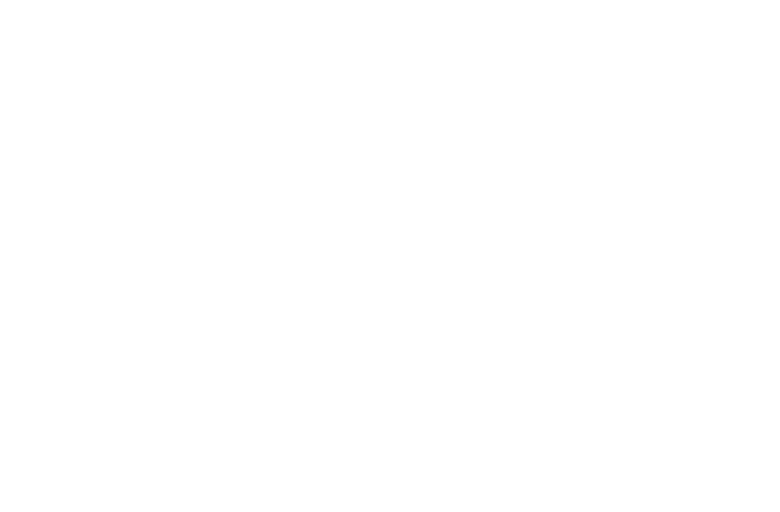
КМ: Фантастика с ее конструированием альтернативных миров и миропорядков, задаванием «серьезных вопросов», кажется, максимально далека от комедии и шутовства. Или это дилетантский взгляд на жанр? Может ли и как комедийное/маскарадное проявляться в фантастике? (Сразу вспоминается большое количество персонажей в самых разных масках, первыми на ум пришли почему-то обитатели Арракиса, чьи маски по форме похожи на медицинские FFP2, которые до недавних пор нужно было носить в транспорте в Венеции.)
БК: Самое первое, что мне приходит здесь в голову, — это история развития киберпанка. Нил Стивенсон обратил внимание, что киберпанк достаточно быстро впадает в депрессивную констатацию власти корпораций и технологий, где не остается места для политической агентности к сопротивлению. Это неудивительно, так как Уиллиам Гибсон и Брюс Стерлинг говорили, что киберпанк — это исследование идеологии Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, где общество подменяется индивидами, ведущими борьбу за выживание. Посткиберпанк как раз привносит элементы комического и абсурдного, однако они не противоречат катастрофе low life, high tech, но пытаются критиковать это возвышенное сакрализованное отношение к упадку. Но я напомню также, что фантастика — это бульварно-теоретический жанр, в ней постоянно чувствуется напряжение между литературными клише и теориями, движущими нарратив и сеттинг. В самой социальной дистрибуции фантастики есть этот элемент фарса: в конце эпох, в жутком расколе вы заходите в книжный киоск, чтобы спрятаться в чтении, но через эту нелепую постановку чтения вы попадаете в состояние несоизмеримости — космооперы, технологии, научные теории.
Фантастика (или назовем ее «фикция», fiction) крайне важна для Агамбена. В основе его взгляда на природу образа лежат жест и движение. Пульчинелла как персонаж — это особое жестуальное движение. Вы наверняка знаете, что Агамбен один из немногих развил теорию образа Аби Варбурга не в сторону визуальности, а в сторону жеста. Он пытался показать, что визуальность сцены, ее статичность и представленность, на самом деле содержит в себе непроницаемое ядро, связанное с жестом. Сейчас я уйду немного в сторону, но мне кажется это принципиальным. В моей лекции, которую можно найти на YouTube, я подробно анализирую логику репрезентации в римской Античности. Именно там впервые появляется фигура, помещенная в изобразительное пространство, которая разрезает сцену собственным наблюдением. Иными словами, «взгляд» на сцену оказывается помещен внутрь самой сцены. Пьер Клоссовски, занимающийся помимо прочего классической филологией, отметил о римской Античности, что она выстраивает онтологическое отношение к идее скрытого и тайного подглядывания, которое само становится видимым. Подглядывание, смотрение переводится таким образом из визуальности в телесное движение. Смотрение — как жест, направленный одной своей стороной к сцене, а другой к зрителю. Именно это поразило меня в работе Эдуара Мане «Бал-маскарад в Опере», где Пульчинелла (Полишинель) в маскарадном костюме (это сам художник) создает своей рукой сцену, за которой наблюдает. Это трагическая сцена — Франция после поражения коммуны и после войны. На красном ковре (на крови погибших) стоят богатые мужчины и выбирают секс-работниц в маскарадных масках. Мужские лица открыты, но безлики (как в моем примере по поводу ковидной маски), то есть бородатые лица в цилиндрах выступают как патриархальный и насильственный консенсус. Миру мужчин соответствует мир женщин, которые, будучи в масках, тем не менее всегда на картинах Мане связаны с сингуляризацией. Мане показывает Париж порочный, кровавый и развлекательный, но (!) я считаю, что сама эта сцена выстроена в итоге ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы через фигуру Пульчинеллы мы как зрители могли почувствовать ужас и насилие, фрагментацию и объективацию тел, но обходным путем, через создание сцены карнавала и праздника. Вот моя идея: сцена визуально возводится в искусстве, в фантастике, но не для того, чтобы поддерживать «миры» и «заставлять в них верить», а для того, чтобы эти миры оказались в самих себе дезавуированы, — тогда они сводятся к жесту-движению Пульчинеллы. Поднятая рука Пульчинеллы на картине Мане — это рука художника, движение кисти, которое создает мир, но выступает его схлопывающим моментом. И это важно для фантастики, если мы ее рассмотрим через призму агамбеновского отношения. Миры и сеттинги создаются, чтобы через бульварную развлекательную аллегорию дотронуться до парадокса века — где развлечение и трагедия связаны воедино.
БК: Самое первое, что мне приходит здесь в голову, — это история развития киберпанка. Нил Стивенсон обратил внимание, что киберпанк достаточно быстро впадает в депрессивную констатацию власти корпораций и технологий, где не остается места для политической агентности к сопротивлению. Это неудивительно, так как Уиллиам Гибсон и Брюс Стерлинг говорили, что киберпанк — это исследование идеологии Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, где общество подменяется индивидами, ведущими борьбу за выживание. Посткиберпанк как раз привносит элементы комического и абсурдного, однако они не противоречат катастрофе low life, high tech, но пытаются критиковать это возвышенное сакрализованное отношение к упадку. Но я напомню также, что фантастика — это бульварно-теоретический жанр, в ней постоянно чувствуется напряжение между литературными клише и теориями, движущими нарратив и сеттинг. В самой социальной дистрибуции фантастики есть этот элемент фарса: в конце эпох, в жутком расколе вы заходите в книжный киоск, чтобы спрятаться в чтении, но через эту нелепую постановку чтения вы попадаете в состояние несоизмеримости — космооперы, технологии, научные теории.
Фантастика (или назовем ее «фикция», fiction) крайне важна для Агамбена. В основе его взгляда на природу образа лежат жест и движение. Пульчинелла как персонаж — это особое жестуальное движение. Вы наверняка знаете, что Агамбен один из немногих развил теорию образа Аби Варбурга не в сторону визуальности, а в сторону жеста. Он пытался показать, что визуальность сцены, ее статичность и представленность, на самом деле содержит в себе непроницаемое ядро, связанное с жестом. Сейчас я уйду немного в сторону, но мне кажется это принципиальным. В моей лекции, которую можно найти на YouTube, я подробно анализирую логику репрезентации в римской Античности. Именно там впервые появляется фигура, помещенная в изобразительное пространство, которая разрезает сцену собственным наблюдением. Иными словами, «взгляд» на сцену оказывается помещен внутрь самой сцены. Пьер Клоссовски, занимающийся помимо прочего классической филологией, отметил о римской Античности, что она выстраивает онтологическое отношение к идее скрытого и тайного подглядывания, которое само становится видимым. Подглядывание, смотрение переводится таким образом из визуальности в телесное движение. Смотрение — как жест, направленный одной своей стороной к сцене, а другой к зрителю. Именно это поразило меня в работе Эдуара Мане «Бал-маскарад в Опере», где Пульчинелла (Полишинель) в маскарадном костюме (это сам художник) создает своей рукой сцену, за которой наблюдает. Это трагическая сцена — Франция после поражения коммуны и после войны. На красном ковре (на крови погибших) стоят богатые мужчины и выбирают секс-работниц в маскарадных масках. Мужские лица открыты, но безлики (как в моем примере по поводу ковидной маски), то есть бородатые лица в цилиндрах выступают как патриархальный и насильственный консенсус. Миру мужчин соответствует мир женщин, которые, будучи в масках, тем не менее всегда на картинах Мане связаны с сингуляризацией. Мане показывает Париж порочный, кровавый и развлекательный, но (!) я считаю, что сама эта сцена выстроена в итоге ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы через фигуру Пульчинеллы мы как зрители могли почувствовать ужас и насилие, фрагментацию и объективацию тел, но обходным путем, через создание сцены карнавала и праздника. Вот моя идея: сцена визуально возводится в искусстве, в фантастике, но не для того, чтобы поддерживать «миры» и «заставлять в них верить», а для того, чтобы эти миры оказались в самих себе дезавуированы, — тогда они сводятся к жесту-движению Пульчинеллы. Поднятая рука Пульчинеллы на картине Мане — это рука художника, движение кисти, которое создает мир, но выступает его схлопывающим моментом. И это важно для фантастики, если мы ее рассмотрим через призму агамбеновского отношения. Миры и сеттинги создаются, чтобы через бульварную развлекательную аллегорию дотронуться до парадокса века — где развлечение и трагедия связаны воедино.
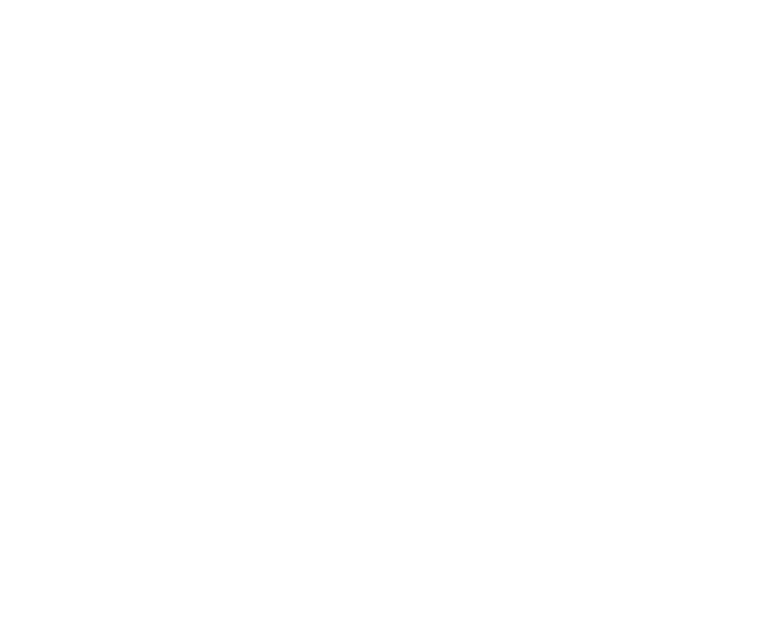
По сути, эта работа Эдуара Мане ведь посвящена очень актуальному для российского искусства вопросу — институциональному автоматизму и инерции. Происходит кровавое подавление, идет война, но художники и богатые мужчины веселятся как ни в чем не бывало. Художник — их слуга, часть мира подавленной революции, но, изображая эту сцену, Мане пытается через свой эстетизм вернуть шок войны, который в реакционной повседневности выглядит как невозможность испытывать шок — как анастезия культурой. Показывая этот развлекательный бум, Мане ведет нас к сердцевине этого взрыва. Я читал Пульчинеллу и Агамбена после начала войны. Мои друзья писали мне, что моя лекция по поводу Агамбена словно из другого, прошлого мира, где нас заботила пандемия. В целом ковид и в нашей беседе — это скорее место, место несвоевременности, которая для меня есть возможность столкновения с российской агрессией. Это было лето, и в Москве проходили выставки, открытия — но я не говорил бы, что люди «просто веселятся» во время трагедии. Это «веселье» должны быть взято в сценические скобки — как автоматизм вытеснения, забытия и шока. Я постоянно думаю, возможен ли эстетический жест Мане в условиях Москвы. То есть в данном случае роль фантастики и фикции — служить аллегорическим путем столкновения с трагедией, возможно, многие люди могут столкнуться с трагедией только в обличии фарса. Отдельный вопрос, над которым я хочу дальше работать, — это вопрос о том, как зависимость художника (Тьеполо — Мане) от капитала в широком смысле формулирует отчаявшееся и смешное положение искусства, — таким оно всегда раскрывается во время войны. Вернемся к Агамбену — он пишет о мраке века, который мы должны разглядеть под блестками и весельем.
КМ: За кем из авторов-фантастов, за чьими мирами и поэтикой вы следите?
БК: После 24 февраля я, может быть, как и многие, чувствую невозможность читать. Я слежу за блогами, новинками, что-то выписываю себе, но не знаю, когда снова смогу читать. Но, возвращаясь назад, я вспоминаю конечно Филипа Дика. Джеймисон справедливо назвал его Шекспиром, потому что у Дика выстраивается вопрос о переходе барочной драмы (Trauerspiel) в трагедию. Если бы я и хотел что-то перечитать или вернуться к какому-то стилю, я бы перечитал «Лейтесь, слезы, сказал полицейский». Этот роман рассказывает о популярном певце времен полицейской диктатуры, который по каким-то причинам оказывается стерт из реальности — его никто не помнит и не знает. Одновременно с этим в стране установлена полицейская диктатура: полиция и национальная гвардия контролируют города, на улицах размещены их КПП со сплошными проверками документов, повсюду внедрены информаторы. Противников режима отправляют в исправительно-трудовые лагеря в удаленные места (в том числе на Луну), университетские города как оплоты протеста уничтожены, за ушедшими в подполье студентами ведется охота. Для переживших войну и лагеря афроамериканцев введена политика одного ребенка.
Я вспоминаю этот роман не только потому, что он касается темы поп-певцов и режима. В нем стирание личности приводит человека к политизации. И в то же время быть никем для Филипа Дика — виртуальное место скорби. Его фантастика создает персонажей для скорби там, где существует запрет на скорбь.
Я не читаю фантастику сейчас, но надеюсь вернуться когда-нибудь к новым книгам. Другое дело — то, что я бы назвал аудиовизуальной фантастикой. Например, то, что делает Евгений Былина, и то, что делал поэтический «Альманах-огонь», мне кажется крайне важным — это материальные fictions, задействующие звук и движущееся изображение. В будущем я обязательно хочу закончить текст о звуковом альбоме и поэзии Урсулы Ле Гуин, где фантастика понимается уже не через письмо, а через некие материальные артефакты — полевые записи, ксеномузыку, языки.
КМ: За кем из авторов-фантастов, за чьими мирами и поэтикой вы следите?
БК: После 24 февраля я, может быть, как и многие, чувствую невозможность читать. Я слежу за блогами, новинками, что-то выписываю себе, но не знаю, когда снова смогу читать. Но, возвращаясь назад, я вспоминаю конечно Филипа Дика. Джеймисон справедливо назвал его Шекспиром, потому что у Дика выстраивается вопрос о переходе барочной драмы (Trauerspiel) в трагедию. Если бы я и хотел что-то перечитать или вернуться к какому-то стилю, я бы перечитал «Лейтесь, слезы, сказал полицейский». Этот роман рассказывает о популярном певце времен полицейской диктатуры, который по каким-то причинам оказывается стерт из реальности — его никто не помнит и не знает. Одновременно с этим в стране установлена полицейская диктатура: полиция и национальная гвардия контролируют города, на улицах размещены их КПП со сплошными проверками документов, повсюду внедрены информаторы. Противников режима отправляют в исправительно-трудовые лагеря в удаленные места (в том числе на Луну), университетские города как оплоты протеста уничтожены, за ушедшими в подполье студентами ведется охота. Для переживших войну и лагеря афроамериканцев введена политика одного ребенка.
Я вспоминаю этот роман не только потому, что он касается темы поп-певцов и режима. В нем стирание личности приводит человека к политизации. И в то же время быть никем для Филипа Дика — виртуальное место скорби. Его фантастика создает персонажей для скорби там, где существует запрет на скорбь.
Я не читаю фантастику сейчас, но надеюсь вернуться когда-нибудь к новым книгам. Другое дело — то, что я бы назвал аудиовизуальной фантастикой. Например, то, что делает Евгений Былина, и то, что делал поэтический «Альманах-огонь», мне кажется крайне важным — это материальные fictions, задействующие звук и движущееся изображение. В будущем я обязательно хочу закончить текст о звуковом альбоме и поэзии Урсулы Ле Гуин, где фантастика понимается уже не через письмо, а через некие материальные артефакты — полевые записи, ксеномузыку, языки.
вас может заинтересовать
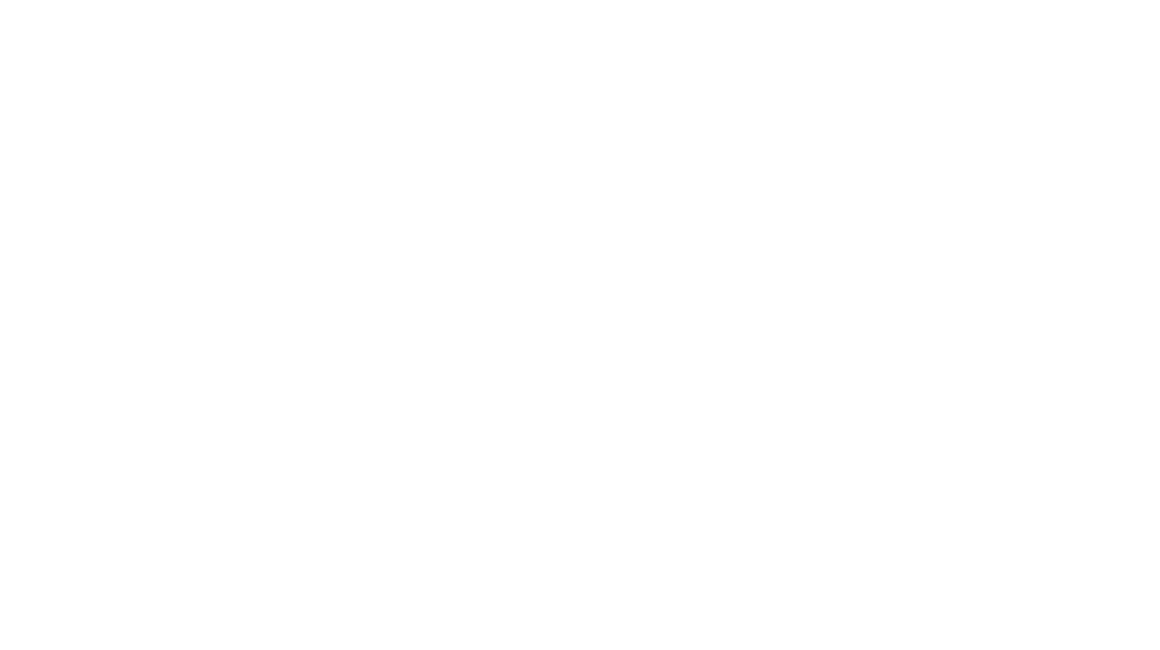
Идеология дистанции
Публикуем задуманное, как теперь очевидно, в другую эпоху (речь о начале 2022 года) интервью с философом Борисом Клюшниковым, который по нашей просьбе читал в Переделкине лекцию о «Пульчинелле» Агамбена и поделился своими размышлениями о маске и дистанции, «несовременности» Агамбена и жесте Пульчинеллы, создающим трагическую сцену.
Катя Морозова: Джорджо Агамбен, известный своим ковидным диссидентством, в «Пульчинелле» рассуждает о маске. Но что такое маска сегодня — с учетом пандемийного опыта?
Борис Клюшников: Прошло уже достаточно времени, и, оглядываясь назад, мы можем более внимательно проследить за развитием важнейших интегральных связей в проекте Агамбена. Важно, что когда Агамбен впервые выступил по поводу ковида, его заявления рассматривались с точки зрения «непопадания» в современные условия. Я помню, как Реза Негарестани писал, что позиция по поводу ковида точно дает нам знать, какие философские проекты по инерции развиваются в сторону этико-онтологической ошибки, а какие проекты включают ковид, а значит и современность, и, соответственно, актуальны. Я помню, как я внутренне поддерживал тогда Негарестани: Агамбен казался фигурой из какой-то неуместной сегодня эпохи (эпохи доцифрового образования, например). Я думаю, многие, в том числе сам Агамбен, пытаются уже после пандемии понять, а в чем состоял странный выпад Агамбена. Сейчас я думаю, что мы должны переосмыслить философию Агамбена уже с учетом войны, которая несет в себе ядро описанного мной выше парадокса: сама война с Украиной обладает характеристикой «несовременности» и воспринимается как наступление ужасного воображаемого прошлого на настоящее. Если Негарестани говорил об Агамбене как о субъективной траектории «несовременности», то сейчас это выпадение кажется частью объективных процессов. Я напомню, что для Агамбена само понятие современности, о чем я говорил на лекции, связано с возможностью стать «несовпадающим» элементом, который сквозь блеск эпохи хранит свидетельство о тьме времени.
По поводу ковидной маски: во время пандемии она стала, я считаю, символом нового консенсуса по поводу этики дистанции. Позиция Агамбена кажется в этом случае следующей: не воспринимаем ли мы идеологию дистанции без должной дистанции, которой требует современность? Этот парадокс распространяется и на ковидную маску: а маска ли она? Что такое маска? Маска в первую очередь указывает на расслоение между тем, что мы можем назвать лицом, с одной стороны, и ликом — с другой. Лицо — это место нерегистрируемых микровыражений, мышечных движений. Лицо — это место выражения сложноцензурируемых либидинальных импульсов. Маска (здесь я, пожалуй, обращусь к книге Ханса Бельтинга «Лица») оказывается остановкой движений, цензурой лица, которая должна привести лицо в соответствие с духом или ролью в сцене (это я имею в виду под ликом). Так вот, карнавал в Италии для Агамбена важен именно этим определением маски. Ковидная маска не закрепляет движения. Хочу отметить, что я выступаю против позиции Агамбена по поводу ковида, но мы не можем не отметить, что для Агамбена существует принципиальная разница между маской Пульчинеллы и ковидной маской: ковидная маска переводит контакты в поле «чистых лиц» — вы буквально встречаете в городе людей с белым экраном на месте рта. На этом экране проецируется реальность определенного договора. В тексте о Пульчинелле Агамбен называет это «ложной диалектикой маски и лица». Маска Пульчинеллы призвана вернуть маске маску — и одновременно с этим вернуть театру и сцене их важнейшее политическое значение.
Борис Клюшников: Прошло уже достаточно времени, и, оглядываясь назад, мы можем более внимательно проследить за развитием важнейших интегральных связей в проекте Агамбена. Важно, что когда Агамбен впервые выступил по поводу ковида, его заявления рассматривались с точки зрения «непопадания» в современные условия. Я помню, как Реза Негарестани писал, что позиция по поводу ковида точно дает нам знать, какие философские проекты по инерции развиваются в сторону этико-онтологической ошибки, а какие проекты включают ковид, а значит и современность, и, соответственно, актуальны. Я помню, как я внутренне поддерживал тогда Негарестани: Агамбен казался фигурой из какой-то неуместной сегодня эпохи (эпохи доцифрового образования, например). Я думаю, многие, в том числе сам Агамбен, пытаются уже после пандемии понять, а в чем состоял странный выпад Агамбена. Сейчас я думаю, что мы должны переосмыслить философию Агамбена уже с учетом войны, которая несет в себе ядро описанного мной выше парадокса: сама война с Украиной обладает характеристикой «несовременности» и воспринимается как наступление ужасного воображаемого прошлого на настоящее. Если Негарестани говорил об Агамбене как о субъективной траектории «несовременности», то сейчас это выпадение кажется частью объективных процессов. Я напомню, что для Агамбена само понятие современности, о чем я говорил на лекции, связано с возможностью стать «несовпадающим» элементом, который сквозь блеск эпохи хранит свидетельство о тьме времени.
По поводу ковидной маски: во время пандемии она стала, я считаю, символом нового консенсуса по поводу этики дистанции. Позиция Агамбена кажется в этом случае следующей: не воспринимаем ли мы идеологию дистанции без должной дистанции, которой требует современность? Этот парадокс распространяется и на ковидную маску: а маска ли она? Что такое маска? Маска в первую очередь указывает на расслоение между тем, что мы можем назвать лицом, с одной стороны, и ликом — с другой. Лицо — это место нерегистрируемых микровыражений, мышечных движений. Лицо — это место выражения сложноцензурируемых либидинальных импульсов. Маска (здесь я, пожалуй, обращусь к книге Ханса Бельтинга «Лица») оказывается остановкой движений, цензурой лица, которая должна привести лицо в соответствие с духом или ролью в сцене (это я имею в виду под ликом). Так вот, карнавал в Италии для Агамбена важен именно этим определением маски. Ковидная маска не закрепляет движения. Хочу отметить, что я выступаю против позиции Агамбена по поводу ковида, но мы не можем не отметить, что для Агамбена существует принципиальная разница между маской Пульчинеллы и ковидной маской: ковидная маска переводит контакты в поле «чистых лиц» — вы буквально встречаете в городе людей с белым экраном на месте рта. На этом экране проецируется реальность определенного договора. В тексте о Пульчинелле Агамбен называет это «ложной диалектикой маски и лица». Маска Пульчинеллы призвана вернуть маске маску — и одновременно с этим вернуть театру и сцене их важнейшее политическое значение.
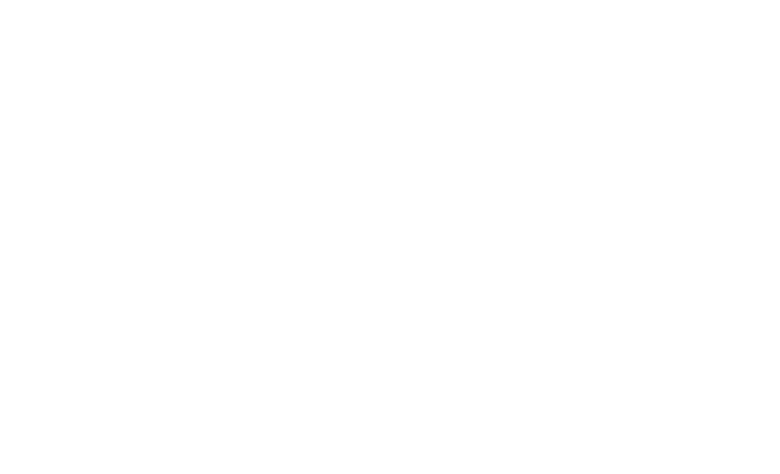
КМ: Начало работы над книгой Агамбена в нашем издательстве совпало с началом пандемии, распространившейся по Европе с севера Италии (из Ломбардии и Венето), где тогда проводился венецианский карнавал. Первые сотрудники коммунальных служб в белых костюмах химзащиты и масках болезненно напоминали именно Пульчинеллу, но переосмысленного, Пульчинеллу из научной фантастики. Насколько его божественный/демонический, по Агамбену, образ можно вписать в современные сюжеты?
БК: Такие фигуры, как Пульчинелла, — это определенные персонажи, Агамбена интересуют роли этих персонажей в отношении сцены. Выскажу, быть может, смелое предположение, но если мы ищем Пульчинеллу в этой метафоре, то это сам Агамбен. После того как многие закенселили Агамбена, он начал осмыслять это состояние (странным образом) — благодарил за то, что мир дал ему возможность больше не быть приглашенным на многие конференции и события. Я думаю, Агамбен сам бы не согласился с такой формулировкой, но в его описании художника Тьеполо (стареющий художник в момент развала республики) через обращение к Пульчинеле он пытался показать, как катастрофа обращается фарсом.
БК: Такие фигуры, как Пульчинелла, — это определенные персонажи, Агамбена интересуют роли этих персонажей в отношении сцены. Выскажу, быть может, смелое предположение, но если мы ищем Пульчинеллу в этой метафоре, то это сам Агамбен. После того как многие закенселили Агамбена, он начал осмыслять это состояние (странным образом) — благодарил за то, что мир дал ему возможность больше не быть приглашенным на многие конференции и события. Я думаю, Агамбен сам бы не согласился с такой формулировкой, но в его описании художника Тьеполо (стареющий художник в момент развала республики) через обращение к Пульчинеле он пытался показать, как катастрофа обращается фарсом.
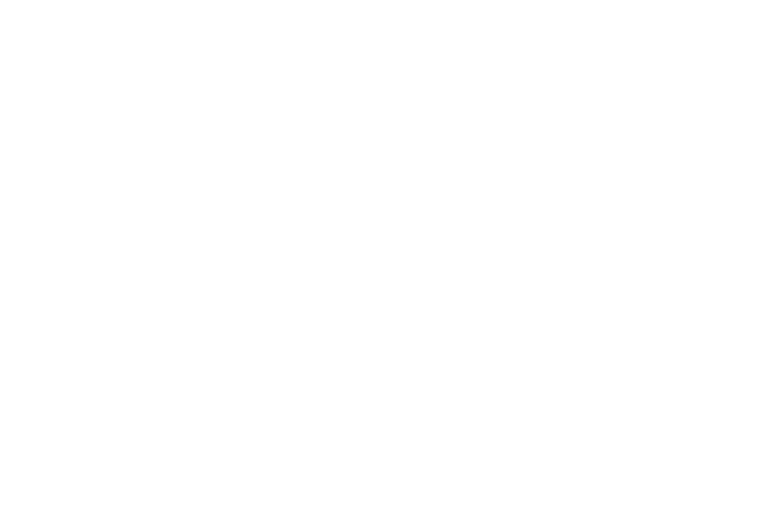
КМ: Фантастика с ее конструированием альтернативных миров и миропорядков, задаванием «серьезных вопросов», кажется, максимально далека от комедии и шутовства. Или это дилетантский взгляд на жанр? Может ли и как комедийное/маскарадное проявляться в фантастике? (Сразу вспоминается большое количество персонажей в самых разных масках, первыми на ум пришли почему-то обитатели Арракиса, чьи маски по форме похожи на медицинские FFP2, которые до недавних пор нужно было носить в транспорте в Венеции.)
БК: Самое первое, что мне приходит здесь в голову, — это история развития киберпанка. Нил Стивенсон обратил внимание, что киберпанк достаточно быстро впадает в депрессивную констатацию власти корпораций и технологий, где не остается места для политической агентности к сопротивлению. Это неудивительно, так как Уиллиам Гибсон и Брюс Стерлинг говорили, что киберпанк — это исследование идеологии Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, где общество подменяется индивидами, ведущими борьбу за выживание. Посткиберпанк как раз привносит элементы комического и абсурдного, однако они не противоречат катастрофе low life, high tech, но пытаются критиковать это возвышенное сакрализованное отношение к упадку. Но я напомню также, что фантастика — это бульварно-теоретический жанр, в ней постоянно чувствуется напряжение между литературными клише и теориями, движущими нарратив и сеттинг. В самой социальной дистрибуции фантастики есть этот элемент фарса: в конце эпох, в жутком расколе вы заходите в книжный киоск, чтобы спрятаться в чтении, но через эту нелепую постановку чтения вы попадаете в состояние несоизмеримости — космооперы, технологии, научные теории.
Фантастика (или назовем ее «фикция», fiction) крайне важна для Агамбена. В основе его взгляда на природу образа лежат жест и движение. Пульчинелла как персонаж — это особое жестуальное движение. Вы наверняка знаете, что Агамбен один из немногих развил теорию образа Аби Варбурга не в сторону визуальности, а в сторону жеста. Он пытался показать, что визуальность сцены, ее статичность и представленность, на самом деле содержит в себе непроницаемое ядро, связанное с жестом. Сейчас я уйду немного в сторону, но мне кажется это принципиальным. В моей лекции, которую можно найти на YouTube, я подробно анализирую логику репрезентации в римской Античности. Именно там впервые появляется фигура, помещенная в изобразительное пространство, которая разрезает сцену собственным наблюдением. Иными словами, «взгляд» на сцену оказывается помещен внутрь самой сцены. Пьер Клоссовски, занимающийся помимо прочего классической филологией, отметил о римской Античности, что она выстраивает онтологическое отношение к идее скрытого и тайного подглядывания, которое само становится видимым. Подглядывание, смотрение переводится таким образом из визуальности в телесное движение. Смотрение — как жест, направленный одной своей стороной к сцене, а другой к зрителю. Именно это поразило меня в работе Эдуара Мане «Бал-маскарад в Опере», где Пульчинелла (Полишинель) в маскарадном костюме (это сам художник) создает своей рукой сцену, за которой наблюдает. Это трагическая сцена — Франция после поражения коммуны и после войны. На красном ковре (на крови погибших) стоят богатые мужчины и выбирают секс-работниц в маскарадных масках. Мужские лица открыты, но безлики (как в моем примере по поводу ковидной маски), то есть бородатые лица в цилиндрах выступают как патриархальный и насильственный консенсус. Миру мужчин соответствует мир женщин, которые, будучи в масках, тем не менее всегда на картинах Мане связаны с сингуляризацией. Мане показывает Париж порочный, кровавый и развлекательный, но (!) я считаю, что сама эта сцена выстроена в итоге ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы через фигуру Пульчинеллы мы как зрители могли почувствовать ужас и насилие, фрагментацию и объективацию тел, но обходным путем, через создание сцены карнавала и праздника. Вот моя идея: сцена визуально возводится в искусстве, в фантастике, но не для того, чтобы поддерживать «миры» и «заставлять в них верить», а для того, чтобы эти миры оказались в самих себе дезавуированы, — тогда они сводятся к жесту-движению Пульчинеллы. Поднятая рука Пульчинеллы на картине Мане — это рука художника, движение кисти, которое создает мир, но выступает его схлопывающим моментом. И это важно для фантастики, если мы ее рассмотрим через призму агамбеновского отношения. Миры и сеттинги создаются, чтобы через бульварную развлекательную аллегорию дотронуться до парадокса века — где развлечение и трагедия связаны воедино.
БК: Самое первое, что мне приходит здесь в голову, — это история развития киберпанка. Нил Стивенсон обратил внимание, что киберпанк достаточно быстро впадает в депрессивную констатацию власти корпораций и технологий, где не остается места для политической агентности к сопротивлению. Это неудивительно, так как Уиллиам Гибсон и Брюс Стерлинг говорили, что киберпанк — это исследование идеологии Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, где общество подменяется индивидами, ведущими борьбу за выживание. Посткиберпанк как раз привносит элементы комического и абсурдного, однако они не противоречат катастрофе low life, high tech, но пытаются критиковать это возвышенное сакрализованное отношение к упадку. Но я напомню также, что фантастика — это бульварно-теоретический жанр, в ней постоянно чувствуется напряжение между литературными клише и теориями, движущими нарратив и сеттинг. В самой социальной дистрибуции фантастики есть этот элемент фарса: в конце эпох, в жутком расколе вы заходите в книжный киоск, чтобы спрятаться в чтении, но через эту нелепую постановку чтения вы попадаете в состояние несоизмеримости — космооперы, технологии, научные теории.
Фантастика (или назовем ее «фикция», fiction) крайне важна для Агамбена. В основе его взгляда на природу образа лежат жест и движение. Пульчинелла как персонаж — это особое жестуальное движение. Вы наверняка знаете, что Агамбен один из немногих развил теорию образа Аби Варбурга не в сторону визуальности, а в сторону жеста. Он пытался показать, что визуальность сцены, ее статичность и представленность, на самом деле содержит в себе непроницаемое ядро, связанное с жестом. Сейчас я уйду немного в сторону, но мне кажется это принципиальным. В моей лекции, которую можно найти на YouTube, я подробно анализирую логику репрезентации в римской Античности. Именно там впервые появляется фигура, помещенная в изобразительное пространство, которая разрезает сцену собственным наблюдением. Иными словами, «взгляд» на сцену оказывается помещен внутрь самой сцены. Пьер Клоссовски, занимающийся помимо прочего классической филологией, отметил о римской Античности, что она выстраивает онтологическое отношение к идее скрытого и тайного подглядывания, которое само становится видимым. Подглядывание, смотрение переводится таким образом из визуальности в телесное движение. Смотрение — как жест, направленный одной своей стороной к сцене, а другой к зрителю. Именно это поразило меня в работе Эдуара Мане «Бал-маскарад в Опере», где Пульчинелла (Полишинель) в маскарадном костюме (это сам художник) создает своей рукой сцену, за которой наблюдает. Это трагическая сцена — Франция после поражения коммуны и после войны. На красном ковре (на крови погибших) стоят богатые мужчины и выбирают секс-работниц в маскарадных масках. Мужские лица открыты, но безлики (как в моем примере по поводу ковидной маски), то есть бородатые лица в цилиндрах выступают как патриархальный и насильственный консенсус. Миру мужчин соответствует мир женщин, которые, будучи в масках, тем не менее всегда на картинах Мане связаны с сингуляризацией. Мане показывает Париж порочный, кровавый и развлекательный, но (!) я считаю, что сама эта сцена выстроена в итоге ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобы через фигуру Пульчинеллы мы как зрители могли почувствовать ужас и насилие, фрагментацию и объективацию тел, но обходным путем, через создание сцены карнавала и праздника. Вот моя идея: сцена визуально возводится в искусстве, в фантастике, но не для того, чтобы поддерживать «миры» и «заставлять в них верить», а для того, чтобы эти миры оказались в самих себе дезавуированы, — тогда они сводятся к жесту-движению Пульчинеллы. Поднятая рука Пульчинеллы на картине Мане — это рука художника, движение кисти, которое создает мир, но выступает его схлопывающим моментом. И это важно для фантастики, если мы ее рассмотрим через призму агамбеновского отношения. Миры и сеттинги создаются, чтобы через бульварную развлекательную аллегорию дотронуться до парадокса века — где развлечение и трагедия связаны воедино.
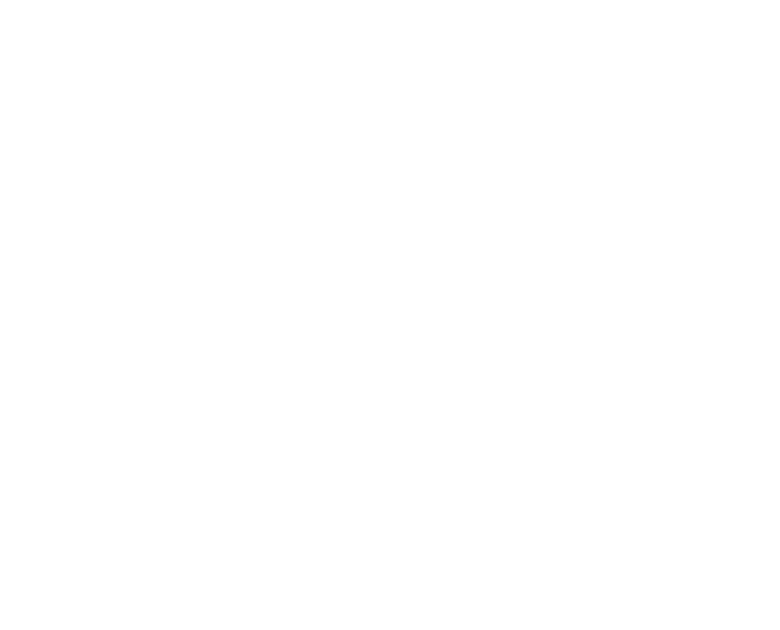
По сути, эта работа Эдуара Мане ведь посвящена очень актуальному для российского искусства вопросу — институциональному автоматизму и инерции. Происходит кровавое подавление, идет война, но художники и богатые мужчины веселятся как ни в чем не бывало. Художник — их слуга, часть мира подавленной революции, но, изображая эту сцену, Мане пытается через свой эстетизм вернуть шок войны, который в реакционной повседневности выглядит как невозможность испытывать шок — как анастезия культурой. Показывая этот развлекательный бум, Мане ведет нас к сердцевине этого взрыва. Я читал Пульчинеллу и Агамбена после начала войны. Мои друзья писали мне, что моя лекция по поводу Агамбена словно из другого, прошлого мира, где нас заботила пандемия. В целом ковид и в нашей беседе — это скорее место, место несвоевременности, которая для меня есть возможность столкновения с российской агрессией. Это было лето, и в Москве проходили выставки, открытия — но я не говорил бы, что люди «просто веселятся» во время трагедии. Это «веселье» должны быть взято в сценические скобки — как автоматизм вытеснения, забытия и шока. Я постоянно думаю, возможен ли эстетический жест Мане в условиях Москвы. То есть в данном случае роль фантастики и фикции — служить аллегорическим путем столкновения с трагедией, возможно, многие люди могут столкнуться с трагедией только в обличии фарса. Отдельный вопрос, над которым я хочу дальше работать, — это вопрос о том, как зависимость художника (Тьеполо — Мане) от капитала в широком смысле формулирует отчаявшееся и смешное положение искусства, — таким оно всегда раскрывается во время войны. Вернемся к Агамбену — он пишет о мраке века, который мы должны разглядеть под блестками и весельем.
КМ: За кем из авторов-фантастов, за чьими мирами и поэтикой вы следите?
БК: После 24 февраля я, может быть, как и многие, чувствую невозможность читать. Я слежу за блогами, новинками, что-то выписываю себе, но не знаю, когда снова смогу читать. Но, возвращаясь назад, я вспоминаю конечно Филипа Дика. Джеймисон справедливо назвал его Шекспиром, потому что у Дика выстраивается вопрос о переходе барочной драмы (Trauerspiel) в трагедию. Если бы я и хотел что-то перечитать или вернуться к какому-то стилю, я бы перечитал «Лейтесь, слезы, сказал полицейский». Этот роман рассказывает о популярном певце времен полицейской диктатуры, который по каким-то причинам оказывается стерт из реальности — его никто не помнит и не знает. Одновременно с этим в стране установлена полицейская диктатура: полиция и национальная гвардия контролируют города, на улицах размещены их КПП со сплошными проверками документов, повсюду внедрены информаторы. Противников режима отправляют в исправительно-трудовые лагеря в удаленные места (в том числе на Луну), университетские города как оплоты протеста уничтожены, за ушедшими в подполье студентами ведется охота. Для переживших войну и лагеря афроамериканцев введена политика одного ребенка.
Я вспоминаю этот роман не только потому, что он касается темы поп-певцов и режима. В нем стирание личности приводит человека к политизации. И в то же время быть никем для Филипа Дика — виртуальное место скорби. Его фантастика создает персонажей для скорби там, где существует запрет на скорбь.
Я не читаю фантастику сейчас, но надеюсь вернуться когда-нибудь к новым книгам. Другое дело — то, что я бы назвал аудиовизуальной фантастикой. Например, то, что делает Евгений Былина, и то, что делал поэтический «Альманах-огонь», мне кажется крайне важным — это материальные fictions, задействующие звук и движущееся изображение. В будущем я обязательно хочу закончить текст о звуковом альбоме и поэзии Урсулы Ле Гуин, где фантастика понимается уже не через письмо, а через некие материальные артефакты — полевые записи, ксеномузыку, языки.
КМ: За кем из авторов-фантастов, за чьими мирами и поэтикой вы следите?
БК: После 24 февраля я, может быть, как и многие, чувствую невозможность читать. Я слежу за блогами, новинками, что-то выписываю себе, но не знаю, когда снова смогу читать. Но, возвращаясь назад, я вспоминаю конечно Филипа Дика. Джеймисон справедливо назвал его Шекспиром, потому что у Дика выстраивается вопрос о переходе барочной драмы (Trauerspiel) в трагедию. Если бы я и хотел что-то перечитать или вернуться к какому-то стилю, я бы перечитал «Лейтесь, слезы, сказал полицейский». Этот роман рассказывает о популярном певце времен полицейской диктатуры, который по каким-то причинам оказывается стерт из реальности — его никто не помнит и не знает. Одновременно с этим в стране установлена полицейская диктатура: полиция и национальная гвардия контролируют города, на улицах размещены их КПП со сплошными проверками документов, повсюду внедрены информаторы. Противников режима отправляют в исправительно-трудовые лагеря в удаленные места (в том числе на Луну), университетские города как оплоты протеста уничтожены, за ушедшими в подполье студентами ведется охота. Для переживших войну и лагеря афроамериканцев введена политика одного ребенка.
Я вспоминаю этот роман не только потому, что он касается темы поп-певцов и режима. В нем стирание личности приводит человека к политизации. И в то же время быть никем для Филипа Дика — виртуальное место скорби. Его фантастика создает персонажей для скорби там, где существует запрет на скорбь.
Я не читаю фантастику сейчас, но надеюсь вернуться когда-нибудь к новым книгам. Другое дело — то, что я бы назвал аудиовизуальной фантастикой. Например, то, что делает Евгений Былина, и то, что делал поэтический «Альманах-огонь», мне кажется крайне важным — это материальные fictions, задействующие звук и движущееся изображение. В будущем я обязательно хочу закончить текст о звуковом альбоме и поэзии Урсулы Ле Гуин, где фантастика понимается уже не через письмо, а через некие материальные артефакты — полевые записи, ксеномузыку, языки.
вас может заинтересовать

