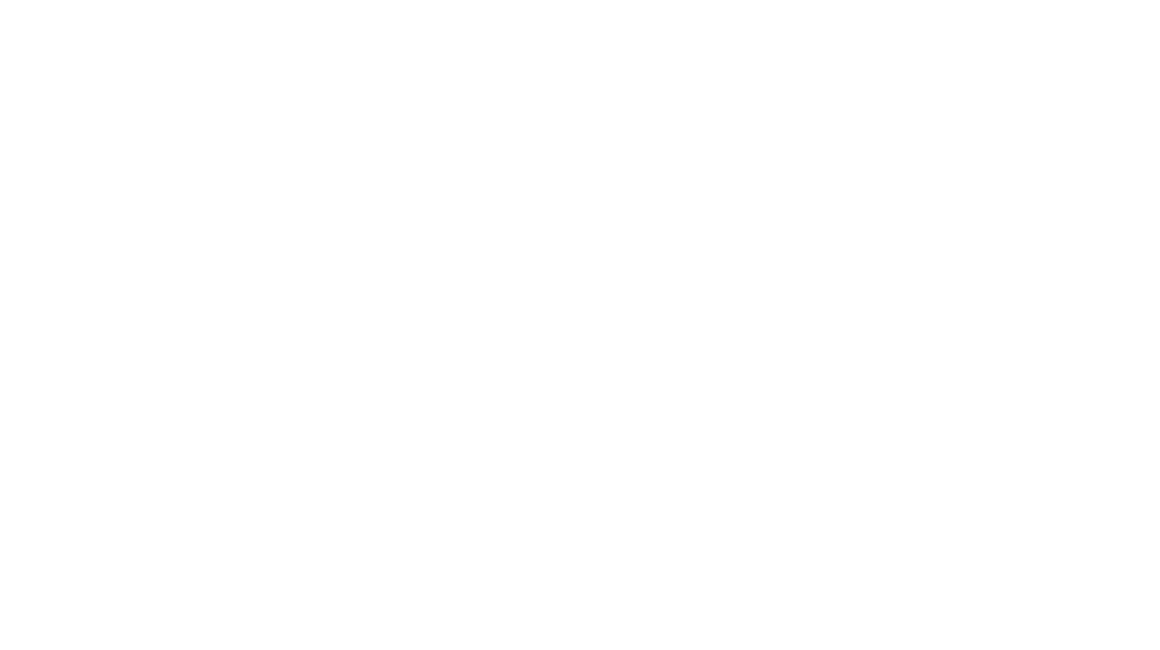
Тула с ключом
Публикуем интервью Дмитрия Бреслера о публикаторской судьбе «По ту сторону Тулы» Андрея Николева, особенностях его появления, о том, как для понимания текста важны советский архив и трансмедиальность, и о том, что может дать николевский роман сегодняшнему читателю.
Руслан Комадей: Каким был путь к этой книге Николева для тебя?
Дмитрий Бреслер: Моё знакомство не случайное, а связанное с интересом к Вагинову и вокруг него. И Егунов поначалу мне был интересен как друг и один из героев Вагинова. Егуновская «По ту сторону Тулы» сразу заинтересовала и сразу показалась непонятной. Я с разных сторон подступался к этому тексту, по разным поводам думал о нём написать.
Первый раз я прочитал роман, когда учился в магистратуре на филфаке. Читал публикацию из альманаха Wiener Slawistischer Almanach 1993 года в Горьковке. Та публикация была выполнена силами последнего поколения интеллигенции, которая относится к ленинградской неподцензурной литературе.
В конце 80-х – начале 90-х Егуновым заинтересовались молодые авторы, критики, филологи. Это компания в первую очередь Василия Кондратьева, Игоря Вишневецкого, Глеба Морева. Они не знали Егунова лично (хотя и общались с людьми из его круга), но были связаны с академической средой, как например Кондратьев, у которого родители были из университетской среды, или Морев, учившийся в Тарту, или Вишневецкий, у которого оба родителя заведовали кафедрами. Все они пришли к Егунову сами, в том числе благодаря публикациям его поэзии в тамиздате, например, в мюнхенском сборнике «Потайная муза», который Борис Филиппов сделал в самом начале 60-х годов. До этого долгое время интерес к Егунову поддерживался теми, кто знал его лично. Но вышеперечисленные авторы уже не могли быть с ними знакомы (Егунов умер в 1968 г. – прим. ред.). Интерес этот проявлялся и на практике, например, у Василия Кондратьева недавно вышел сборник прозы, где мы находим целых два текста о Егунове, один ранний, датируемый 1989 годом, который был опубликован впервые в «Митином журнале», второй 1999 года, последних лет жизни, переосмысляющий Егунова, они любопытно рифмуются.
Глеб Морев выступил редактором собрания сочинений 1993 года. Там не только «Тула», но еще и несколько редакций поэмы «Беспредметная юность», отдельные стихи, все, что потом он же выпустил в ОГИ в начале нулевых.
То собрание во многом инициировал Валерий Сомсиков, душеприказчик и друг поздних лет Егунова. Моя соавторка по новому изданию Кристина Константинова работала с архивами Сомсикова, они хранятся в Купчино у родственников Валерия. Сомсиков был не только другом, но и доверенным человеком Егунова, действительно заинтересованным в публикации наследия своего учителя и наставника.
Биографическая работа, которую он произвел, очень важна и без нее была бы невозможна наша деятельность, и не только она – например, публикация «Беспредметной юности», которую Массио Маурицио выпустил в 2009 году, тоже была бы невозможна, хотя Сомсиков не был филологом.
Мы учли все вышеперечисленные и разрозненные материалы, и всё, что известно на сегодня о Егунове в период 20-х – 30-х гг., собрали в нашем томе.
РК: Расскажи про обстоятельства первого издания «По ту сторону Тулы» в 1931 году.
ДБ: «По ту сторону Тулы» – одна из тех книг, что выходили в конце 20-х – начале 30-х в издательстве писателей в Ленинграде, хотя не очень должны были бы выйти из-за своих политических характеристик, по тому, как они написаны и кем.
Об этом издательстве мы знаем очень мало, кроме того, что вопреки всему там печатали чудесные книги: Добычина, обэриутов, Вагинова, Егунова, Баршева, большие собрания сочинений Блока, Хлебникова…
Но когда я слышу, что эти книги напечатаны «вопреки всему», то хочется уточнить, «всему» – это чему? Всё-таки это кооперативное издательство, более того, это последнее кооперативное издательство, которому выдали разрешение на деятельность в 27-м году. Оно печатало книги, когда все другие уже закрывались, потому что, вероятно, было под патронажем. Им занимались Замятин и Федин. Константин Федин был большим функционером, таким литературным генералом.
Мы попробовали собрать все известные экземпляры 1931 года по библиотекам – нашлось совсем немного, в основном обязательные экземпляры, разосланные по библиотекам. При этом нам известно только несколько книг, сохранившихся в частных собраниях, которые читались с пометами. Нам было важно выяснить, насколько книжка сильно распространялась.
Например, мы узнали, что Егунов отправлял книгу Горькому на поклон, у Волошина была книжка. Правда стоит отметить, у них у обоих сохранились только титульные листы. Это нормальная практика для больших библиотек. Горькому присылали книги сотнями, каждая прочитывалась и выбрасывалась, а титульный лист оставлялся. Горькому, естественно, не понравилось, что написано в «По ту сторону Тулы».
РК: Расскажи про значение подзаголовка «Советская пастораль», который встречался в нескольких экземплярах 1931 года, а в новом издании воспроизведен только в выходных данных книги.
ДБ: Теоретически подзаголовок «Советская пастораль» можно отнести, наверное, к элементам цензуры или самоцензуры и адресации, об этом мы пишем в предисловии. Например, у Волошина книжка с этой подписью, а у Горького нет. Это важная проблематика, связанная с литературой как медиа. Массовость и возможность говорения посредством книги то ли с самим собой, то ли с другом, попытка сохранить личный контакт. Телефоны тогда были не так распространены, и книжка могла быть таким телефоном.
Но насколько это подзаголовок, который расширяет смысл текста, или подзаголовок – как последняя фига в кармане – я не знаю. Мне нравится первый вариант, для меня этот ответ интересней, а что на самом деле было – неизвестно.
Об этом можно рассуждать, только если мы получим больше количество книжек с подписью «Советская пастораль», а так мы их знаем три, и одна из них – егуновская копия, она пропала. Если мы найдём еще какие-то книжки, то сможем об этом продолжать разговор. В этом и особенность архива. По Фуко, это то, что используется властью. То, что мы никому не показываем до тех пор, пока не хотим показывать. Примерно так же и с Егуновым: мы сейчас хотим показать адресность, а раньше хотели показать диссидентство, эзопов язык. И это работало в силу архивного статуса.
Вообще особенность трансляции поэтики Егунова связана с проблемой архива. Что это за особенность советского архива, работает ли он по Фуко, Делезу или по Деррида – было бы любопытно установить. Это то, чем мы занимаемся в контексте подготовки публикации – овеществляем следы.
РК: Как ты сам считаешь, подзаголовок «Советская пастораль» – это продуктивный ключ чтения романа? Он позволяет какие-то разнонаправленные модусы примирить?
ДБ: Адресность – его главный модус. То, что вписано от руки, то, что предназначалось конкретному адресату – это можно использовать, как ключ к сообщению. Говорение посредством романа, продолжаем разговор. Абсолютно точно Егунов придумал заголовок, никто другой, в 30-м или 31-м году, может быть, сразу после выхода романа. При этом «Тула», конечно, никакая не пастораль. Она даже едва ли связана с романом эпохи второй софистики. Я имею в виду то, что проглядывает сквозь заглавие романа Антония Диогена или сквозь выражение Ultima Thule. Но у меня есть версия, что название просто красиво фонетически звучит: в ту сторону, по ту ту, ту-ту.
Заголовок «По ту сторону Тулы» был известен и до публикации романа как одна из формул перевода. Егунов мог её воспроизвести в предисловии к «Эфиопике» Гелиодора в 32 году – там можно было перевести как «По ту сторону Фулы», но он формулу не сохраняет. Судя по всему Егунов разводил античный источник и то, как эта формула звучит на русском. Чувствуется, что эта Тула с ключом, только ключей нет.
РК: Какое отношение название романа имеет к настоящей географической Туле (в Тульской области)?
ДБ: Была идея, что все ключи находятся в Крыму – Егунов совершал туда поездку в августе 1929 года, в Судаке тусил, в Коктебеле... И датировка начала романа совпадает с тем, когда он приезжает из Крыма и по приезду начинает писать роман.
Там есть тульские пейзажи забавные, с мулами, о которых думаешь, это что за Тула вообще? А это прямая цитата из текста про паломничество, который написан неким пастырем Анисимовым в конце 19-го века. И тут ты понимаешь, что мулы – это потому что Иерусалим, Акрейка – это на самом деле Акра. Николев просто заменяет какие-то вещи, и нерусские пейзажи в тексте – это крымские или средиземноморские. Так что Тульская область – это Крым.
Чтобы что-то найти конкретнее, надо ехать туда минимум на месяц, искать какую-нибудь бабушку, которая фотографии в альбоме сохранила. Там есть краеведческий музей, но с ним связи никакой. Мы даже выступали по zoom'у на конференции в Судаке, пытались найти кого-то, кто смог бы нам помочь, но не нашли.
РК: Многие, в том числе я и ты, впервые узнали о Егунове в контексте Вагинова и его прозы. Но этот путь кажется очевидным, но, может быть, стоит простроить какие-то другие цепочки, связи с другими текстами и традициями того времени и даже более ранними? Например, со «Странствиями Никодима Старшего» Алексея Скалдина.
ДБ: И у Егунова, и у Скалдина мне видится особенность переживания исторического момента антикварного типа. Так антикварно воспринималось не монументальное, как у Ницше в «Пользе и вреде истории для жизни», а вещи, которые должны пониматься как традиционные. Литературный дискурс тоже может быть антикварным, архивным, устаревшим, непонятным. Думаю, это близко и Скалдину, и Вагинову, второму во многом благодаря Егунову.
Дмитрий Бреслер: Моё знакомство не случайное, а связанное с интересом к Вагинову и вокруг него. И Егунов поначалу мне был интересен как друг и один из героев Вагинова. Егуновская «По ту сторону Тулы» сразу заинтересовала и сразу показалась непонятной. Я с разных сторон подступался к этому тексту, по разным поводам думал о нём написать.
Первый раз я прочитал роман, когда учился в магистратуре на филфаке. Читал публикацию из альманаха Wiener Slawistischer Almanach 1993 года в Горьковке. Та публикация была выполнена силами последнего поколения интеллигенции, которая относится к ленинградской неподцензурной литературе.
В конце 80-х – начале 90-х Егуновым заинтересовались молодые авторы, критики, филологи. Это компания в первую очередь Василия Кондратьева, Игоря Вишневецкого, Глеба Морева. Они не знали Егунова лично (хотя и общались с людьми из его круга), но были связаны с академической средой, как например Кондратьев, у которого родители были из университетской среды, или Морев, учившийся в Тарту, или Вишневецкий, у которого оба родителя заведовали кафедрами. Все они пришли к Егунову сами, в том числе благодаря публикациям его поэзии в тамиздате, например, в мюнхенском сборнике «Потайная муза», который Борис Филиппов сделал в самом начале 60-х годов. До этого долгое время интерес к Егунову поддерживался теми, кто знал его лично. Но вышеперечисленные авторы уже не могли быть с ними знакомы (Егунов умер в 1968 г. – прим. ред.). Интерес этот проявлялся и на практике, например, у Василия Кондратьева недавно вышел сборник прозы, где мы находим целых два текста о Егунове, один ранний, датируемый 1989 годом, который был опубликован впервые в «Митином журнале», второй 1999 года, последних лет жизни, переосмысляющий Егунова, они любопытно рифмуются.
Глеб Морев выступил редактором собрания сочинений 1993 года. Там не только «Тула», но еще и несколько редакций поэмы «Беспредметная юность», отдельные стихи, все, что потом он же выпустил в ОГИ в начале нулевых.
То собрание во многом инициировал Валерий Сомсиков, душеприказчик и друг поздних лет Егунова. Моя соавторка по новому изданию Кристина Константинова работала с архивами Сомсикова, они хранятся в Купчино у родственников Валерия. Сомсиков был не только другом, но и доверенным человеком Егунова, действительно заинтересованным в публикации наследия своего учителя и наставника.
Биографическая работа, которую он произвел, очень важна и без нее была бы невозможна наша деятельность, и не только она – например, публикация «Беспредметной юности», которую Массио Маурицио выпустил в 2009 году, тоже была бы невозможна, хотя Сомсиков не был филологом.
Мы учли все вышеперечисленные и разрозненные материалы, и всё, что известно на сегодня о Егунове в период 20-х – 30-х гг., собрали в нашем томе.
РК: Расскажи про обстоятельства первого издания «По ту сторону Тулы» в 1931 году.
ДБ: «По ту сторону Тулы» – одна из тех книг, что выходили в конце 20-х – начале 30-х в издательстве писателей в Ленинграде, хотя не очень должны были бы выйти из-за своих политических характеристик, по тому, как они написаны и кем.
Об этом издательстве мы знаем очень мало, кроме того, что вопреки всему там печатали чудесные книги: Добычина, обэриутов, Вагинова, Егунова, Баршева, большие собрания сочинений Блока, Хлебникова…
Но когда я слышу, что эти книги напечатаны «вопреки всему», то хочется уточнить, «всему» – это чему? Всё-таки это кооперативное издательство, более того, это последнее кооперативное издательство, которому выдали разрешение на деятельность в 27-м году. Оно печатало книги, когда все другие уже закрывались, потому что, вероятно, было под патронажем. Им занимались Замятин и Федин. Константин Федин был большим функционером, таким литературным генералом.
Мы попробовали собрать все известные экземпляры 1931 года по библиотекам – нашлось совсем немного, в основном обязательные экземпляры, разосланные по библиотекам. При этом нам известно только несколько книг, сохранившихся в частных собраниях, которые читались с пометами. Нам было важно выяснить, насколько книжка сильно распространялась.
Например, мы узнали, что Егунов отправлял книгу Горькому на поклон, у Волошина была книжка. Правда стоит отметить, у них у обоих сохранились только титульные листы. Это нормальная практика для больших библиотек. Горькому присылали книги сотнями, каждая прочитывалась и выбрасывалась, а титульный лист оставлялся. Горькому, естественно, не понравилось, что написано в «По ту сторону Тулы».
РК: Расскажи про значение подзаголовка «Советская пастораль», который встречался в нескольких экземплярах 1931 года, а в новом издании воспроизведен только в выходных данных книги.
ДБ: Теоретически подзаголовок «Советская пастораль» можно отнести, наверное, к элементам цензуры или самоцензуры и адресации, об этом мы пишем в предисловии. Например, у Волошина книжка с этой подписью, а у Горького нет. Это важная проблематика, связанная с литературой как медиа. Массовость и возможность говорения посредством книги то ли с самим собой, то ли с другом, попытка сохранить личный контакт. Телефоны тогда были не так распространены, и книжка могла быть таким телефоном.
Но насколько это подзаголовок, который расширяет смысл текста, или подзаголовок – как последняя фига в кармане – я не знаю. Мне нравится первый вариант, для меня этот ответ интересней, а что на самом деле было – неизвестно.
Об этом можно рассуждать, только если мы получим больше количество книжек с подписью «Советская пастораль», а так мы их знаем три, и одна из них – егуновская копия, она пропала. Если мы найдём еще какие-то книжки, то сможем об этом продолжать разговор. В этом и особенность архива. По Фуко, это то, что используется властью. То, что мы никому не показываем до тех пор, пока не хотим показывать. Примерно так же и с Егуновым: мы сейчас хотим показать адресность, а раньше хотели показать диссидентство, эзопов язык. И это работало в силу архивного статуса.
Вообще особенность трансляции поэтики Егунова связана с проблемой архива. Что это за особенность советского архива, работает ли он по Фуко, Делезу или по Деррида – было бы любопытно установить. Это то, чем мы занимаемся в контексте подготовки публикации – овеществляем следы.
РК: Как ты сам считаешь, подзаголовок «Советская пастораль» – это продуктивный ключ чтения романа? Он позволяет какие-то разнонаправленные модусы примирить?
ДБ: Адресность – его главный модус. То, что вписано от руки, то, что предназначалось конкретному адресату – это можно использовать, как ключ к сообщению. Говорение посредством романа, продолжаем разговор. Абсолютно точно Егунов придумал заголовок, никто другой, в 30-м или 31-м году, может быть, сразу после выхода романа. При этом «Тула», конечно, никакая не пастораль. Она даже едва ли связана с романом эпохи второй софистики. Я имею в виду то, что проглядывает сквозь заглавие романа Антония Диогена или сквозь выражение Ultima Thule. Но у меня есть версия, что название просто красиво фонетически звучит: в ту сторону, по ту ту, ту-ту.
Заголовок «По ту сторону Тулы» был известен и до публикации романа как одна из формул перевода. Егунов мог её воспроизвести в предисловии к «Эфиопике» Гелиодора в 32 году – там можно было перевести как «По ту сторону Фулы», но он формулу не сохраняет. Судя по всему Егунов разводил античный источник и то, как эта формула звучит на русском. Чувствуется, что эта Тула с ключом, только ключей нет.
РК: Какое отношение название романа имеет к настоящей географической Туле (в Тульской области)?
ДБ: Была идея, что все ключи находятся в Крыму – Егунов совершал туда поездку в августе 1929 года, в Судаке тусил, в Коктебеле... И датировка начала романа совпадает с тем, когда он приезжает из Крыма и по приезду начинает писать роман.
Там есть тульские пейзажи забавные, с мулами, о которых думаешь, это что за Тула вообще? А это прямая цитата из текста про паломничество, который написан неким пастырем Анисимовым в конце 19-го века. И тут ты понимаешь, что мулы – это потому что Иерусалим, Акрейка – это на самом деле Акра. Николев просто заменяет какие-то вещи, и нерусские пейзажи в тексте – это крымские или средиземноморские. Так что Тульская область – это Крым.
Чтобы что-то найти конкретнее, надо ехать туда минимум на месяц, искать какую-нибудь бабушку, которая фотографии в альбоме сохранила. Там есть краеведческий музей, но с ним связи никакой. Мы даже выступали по zoom'у на конференции в Судаке, пытались найти кого-то, кто смог бы нам помочь, но не нашли.
РК: Многие, в том числе я и ты, впервые узнали о Егунове в контексте Вагинова и его прозы. Но этот путь кажется очевидным, но, может быть, стоит простроить какие-то другие цепочки, связи с другими текстами и традициями того времени и даже более ранними? Например, со «Странствиями Никодима Старшего» Алексея Скалдина.
ДБ: И у Егунова, и у Скалдина мне видится особенность переживания исторического момента антикварного типа. Так антикварно воспринималось не монументальное, как у Ницше в «Пользе и вреде истории для жизни», а вещи, которые должны пониматься как традиционные. Литературный дискурс тоже может быть антикварным, архивным, устаревшим, непонятным. Думаю, это близко и Скалдину, и Вагинову, второму во многом благодаря Егунову.
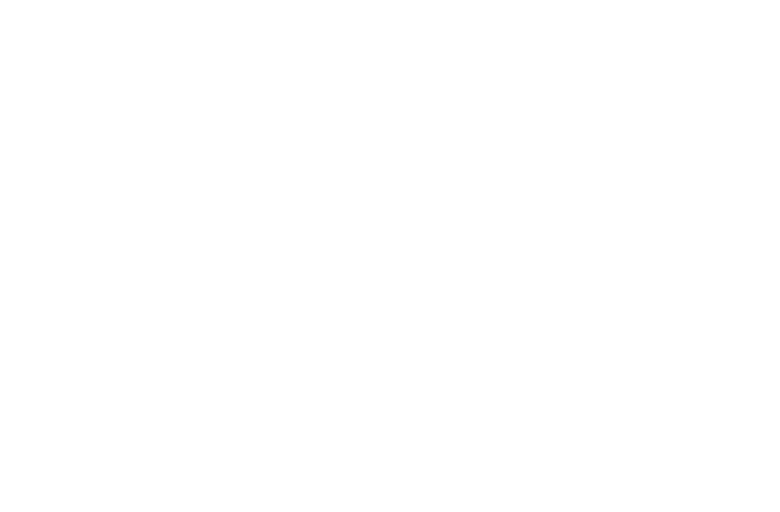
Андрей Егунов (1927 г.)
РК: Что даёт рассмотрение фигуры Егунова в контексте Константина Вагинова?
ДБ: Мне кажется, их дружба была продуктивной для обоих. Разница между «Трудами и днями Свистонова» и «Бамбочадой» в этом смысле показательна, потому что «Труды и дни…» писались одновременно с «Тулой», но роман Вагинова про Свистонова вышел в 1929 году, «Бамбочада» в январе 31 года, а книга Егунова в 31-м году в апреле, В последних двух книгах суждения строятся вокруг вещи или слова-вещи, как чего-то, что не должно обладать драматической бытовой составляющей, но сохраняется, остаётся на правах традиционного артефакта. Например, на правах прогнившего дуршлага бабушки, в который мы почему-то до сих пор отбрасываем макароны. Он не сильно удобный, но почему-то хранится. Это не только память о бабушке (музей), а какое-то представление о том, что вещь собой не являет и почему она должна присутствовать в неявленном виде. Я думаю, и Скалдин может так читаться, и, Вагинов, и, конечно, Егунов.
Егуновский контекст распадается на тот, о котором сейчас говорим, и контекст сатирической прозы – сатиры на «бывших», такой бульварной, мелодраматической литературы. В то время Егунова так же, как и Вагинова, рассматривали как такого второстепенного Ильфа и Петрова.
Сейчас вполне понятно, кто такие «бывшие». Например, находясь в России, мы полагаем, что путинская власть долго не протянет. Надеемся на это. Если бы мы наперёд знали, что ещё 10-15 лет ничего лучше не будет, всё будет только закрываться, и пока ты не станешь буквой зет, ничего у тебя не получится, то, думаю, у нас были бы другие программы и поведение. Но пока мы сидим и ждем.
Понятно, что в начале 30-х годов таких было много домоседов. Об этом и шутки, и анекдоты, и тексты того времени – например, «Самоубийца», «Мандат» Эрдмана. Как в анекдоте тех лет про евреев: «Изя, посмотри в окно, не закончилась ли советская власть».
Мы частично эти источники перечисляем в книге, частично выносим за скобки. А в 20-30 было не очень понятно, как описывать этих бывших.
РК: Перед перечитыванием текста я думал, что в романе в равной степени соседствует античное и советское. Но оказалось, там больше всего: и предреволюционное, и 19-й век, и средневековье. Как будто время и пространство и разрывы в них сшиты неровно, неравномерно, но благодаря ткани письма выглядят одномерно.
ДБ: Я абсолютно согласен, что тут нет никаких уровней, слоёв, которые равномерно распределены. Как вообще определить, собрать способ цитирования у Егунова? Чаще всего это коллажный принцип, и Егунов пишет свою «Тулу» сходным образом, как Свистонов у Вагинова.
РК: А мне показалось, что, по сравнению с «Трудами и днями Свистонова», текст и растворение письма о письме у Егунова сделано гораздо гибче, как будто ты в какой-то момент очаровываешься переходом и не понимаешь, когда он произошёл.
ДБ: Свистонов – это пародия, оголяющая швы, чтобы было понятно, как он это делает. И если Свистонов берёт в библиотеке разные книжки и начинает склеивать, то у Егунова деятельность не связана с одной книжной полкой, а связана с фрагментацией, с последованием.
РК: Насколько, по-твоему, «По ту сторону Тулы» отличается от современных ему текстов?
ДБ: Важно отделить практику Егунова от модернистских практик. Егунов – это не Джойс и не Пруст русский, не Вальзер русский. Мне кажутся эти сравнения совершенно непродуктивными, хотя для кого-то, наверное, это может быть рекомендацией к чтению. На самом деле понятие «советский модернизм», которым мы сейчас пользуемся, это оксюморонная формула. Ведь в любых советских книжках, которые выходили с конца 50-х – про Пикассо, про кого-то ещё, можно прочитать, что модернизм – это то, что начиналось с 20-х годов и то, чего счастливо мы избежали. Был социализм, и худо-бедно, пусть даже не с очень хорошими текстами, но мы пережили это ужасное время и не скурвились буржуазным образом. Но тем не менее, там много интересных вещей, про которые мы говорим: и вопрос медиа, и вопрос антикварной истории революции и антикварного энтузиазма.
Но то, что меня интересует, зачем Егунов нужен, какая-то другая линия, которая пересекается очень условно с тем же Кафкой, Джойсом, с Вульф или Вальзером. Может быть, стоит сперва прояснить, зачем эти тексты были нужны, зачем существуют в рамках прагматики художественного дискурса и как это дискурс социализировал поэтическое и художественное сообщество? Эти механизмы во много определяли и определяют до сих пор поэтические формы. Сама эта установка «писать вослед» не связана с революцией в литературе и преемственностью, но связана с прагматикой советского модернизма 20-х и начала 30-х годов. Она раскрылась в позднесоветское время и раскрывается до сих пор. Это именно то, что мы приобрели благодаря этим самым егуновым.
РК: Какой бэкграунд может пригодиться при чтении книги, например, какая философская литература может быть полезна? Учитывая, что Егунов много переводил Платона.
ДБ: Мне кажется, что Егунов вообще-то был далёк от философии, в целом, хотя какие-то маркеры, которые можно было бы отметить, они такого университетско-гимназического уровня. Он их использует, чтобы определить возможности литературы через моделирование. Но это моделирование не связано с Платоном.
Его философские воззрения и круг чтения сложно установимы, потому что перевести «Законы» Платона, это задача, с одной стороны, практическая, раз готовилось собрание сочинений в «Академии», с другой стороны, важная для портфолио молодого человека, филолога-классика. Перевести что-то из Платона – это было круто.
Но важнее сегодня осмыслять его воззрения как распаковку, через поэтическую практику, поскольку напрямую его повестку не перенять. Но это и не нужно – мы в иное время живём.
В его круге чтения много тёмных мест, которые не разобрать. Ну кроме какого-то неокантианства. Какую феноменологию они читали тогда, не знаю. Но тогда было много кружков, семинаров и всего такого. Егунова же как раз отправили на поселение в первый раз за подобный кружок «Осьминог» (дело Иванова-Разумника). Тогда все эти кружки и братства были ну как сейчас иноагенты. Что они читают? – неизвестно. Откуда берут деньги? – отовсюду, почему они иноагенты – ну потому что.
РК: Если мы обращаемся к концу 20-х – началу 30-х, то, по-моему, Егунов пытался проскочить между разными, друг с другом не сообщающимися традициями. И написать производственный роман, который бы приняли, и при этом сохранить модернистское обаяние в полной мере. Как он видел свою задачу именно при публикации, как текст, по его мнению, мог функционировать в текущей ситуации?
ДБ: Мне кажется при такой постановке, когда мы должны как бы думать за двоих, это инерция уже позднесоветского опыта. Даже экономически Егунов вообще никак не был связан с распространением книги. Представление о том, что текст должен соответствовать каким-то требованиям издательства – это тоже из более позднего времени. Сейчас-то понятно, что мы должны сначала выбирать, чтобы не оказаться в местах не столь отдалённых: храм, где танцевать или где устраивать молебен. Но тогда формовка советского писателя происходила, в основном, на стадии разбора полетов, после танцев, когда романы уже напечатаны.
Но если просто отвечать на вопрос, почему Егунов написал производственный роман… Ведь до «Тулы» у Егунова были тексты, написанные больше для своего круга, и их не печатали. А Федин поставил ему задачу, что надо писать на актуальную тему – и в каталоге советских книг, выпущенных с 30 по 32 год, «По ту сторону Тулы» значится, как роман о рудниках. Но как писать, что писать – ему никто не говорил.
РК: Надо очень пристально читать текст, чтобы держать в уме, что запрос у Сергея, главного персонажа романа, – это именно рудники.
ДБ: Да, Сергей – рабкор, и таких книг рабкоровского типа, где чувак приезжает писать, довольно много было в советское время. Это такая традиция путевой прозы, и достаточно интересная.
РК: Часто движение в тексте у Егунова производится от ослышек, на неточном смысловом и звуковом совпадении. Это совпадение как будто всегда уводит в сторону. Как ты думаешь, это тотальная стратегия письма?
ДБ: Это любопытно разобрать, если применять структуралистские подходы к тексту. Когда в 10-м году я прочёл «Тулу», я учился тогда в университете на кафедре Марковича, естественно, мне было любопытно, как это всё устроено. Кто говорит, кому говорит. Сейчас мне кажется, что применять прокрустово ложе каких-то типов повествовательных девятнадцативечных в модернистских текстах – это каждый раз изобретать велосипед заново.
РК: Получается, таким образом текст не собрать, наоборот, ты от него только отдалишься?
ДБ: Мне кажется, нет, не собрать. Так могут проявиться издержки метода: если ты хочешь изучать нарратив, ты его изучишь в итоге, чего бы тебе это ни стоило. Просто всё это в конце концов упирается в подсчёт грамматических формул глагола или типов точек зрения на происходящее. Но для того, чтобы изучать нарратив, Егунов точно не нужен, в этом смысле мы ничего нового не открываем.
РК: В романе довольно специфически описано тело, его метаморфозы и распад. В этом как будто есть не только обаяние, но и нежность, которая также распространяется на насилие, на сексуальные акты. Что-то приятно извращённое. Может быть, в этом Егунов близок к Платонову?
ДБ: У Егунова происходит объективация – это не собственное тело, а для Платонова это коллективное тело.
РК: Кроме того, в тексте крайне много насилия и оскорблений, откуда они и куда уводят? Герои как будто с помощью этих оскорблений призывают тех, с кем они разговаривают в каком-то ином качестве. А в каком, понять не могу.
ДБ: Мне кажется, их дружба была продуктивной для обоих. Разница между «Трудами и днями Свистонова» и «Бамбочадой» в этом смысле показательна, потому что «Труды и дни…» писались одновременно с «Тулой», но роман Вагинова про Свистонова вышел в 1929 году, «Бамбочада» в январе 31 года, а книга Егунова в 31-м году в апреле, В последних двух книгах суждения строятся вокруг вещи или слова-вещи, как чего-то, что не должно обладать драматической бытовой составляющей, но сохраняется, остаётся на правах традиционного артефакта. Например, на правах прогнившего дуршлага бабушки, в который мы почему-то до сих пор отбрасываем макароны. Он не сильно удобный, но почему-то хранится. Это не только память о бабушке (музей), а какое-то представление о том, что вещь собой не являет и почему она должна присутствовать в неявленном виде. Я думаю, и Скалдин может так читаться, и, Вагинов, и, конечно, Егунов.
Егуновский контекст распадается на тот, о котором сейчас говорим, и контекст сатирической прозы – сатиры на «бывших», такой бульварной, мелодраматической литературы. В то время Егунова так же, как и Вагинова, рассматривали как такого второстепенного Ильфа и Петрова.
Сейчас вполне понятно, кто такие «бывшие». Например, находясь в России, мы полагаем, что путинская власть долго не протянет. Надеемся на это. Если бы мы наперёд знали, что ещё 10-15 лет ничего лучше не будет, всё будет только закрываться, и пока ты не станешь буквой зет, ничего у тебя не получится, то, думаю, у нас были бы другие программы и поведение. Но пока мы сидим и ждем.
Понятно, что в начале 30-х годов таких было много домоседов. Об этом и шутки, и анекдоты, и тексты того времени – например, «Самоубийца», «Мандат» Эрдмана. Как в анекдоте тех лет про евреев: «Изя, посмотри в окно, не закончилась ли советская власть».
Мы частично эти источники перечисляем в книге, частично выносим за скобки. А в 20-30 было не очень понятно, как описывать этих бывших.
РК: Перед перечитыванием текста я думал, что в романе в равной степени соседствует античное и советское. Но оказалось, там больше всего: и предреволюционное, и 19-й век, и средневековье. Как будто время и пространство и разрывы в них сшиты неровно, неравномерно, но благодаря ткани письма выглядят одномерно.
ДБ: Я абсолютно согласен, что тут нет никаких уровней, слоёв, которые равномерно распределены. Как вообще определить, собрать способ цитирования у Егунова? Чаще всего это коллажный принцип, и Егунов пишет свою «Тулу» сходным образом, как Свистонов у Вагинова.
РК: А мне показалось, что, по сравнению с «Трудами и днями Свистонова», текст и растворение письма о письме у Егунова сделано гораздо гибче, как будто ты в какой-то момент очаровываешься переходом и не понимаешь, когда он произошёл.
ДБ: Свистонов – это пародия, оголяющая швы, чтобы было понятно, как он это делает. И если Свистонов берёт в библиотеке разные книжки и начинает склеивать, то у Егунова деятельность не связана с одной книжной полкой, а связана с фрагментацией, с последованием.
РК: Насколько, по-твоему, «По ту сторону Тулы» отличается от современных ему текстов?
ДБ: Важно отделить практику Егунова от модернистских практик. Егунов – это не Джойс и не Пруст русский, не Вальзер русский. Мне кажутся эти сравнения совершенно непродуктивными, хотя для кого-то, наверное, это может быть рекомендацией к чтению. На самом деле понятие «советский модернизм», которым мы сейчас пользуемся, это оксюморонная формула. Ведь в любых советских книжках, которые выходили с конца 50-х – про Пикассо, про кого-то ещё, можно прочитать, что модернизм – это то, что начиналось с 20-х годов и то, чего счастливо мы избежали. Был социализм, и худо-бедно, пусть даже не с очень хорошими текстами, но мы пережили это ужасное время и не скурвились буржуазным образом. Но тем не менее, там много интересных вещей, про которые мы говорим: и вопрос медиа, и вопрос антикварной истории революции и антикварного энтузиазма.
Но то, что меня интересует, зачем Егунов нужен, какая-то другая линия, которая пересекается очень условно с тем же Кафкой, Джойсом, с Вульф или Вальзером. Может быть, стоит сперва прояснить, зачем эти тексты были нужны, зачем существуют в рамках прагматики художественного дискурса и как это дискурс социализировал поэтическое и художественное сообщество? Эти механизмы во много определяли и определяют до сих пор поэтические формы. Сама эта установка «писать вослед» не связана с революцией в литературе и преемственностью, но связана с прагматикой советского модернизма 20-х и начала 30-х годов. Она раскрылась в позднесоветское время и раскрывается до сих пор. Это именно то, что мы приобрели благодаря этим самым егуновым.
РК: Какой бэкграунд может пригодиться при чтении книги, например, какая философская литература может быть полезна? Учитывая, что Егунов много переводил Платона.
ДБ: Мне кажется, что Егунов вообще-то был далёк от философии, в целом, хотя какие-то маркеры, которые можно было бы отметить, они такого университетско-гимназического уровня. Он их использует, чтобы определить возможности литературы через моделирование. Но это моделирование не связано с Платоном.
Его философские воззрения и круг чтения сложно установимы, потому что перевести «Законы» Платона, это задача, с одной стороны, практическая, раз готовилось собрание сочинений в «Академии», с другой стороны, важная для портфолио молодого человека, филолога-классика. Перевести что-то из Платона – это было круто.
Но важнее сегодня осмыслять его воззрения как распаковку, через поэтическую практику, поскольку напрямую его повестку не перенять. Но это и не нужно – мы в иное время живём.
В его круге чтения много тёмных мест, которые не разобрать. Ну кроме какого-то неокантианства. Какую феноменологию они читали тогда, не знаю. Но тогда было много кружков, семинаров и всего такого. Егунова же как раз отправили на поселение в первый раз за подобный кружок «Осьминог» (дело Иванова-Разумника). Тогда все эти кружки и братства были ну как сейчас иноагенты. Что они читают? – неизвестно. Откуда берут деньги? – отовсюду, почему они иноагенты – ну потому что.
РК: Если мы обращаемся к концу 20-х – началу 30-х, то, по-моему, Егунов пытался проскочить между разными, друг с другом не сообщающимися традициями. И написать производственный роман, который бы приняли, и при этом сохранить модернистское обаяние в полной мере. Как он видел свою задачу именно при публикации, как текст, по его мнению, мог функционировать в текущей ситуации?
ДБ: Мне кажется при такой постановке, когда мы должны как бы думать за двоих, это инерция уже позднесоветского опыта. Даже экономически Егунов вообще никак не был связан с распространением книги. Представление о том, что текст должен соответствовать каким-то требованиям издательства – это тоже из более позднего времени. Сейчас-то понятно, что мы должны сначала выбирать, чтобы не оказаться в местах не столь отдалённых: храм, где танцевать или где устраивать молебен. Но тогда формовка советского писателя происходила, в основном, на стадии разбора полетов, после танцев, когда романы уже напечатаны.
Но если просто отвечать на вопрос, почему Егунов написал производственный роман… Ведь до «Тулы» у Егунова были тексты, написанные больше для своего круга, и их не печатали. А Федин поставил ему задачу, что надо писать на актуальную тему – и в каталоге советских книг, выпущенных с 30 по 32 год, «По ту сторону Тулы» значится, как роман о рудниках. Но как писать, что писать – ему никто не говорил.
РК: Надо очень пристально читать текст, чтобы держать в уме, что запрос у Сергея, главного персонажа романа, – это именно рудники.
ДБ: Да, Сергей – рабкор, и таких книг рабкоровского типа, где чувак приезжает писать, довольно много было в советское время. Это такая традиция путевой прозы, и достаточно интересная.
РК: Часто движение в тексте у Егунова производится от ослышек, на неточном смысловом и звуковом совпадении. Это совпадение как будто всегда уводит в сторону. Как ты думаешь, это тотальная стратегия письма?
ДБ: Это любопытно разобрать, если применять структуралистские подходы к тексту. Когда в 10-м году я прочёл «Тулу», я учился тогда в университете на кафедре Марковича, естественно, мне было любопытно, как это всё устроено. Кто говорит, кому говорит. Сейчас мне кажется, что применять прокрустово ложе каких-то типов повествовательных девятнадцативечных в модернистских текстах – это каждый раз изобретать велосипед заново.
РК: Получается, таким образом текст не собрать, наоборот, ты от него только отдалишься?
ДБ: Мне кажется, нет, не собрать. Так могут проявиться издержки метода: если ты хочешь изучать нарратив, ты его изучишь в итоге, чего бы тебе это ни стоило. Просто всё это в конце концов упирается в подсчёт грамматических формул глагола или типов точек зрения на происходящее. Но для того, чтобы изучать нарратив, Егунов точно не нужен, в этом смысле мы ничего нового не открываем.
РК: В романе довольно специфически описано тело, его метаморфозы и распад. В этом как будто есть не только обаяние, но и нежность, которая также распространяется на насилие, на сексуальные акты. Что-то приятно извращённое. Может быть, в этом Егунов близок к Платонову?
ДБ: У Егунова происходит объективация – это не собственное тело, а для Платонова это коллективное тело.
РК: Кроме того, в тексте крайне много насилия и оскорблений, откуда они и куда уводят? Герои как будто с помощью этих оскорблений призывают тех, с кем они разговаривают в каком-то ином качестве. А в каком, понять не могу.
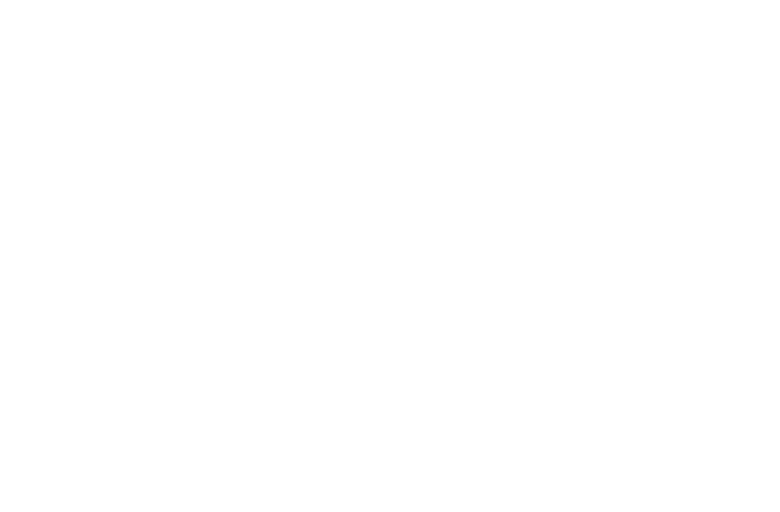
Американское издание «По ту сторону Тулы». Пер. Эйнсли Морс. Academic Studies Press, 2019.
ДБ: Я, например, долго думал, откуда вся эта расчленёнка – там её действительно очень много. То эти карты, порезанные наполовину, то ноги отдавили котёнку. Тут приведу следующую деталь. Был такой Иван Алексеевич Лихачёв из круга Кузмина, переводчик блестящий, и, очевидно, близкий ему в силу сексуальных предпочтений. В 60-е годы он тоже, как и Егунов, держал салон. Они пересекались, но дружбы не было, потому, вероятно, что слушок о Лихачёве был, что тот стучал – доносил. Лихачёв собирал у себя компании художников и… инвалидов. Ему очень нравились инвалиды. На кухне все эти люди пили водку. Что это такое, как связано, нужно ли это соотносить с Егуновым? Думаю, можно попробовать это свести к тому, о чём мы говорили: к антикварному типу представлений – к руинированию. Здесь разворот, заземление на одну ногу было бы хорошо совершить. А если вернуться к роману, то ругательства, обвинения, оскорбления в контексте романа обусловлены тем, что деклассированные элементы общаются. Посмотрите, как это плохо.
РК: У Егунова в романе часто действие персонажей переходит к письму и дальше растворяется в письме. Там есть то, что, по-моему, актуально и для сегодняшней прозы: персонажи аффектированы письмом, незаметным переходом языковых материй из одной в другую.
ДБ: Для Егунова материализация, представление слова как того, что сохраняет, опосредует, это и есть работа с письмом.
РК: Можно ли сказать, что Егунов сам аффектирован своим письмом, тем, как оно движется и что в его русле возникает, или для него это отчуждённая стратегия, в которой он не растворён, как пишущий?
ДБ: Тут есть 2 ответа. Первый ответ историка: нет, потому что есть контекст. И второй: зачем книжку публикуем и зачем читать Егунова сейчас, и тогда это будет рассматриваться в рамках современной повестки. Я убеждён, то, о чём мы с тобой говорим, Егунов для себя не проговаривал. Он жил в этой ситуации того, когда вещи, слова оказывались в аффекте. Насколько он был аффектирован? Видимо, не был. Потому что когда наука для него закрылась, он стал литератором, стал посещать салоны, стал дружить, затем в 60-е годы не стал продуцировать что-то новое, оставаясь посредником, тем самым медиа, которое давало возможность прочитать не столько своё, сколько других. Это тоже показательно, что он всегда поддерживал разговор о Кузмине, Юркуне, Вагинове, но никогда о себе.
Я общался с двумя людьми, которые были лично с ним знакомы, с Татьяной Никольской и Александром Гавриловым. Гаврилов – филолог-классик, был близко знаком с Егуновым в 60-е годы и когда прочитал роман, начал задавать прямые вопросы. Хотя это, конечно, не приветствовалось. Один раз спросил, что такое романтическая ирония. Егунов ему показал свою маленькую библиотеку, сказал, посмотрите, может быть здесь что-то сказано. Сам он не может давать определения, он же не словарь.
Потом Гаврилов нашёл в себе силы, собрался и спросил, а что такое Файгиню? Егунов сделал жест из еврейского танца. Что это значит? Фэйген — имя нарицательное из 19-го века, из диккенсовского романа, такой жадный еврей, типа, барыга. Но что это значит в контексте романа…
РК: Как, по-твоему, Егунов в тексте высказывается о советской власти и вообще об идеологии?
ДБ: В тексте все фразы о власти в основном от так называемых «бывших», и фразы эти якобы сатирические. Но насколько они выражают мнение самого Егунова? Безусловно, он был имперских взглядов, и его политическая позиция мне очевидна. Насколько она сейчас интересна – думаю, не очень, он в этом смысле не уникален. И у меня не ответа, насколько Егунов актуален сегодня в силу контекста военных действий в Украине. Роман и его герои связаны с новороссийской почвой, и в этом, несомненно, ощущается империализм (сам Егунов, кстати, сын военного). Хотя персонажи и их речь – всё это работает как ёрничество, сатира на бывших дворянок из-под Минска, которые зашкерились и хотят пережить советскую власть. Для него это важный ресурс литературного языка, который он так использует исподтишка.
РК: Как ты сам для себя отвечаешь, почему важно вот сейчас в начале 20-х годов издать Егунова отдельно, хотя текст уже давно доступен в сети?
ДБ: Я считаю, что работа историка литературы такова, что каждый раз приходится отвечать себе, зачем это тебе нужно прямо сейчас. Почему стоит написать об этом, а не о другом? Я уверен, что это издание «По ту сторону Тулы» необходимо, и для разных аудиторий актуальность разная. Первое, самое простое, роман, хоть и был опубликован, но не был прочитан во многом по причине таинственных обстоятельств публикации. И это, несмотря на то, что Егунов был одним из центров неофициальной культуры первой половины 60-х годов. У него же бывали все, кого мы знаем из тех лет: и исследователи, и переводчики, и художники, вроде Хвостенко, и художнички, учёные, но о романе Егунов никогда не говорил.
Поэтому нужна работа, которая связана с комментированием, медленным прочтением, жанром пошагового ответа на вопросы. Ты пишешь обобщающий текст, и на каждой странице спрашиваешь: а это что теперь? Такого рода работа позволяет немножко по-другому взглянуть на текст. Я думаю, что наше издание даёт возможность каким-то образом представить этот роман в контексте 31 года, объяснить, зачем он там вышел, как писался, почему нужен тогда и почему нужен сейчас.
С другой стороны, кажется важным, что Егунов был не просто малоизвестен, непопулярен, он не был прочитан, как материал для современного – актуального – творчества. Несмотря на то, что, например, Вагиновым интересуются, начиная с Драгомощенко и Эрля, Скидана, Дины Гатиной и далее. Хотя вот Стас Снытко в разговоре как-то сказал, что Николай Кононов – является писателем, который как-то использует егуновскую работу. В его романе «Фланер» у одного из героев есть черты Егунова.
Кузмин Михаил Алексеевич примерно таким же образом, как Николев, открывался, не был известен вплоть до начала 80-х годов, информация тоже по крупицам собиралась, так же рукописи в архивах находились. Но Егунов почему-то в силу своей герметичности, побочности для кузминской линии, даже для вагиновской, не был продуктивен. Был любопытен, интересен, но не был применим, не был задействован. Хотя то, каким образом он пишет и мыслит – это кажется вполне актуальным.
В своём эссе к роману я пишу о необходимости читать Егунова, как автора, практикующего, тренирующего медиальные характеристики литературы. Ему интересно представить литературу в контексте новых медиа и выяснить актуальность её. Этот вопрос, так или иначе, стоит с 20-х годов перед любым автором. Почему я не пою песенки? Почему не снимаю кино? Почему пишу стихи? Почему я пишу романы? Что я хочу этим сказать так? У Егунова об этом в тексте много и это много решено не совсем так, как авангард решал. У него другая позиция: мы не станем литературу превращать в новое медиа, а останемся консерваторами, будем писать буковки, но делать это как-то так, чтобы актуализировать возможности слова как медиального средства.
Речь о способе взаимодействия со словом, как чем-то заземляющим. Тем, что должно эти новые медиальные практики противопоставлять абстрактному дискурсу, как-то вычленяться из него. Не формировать для того, чтобы потом быть разбитым в пух и прах, а являться тем, что может выделяться и оставить след.
Это интересный заход, он, безусловно, архивный сегодня, но это не проблема, а скорее наоборот. У Егунова интерес к архиву работает в рамках прагматики художественного текста. Быть поэтом, который открывает архив своим текстом. Не быть исследователем, не быть публикатором, быть не первооткрывателем, но открывателем.
Вообще для Егунова слово – это звучащее слово. Тут приведу, как мне кажется, хорошую параллель. Моя подруга Саша Мороз однажды рассказывала мне, как была на лекции по композиции в Московской консерватории. Она вела конспект, а сидевшая рядом с ней флейтистка Саша Елина записывала паузы, выстраивая ритмический рисунок речи лектора. Ей было интересно, какие длинноты, какие периоды речи захватываются. Егунов мог таким же образом слушать научные доклады. Как звучит голос того, кто сейчас говорит, какая у него спина, как он выглядит. Это речь, которая выглядит изогнутой спиной. Важна произносимая природа этой спины, этих пауз. Но это ни в коем случае не глоссолалия, не визуализация – это такой тип вербального взаимодействия со слушателем.
В этом смысле Егунов совсем не прочитан как автор-минималист, в том числе и в поэзии. Как автор, который пытается вскрыть фактуру письма. Я в эссе коротко пытался намекнуть на эту тему. И, в целом, в книжке, мы только намечаем пути, которые могут продуктивными быть.
Но я не могу сказать, что те, кто сейчас занимается трансмедиальной составляющей литературы, используют приёмы Егунова. А мне кажется, это и сработало бы вполне.
Ну и естественно, если бы книжка выходила в каких-нибудь «Литературных памятниках», она была бы другой. Но так как она выходит в «Носороге», то должна прочитываться сквозь призму сегодня.
РК: У Егунова в романе часто действие персонажей переходит к письму и дальше растворяется в письме. Там есть то, что, по-моему, актуально и для сегодняшней прозы: персонажи аффектированы письмом, незаметным переходом языковых материй из одной в другую.
ДБ: Для Егунова материализация, представление слова как того, что сохраняет, опосредует, это и есть работа с письмом.
РК: Можно ли сказать, что Егунов сам аффектирован своим письмом, тем, как оно движется и что в его русле возникает, или для него это отчуждённая стратегия, в которой он не растворён, как пишущий?
ДБ: Тут есть 2 ответа. Первый ответ историка: нет, потому что есть контекст. И второй: зачем книжку публикуем и зачем читать Егунова сейчас, и тогда это будет рассматриваться в рамках современной повестки. Я убеждён, то, о чём мы с тобой говорим, Егунов для себя не проговаривал. Он жил в этой ситуации того, когда вещи, слова оказывались в аффекте. Насколько он был аффектирован? Видимо, не был. Потому что когда наука для него закрылась, он стал литератором, стал посещать салоны, стал дружить, затем в 60-е годы не стал продуцировать что-то новое, оставаясь посредником, тем самым медиа, которое давало возможность прочитать не столько своё, сколько других. Это тоже показательно, что он всегда поддерживал разговор о Кузмине, Юркуне, Вагинове, но никогда о себе.
Я общался с двумя людьми, которые были лично с ним знакомы, с Татьяной Никольской и Александром Гавриловым. Гаврилов – филолог-классик, был близко знаком с Егуновым в 60-е годы и когда прочитал роман, начал задавать прямые вопросы. Хотя это, конечно, не приветствовалось. Один раз спросил, что такое романтическая ирония. Егунов ему показал свою маленькую библиотеку, сказал, посмотрите, может быть здесь что-то сказано. Сам он не может давать определения, он же не словарь.
Потом Гаврилов нашёл в себе силы, собрался и спросил, а что такое Файгиню? Егунов сделал жест из еврейского танца. Что это значит? Фэйген — имя нарицательное из 19-го века, из диккенсовского романа, такой жадный еврей, типа, барыга. Но что это значит в контексте романа…
РК: Как, по-твоему, Егунов в тексте высказывается о советской власти и вообще об идеологии?
ДБ: В тексте все фразы о власти в основном от так называемых «бывших», и фразы эти якобы сатирические. Но насколько они выражают мнение самого Егунова? Безусловно, он был имперских взглядов, и его политическая позиция мне очевидна. Насколько она сейчас интересна – думаю, не очень, он в этом смысле не уникален. И у меня не ответа, насколько Егунов актуален сегодня в силу контекста военных действий в Украине. Роман и его герои связаны с новороссийской почвой, и в этом, несомненно, ощущается империализм (сам Егунов, кстати, сын военного). Хотя персонажи и их речь – всё это работает как ёрничество, сатира на бывших дворянок из-под Минска, которые зашкерились и хотят пережить советскую власть. Для него это важный ресурс литературного языка, который он так использует исподтишка.
РК: Как ты сам для себя отвечаешь, почему важно вот сейчас в начале 20-х годов издать Егунова отдельно, хотя текст уже давно доступен в сети?
ДБ: Я считаю, что работа историка литературы такова, что каждый раз приходится отвечать себе, зачем это тебе нужно прямо сейчас. Почему стоит написать об этом, а не о другом? Я уверен, что это издание «По ту сторону Тулы» необходимо, и для разных аудиторий актуальность разная. Первое, самое простое, роман, хоть и был опубликован, но не был прочитан во многом по причине таинственных обстоятельств публикации. И это, несмотря на то, что Егунов был одним из центров неофициальной культуры первой половины 60-х годов. У него же бывали все, кого мы знаем из тех лет: и исследователи, и переводчики, и художники, вроде Хвостенко, и художнички, учёные, но о романе Егунов никогда не говорил.
Поэтому нужна работа, которая связана с комментированием, медленным прочтением, жанром пошагового ответа на вопросы. Ты пишешь обобщающий текст, и на каждой странице спрашиваешь: а это что теперь? Такого рода работа позволяет немножко по-другому взглянуть на текст. Я думаю, что наше издание даёт возможность каким-то образом представить этот роман в контексте 31 года, объяснить, зачем он там вышел, как писался, почему нужен тогда и почему нужен сейчас.
С другой стороны, кажется важным, что Егунов был не просто малоизвестен, непопулярен, он не был прочитан, как материал для современного – актуального – творчества. Несмотря на то, что, например, Вагиновым интересуются, начиная с Драгомощенко и Эрля, Скидана, Дины Гатиной и далее. Хотя вот Стас Снытко в разговоре как-то сказал, что Николай Кононов – является писателем, который как-то использует егуновскую работу. В его романе «Фланер» у одного из героев есть черты Егунова.
Кузмин Михаил Алексеевич примерно таким же образом, как Николев, открывался, не был известен вплоть до начала 80-х годов, информация тоже по крупицам собиралась, так же рукописи в архивах находились. Но Егунов почему-то в силу своей герметичности, побочности для кузминской линии, даже для вагиновской, не был продуктивен. Был любопытен, интересен, но не был применим, не был задействован. Хотя то, каким образом он пишет и мыслит – это кажется вполне актуальным.
В своём эссе к роману я пишу о необходимости читать Егунова, как автора, практикующего, тренирующего медиальные характеристики литературы. Ему интересно представить литературу в контексте новых медиа и выяснить актуальность её. Этот вопрос, так или иначе, стоит с 20-х годов перед любым автором. Почему я не пою песенки? Почему не снимаю кино? Почему пишу стихи? Почему я пишу романы? Что я хочу этим сказать так? У Егунова об этом в тексте много и это много решено не совсем так, как авангард решал. У него другая позиция: мы не станем литературу превращать в новое медиа, а останемся консерваторами, будем писать буковки, но делать это как-то так, чтобы актуализировать возможности слова как медиального средства.
Речь о способе взаимодействия со словом, как чем-то заземляющим. Тем, что должно эти новые медиальные практики противопоставлять абстрактному дискурсу, как-то вычленяться из него. Не формировать для того, чтобы потом быть разбитым в пух и прах, а являться тем, что может выделяться и оставить след.
Это интересный заход, он, безусловно, архивный сегодня, но это не проблема, а скорее наоборот. У Егунова интерес к архиву работает в рамках прагматики художественного текста. Быть поэтом, который открывает архив своим текстом. Не быть исследователем, не быть публикатором, быть не первооткрывателем, но открывателем.
Вообще для Егунова слово – это звучащее слово. Тут приведу, как мне кажется, хорошую параллель. Моя подруга Саша Мороз однажды рассказывала мне, как была на лекции по композиции в Московской консерватории. Она вела конспект, а сидевшая рядом с ней флейтистка Саша Елина записывала паузы, выстраивая ритмический рисунок речи лектора. Ей было интересно, какие длинноты, какие периоды речи захватываются. Егунов мог таким же образом слушать научные доклады. Как звучит голос того, кто сейчас говорит, какая у него спина, как он выглядит. Это речь, которая выглядит изогнутой спиной. Важна произносимая природа этой спины, этих пауз. Но это ни в коем случае не глоссолалия, не визуализация – это такой тип вербального взаимодействия со слушателем.
В этом смысле Егунов совсем не прочитан как автор-минималист, в том числе и в поэзии. Как автор, который пытается вскрыть фактуру письма. Я в эссе коротко пытался намекнуть на эту тему. И, в целом, в книжке, мы только намечаем пути, которые могут продуктивными быть.
Но я не могу сказать, что те, кто сейчас занимается трансмедиальной составляющей литературы, используют приёмы Егунова. А мне кажется, это и сработало бы вполне.
Ну и естественно, если бы книжка выходила в каких-нибудь «Литературных памятниках», она была бы другой. Но так как она выходит в «Носороге», то должна прочитываться сквозь призму сегодня.
вас может заинтересовать
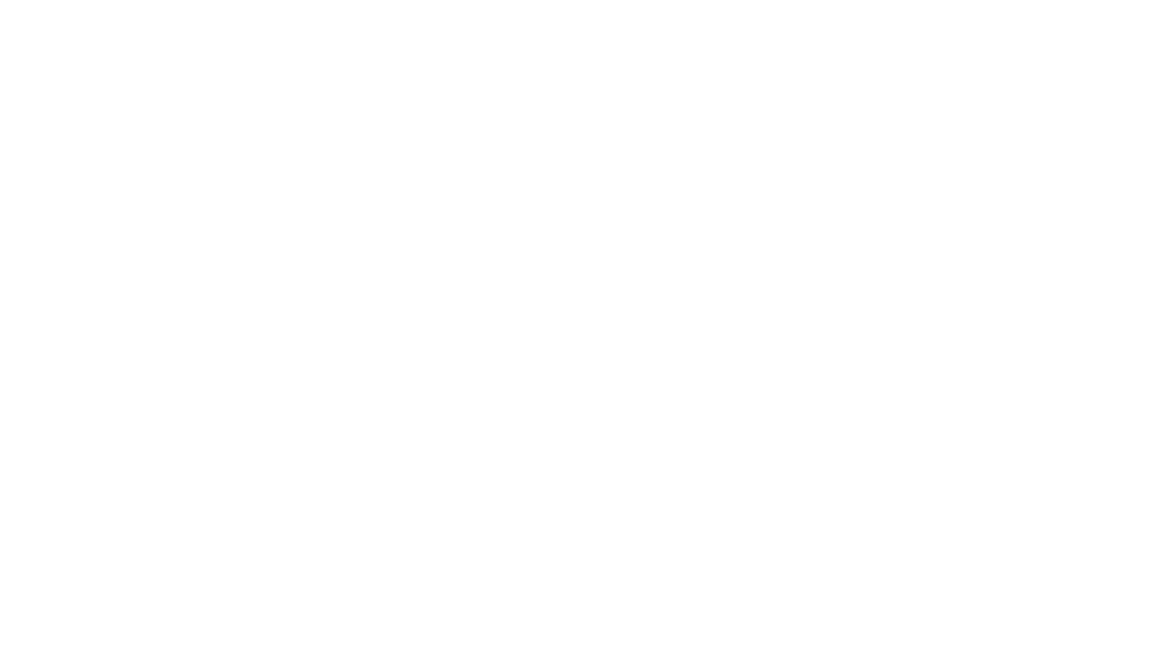
Тула с ключом
Публикуем интервью Дмитрия Бреслера о публикаторской судьбе «По ту сторону Тулы» Андрея Николева, особенностях его появления, о том, как для понимания текста важны советский архив и трансмедиальность, и о том, что может дать николевский роман сегодняшнему читателю.
Руслан Комадей: Каким был путь к этой книге Николева для тебя?
Дмитрий Бреслер: Моё знакомство не случайное, а связанное с интересом к Вагинову и вокруг него. И Егунов поначалу мне был интересен как друг и один из героев Вагинова. Егуновская «По ту сторону Тулы» сразу заинтересовала и сразу показалась непонятной. Я с разных сторон подступался к этому тексту, по разным поводам думал о нём написать.
Первый раз я прочитал роман, когда учился в магистратуре на филфаке. Читал публикацию из альманаха Wiener Slawistischer Almanach 1993 года в Горьковке. Та публикация была выполнена силами последнего поколения интеллигенции, которая относится к ленинградской неподцензурной литературе.
В конце 80-х – начале 90-х Егуновым заинтересовались молодые авторы, критики, филологи. Это компания в первую очередь Василия Кондратьева, Игоря Вишневецкого, Глеба Морева. Они не знали Егунова лично, но были связаны с академической средой, как например Кондратьев, у которого родители были из университетской среды, или Морев, учившийся в Тарту. Все они пришли к Егунову сами, в том числе благодаря публикациям его поэзии в тамиздате, например, в мюнхенском сборнике «Потайная муза», который Борис Филиппов сделал в самом начале 60-х годов. До этого долгое время интерес к Егунову поддерживался теми, кто знал его лично. Но вышеперечисленные авторы уже не могли быть с ними знакомы (Егунов умер в 1968 г. – прим. ред.). Интерес этот проявлялся и на практике, например, у Василия Кондратьева недавно вышел сборник прозы, где мы находим целых два текста о Егунове, один ранний, датируемый 1989 годом, который был опубликован в качестве вступительного эссе при публикации WSA, второй 1999 года, последних лет жизни, переосмысляющий Егунова, они любопытно рифмуются.
Глеб Морев выступил редактором собрания сочинений 1993 года. Там не только «Тула», но еще и несколько редакций поэмы «Беспредметная юность», отдельные стихи, все, что потом он же выпустил в ОГИ в начале нулевых.
То собрание во многом инициировал Валерий Сомсиков, душеприказчик и друг поздних лет Егунова. Моя соавторка по новому изданию Кристина Константинова работала с архивами Сомсикова, они хранятся в Купчино у родственников Валерия. Сомсиков был не только другом, но и доверенным человеком Егунова, действительно заинтересованным в публикации наследия своего учителя и наставника.
Биографическая работа, которую он произвел, очень важна и без нее была бы невозможна наша деятельность, и не только она – например, публикация «Беспредметной юности», которую Массио Маурицио выпустил в 2009 году, тоже была бы невозможна, хотя Сомсиков не был филологом.
Мы учли все вышеперечисленные и разрозненные материалы, и всё, что известно на сегодня о Егунове в период 20-х – 30-х гг., собрали в нашем томе.
РК: Расскажи про обстоятельства первого издания «По ту сторону Тулы» в 1931 году.
ДБ: «По ту сторону Тулы» – одна из тех книг, что выходили в конце 20-х – начале 30-х в издательстве писателей в Ленинграде, хотя не очень должны были бы выйти из-за своих политических характеристик, по тому, как они написаны и кем.
Об этом издательстве мы знаем очень мало, кроме того, что вопреки всему там печатали чудесные книги: Добычина, обэриутов, Вагинова, Егунова, Баршева, большие собрания сочинений Блока, Хлебникова…
Но когда я слышу, что эти книги напечатаны «вопреки всему», то хочется уточнить, «всему» – это чему? Всё-таки это кооперативное издательство, более того, это последнее кооперативное издательство, которому выдали разрешение на деятельность в 27-м году. Оно печатало книги, когда все другие уже закрывались, потому что, вероятно, было под патронажем. Им занимались Замятин и Федин. Константин Федин был большим функционером, таким литературным генералом.
Мы попробовали собрать все известные экземпляры 1931 года по библиотекам – нашлось совсем немного, в основном обязательные экземпляры, разосланные по библиотекам. При этом нам известно только несколько книг, сохранившихся в частных собраниях, которые читались с пометами. Нам было важно выяснить, насколько книжка сильно распространялась.
Например, мы узнали, что Егунов отправлял книгу Горькому на поклон, у Волошина была книжка. Правда стоит отметить, у них у обоих сохранились только титульные листы. Это нормальная практика для больших библиотек. Горькому присылали книги сотнями, каждая прочитывалась и выбрасывалась, а титульный лист оставлялся. Горькому, естественно, не понравилось, что написано в «По ту сторону Тулы».
РК: Расскажи про значение подзаголовка «Советская пастораль», который встречался в нескольких экземплярах 1931 года, а в новом издании воспроизведен только в выходных данных книги.
ДБ: Теоретически подзаголовок «Советская пастораль» можно отнести, наверное, к элементам цензуры или самоцензуры и адресации, об этом мы пишем в предисловии. Например, у Волошина книжка с этой подписью, а у Горького нет. Это важная проблематика, связанная с литературой как медиа. Массовость и возможность говорения посредством книги то ли с самим собой, то ли с другом, попытка сохранить личный контакт. Телефоны тогда были не так распространены, и книжка могла быть таким телефоном.
Но насколько это подзаголовок, который расширяет смысл текста, или подзаголовок – как последняя фига в кармане – я не знаю. Мне нравится первый вариант, для меня этот ответ интересней, а что на самом деле было – неизвестно.
Об этом можно рассуждать, только если мы получим больше количество книжек с подписью «Советская пастораль», а так мы их знаем три, и одна из них – егуновская копия, она пропала. Если мы найдём еще какие-то книжки, то сможем об этом продолжать разговор. В этом и особенность архива. По Фуко, это то, что используется властью. То, что мы никому не показываем до тех пор, пока не хотим показывать. Примерно так же и с Егуновым: мы сейчас хотим показать адресность, а раньше хотели показать диссидентство, эзопов язык. И это работало в силу архивного статуса.
Вообще особенность трансляции поэтики Егунова связана с проблемой архива. Что это за особенность советского архива, работает ли он по Фуко, Делезу или по Деррида – было бы любопытно установить. Это то, чем мы занимаемся в контексте подготовки публикации – овеществляем следы.
РК: Как ты сам считаешь, подзаголовок «Советская пастораль» – это продуктивный ключ чтения романа? Он позволяет какие-то разнонаправленные модусы примирить?
ДБ: Адресность – его главный модус. То, что вписано от руки, то, что предназначалось конкретному адресату – это можно использовать, как ключ к сообщению. Говорение посредством романа, продолжаем разговор. Абсолютно точно Егунов придумал заголовок, никто другой, в 30-м или 31-м году, может быть, сразу после выхода романа. При этом «Тула», конечно, никакая не пастораль. Она даже едва ли связана с романом эпохи второй софистики. Я имею в виду то, что проглядывает сквозь заглавие романа Антония Диогена или сквозь выражение Ultima Thule. Но у меня есть версия, что название просто красиво фонетически звучит: в ту сторону, по ту ту, ту-ту.
Заголовок «По ту сторону Тулы» был известен и до публикации романа как одна из формул перевода. Егунов мог её воспроизвести в предисловии к «Эфиопике» Гелиодора в 32 году – там можно было перевести как «По ту сторону Фулы», но он формулу не сохраняет. Судя по всему Егунов разводил античный источник и то, как эта формула звучит на русском. Чувствуется, что эта Тула с ключом, только ключей нет.
РК: Какое отношение название романа имеет к настоящей географической Туле (в Тульской области)?
ДБ: Была идея, что все ключи находятся в Крыму – Егунов совершал туда поездку в августе 1929 года, в Судаке тусил, в Коктебеле... И датировка начала романа совпадает с тем, когда он приезжает из Крыма и по приезду начинает писать роман.
Там есть тульские пейзажи забавные, с мулами, о которых думаешь, это что за Тула вообще? А это прямая цитата из текста про паломничество, который написан неким пастырем Анисимовым в конце 19-го века. И тут ты понимаешь, что мулы – это потому что Иерусалим, Акрейка – это на самом деле Акра. Николев просто заменяет какие-то вещи, и нерусские пейзажи в тексте – это крымские или средиземноморские. Так что Тульская область – это Крым.
Чтобы что-то найти конкретнее, надо ехать туда минимум на месяц, искать какую-нибудь бабушку, которая фотографии в альбоме сохранила. Там есть краеведческий музей, но с ним связи никакой. Мы даже выступали по zoom'у на конференции в Судаке, пытались найти кого-то, кто смог бы нам помочь, но не нашли.
РК: Многие, в том числе я и ты, впервые узнали о Егунове в контексте Вагинова и его прозы. Но этот путь кажется очевидным, но, может быть, стоит простроить какие-то другие цепочки, связи с другими текстами и традициями того времени и даже более ранними? Например, со «Странствиями Никодима Старшего» Алексея Скалдина.
ДБ: И у Егунова, и у Скалдина мне видится особенность переживания исторического момента антикварного типа. Так антикварно воспринималось не монументальное, как у Ницше в «Пользе и вреде истории для жизни», а вещи, которые должны пониматься как традиционные. Литературный дискурс тоже может быть антикварным, архивным, устаревшим, непонятным. Думаю, это близко и Скалдину, и Вагинову, второму во многом благодаря Егунову.
Дмитрий Бреслер: Моё знакомство не случайное, а связанное с интересом к Вагинову и вокруг него. И Егунов поначалу мне был интересен как друг и один из героев Вагинова. Егуновская «По ту сторону Тулы» сразу заинтересовала и сразу показалась непонятной. Я с разных сторон подступался к этому тексту, по разным поводам думал о нём написать.
Первый раз я прочитал роман, когда учился в магистратуре на филфаке. Читал публикацию из альманаха Wiener Slawistischer Almanach 1993 года в Горьковке. Та публикация была выполнена силами последнего поколения интеллигенции, которая относится к ленинградской неподцензурной литературе.
В конце 80-х – начале 90-х Егуновым заинтересовались молодые авторы, критики, филологи. Это компания в первую очередь Василия Кондратьева, Игоря Вишневецкого, Глеба Морева. Они не знали Егунова лично, но были связаны с академической средой, как например Кондратьев, у которого родители были из университетской среды, или Морев, учившийся в Тарту. Все они пришли к Егунову сами, в том числе благодаря публикациям его поэзии в тамиздате, например, в мюнхенском сборнике «Потайная муза», который Борис Филиппов сделал в самом начале 60-х годов. До этого долгое время интерес к Егунову поддерживался теми, кто знал его лично. Но вышеперечисленные авторы уже не могли быть с ними знакомы (Егунов умер в 1968 г. – прим. ред.). Интерес этот проявлялся и на практике, например, у Василия Кондратьева недавно вышел сборник прозы, где мы находим целых два текста о Егунове, один ранний, датируемый 1989 годом, который был опубликован в качестве вступительного эссе при публикации WSA, второй 1999 года, последних лет жизни, переосмысляющий Егунова, они любопытно рифмуются.
Глеб Морев выступил редактором собрания сочинений 1993 года. Там не только «Тула», но еще и несколько редакций поэмы «Беспредметная юность», отдельные стихи, все, что потом он же выпустил в ОГИ в начале нулевых.
То собрание во многом инициировал Валерий Сомсиков, душеприказчик и друг поздних лет Егунова. Моя соавторка по новому изданию Кристина Константинова работала с архивами Сомсикова, они хранятся в Купчино у родственников Валерия. Сомсиков был не только другом, но и доверенным человеком Егунова, действительно заинтересованным в публикации наследия своего учителя и наставника.
Биографическая работа, которую он произвел, очень важна и без нее была бы невозможна наша деятельность, и не только она – например, публикация «Беспредметной юности», которую Массио Маурицио выпустил в 2009 году, тоже была бы невозможна, хотя Сомсиков не был филологом.
Мы учли все вышеперечисленные и разрозненные материалы, и всё, что известно на сегодня о Егунове в период 20-х – 30-х гг., собрали в нашем томе.
РК: Расскажи про обстоятельства первого издания «По ту сторону Тулы» в 1931 году.
ДБ: «По ту сторону Тулы» – одна из тех книг, что выходили в конце 20-х – начале 30-х в издательстве писателей в Ленинграде, хотя не очень должны были бы выйти из-за своих политических характеристик, по тому, как они написаны и кем.
Об этом издательстве мы знаем очень мало, кроме того, что вопреки всему там печатали чудесные книги: Добычина, обэриутов, Вагинова, Егунова, Баршева, большие собрания сочинений Блока, Хлебникова…
Но когда я слышу, что эти книги напечатаны «вопреки всему», то хочется уточнить, «всему» – это чему? Всё-таки это кооперативное издательство, более того, это последнее кооперативное издательство, которому выдали разрешение на деятельность в 27-м году. Оно печатало книги, когда все другие уже закрывались, потому что, вероятно, было под патронажем. Им занимались Замятин и Федин. Константин Федин был большим функционером, таким литературным генералом.
Мы попробовали собрать все известные экземпляры 1931 года по библиотекам – нашлось совсем немного, в основном обязательные экземпляры, разосланные по библиотекам. При этом нам известно только несколько книг, сохранившихся в частных собраниях, которые читались с пометами. Нам было важно выяснить, насколько книжка сильно распространялась.
Например, мы узнали, что Егунов отправлял книгу Горькому на поклон, у Волошина была книжка. Правда стоит отметить, у них у обоих сохранились только титульные листы. Это нормальная практика для больших библиотек. Горькому присылали книги сотнями, каждая прочитывалась и выбрасывалась, а титульный лист оставлялся. Горькому, естественно, не понравилось, что написано в «По ту сторону Тулы».
РК: Расскажи про значение подзаголовка «Советская пастораль», который встречался в нескольких экземплярах 1931 года, а в новом издании воспроизведен только в выходных данных книги.
ДБ: Теоретически подзаголовок «Советская пастораль» можно отнести, наверное, к элементам цензуры или самоцензуры и адресации, об этом мы пишем в предисловии. Например, у Волошина книжка с этой подписью, а у Горького нет. Это важная проблематика, связанная с литературой как медиа. Массовость и возможность говорения посредством книги то ли с самим собой, то ли с другом, попытка сохранить личный контакт. Телефоны тогда были не так распространены, и книжка могла быть таким телефоном.
Но насколько это подзаголовок, который расширяет смысл текста, или подзаголовок – как последняя фига в кармане – я не знаю. Мне нравится первый вариант, для меня этот ответ интересней, а что на самом деле было – неизвестно.
Об этом можно рассуждать, только если мы получим больше количество книжек с подписью «Советская пастораль», а так мы их знаем три, и одна из них – егуновская копия, она пропала. Если мы найдём еще какие-то книжки, то сможем об этом продолжать разговор. В этом и особенность архива. По Фуко, это то, что используется властью. То, что мы никому не показываем до тех пор, пока не хотим показывать. Примерно так же и с Егуновым: мы сейчас хотим показать адресность, а раньше хотели показать диссидентство, эзопов язык. И это работало в силу архивного статуса.
Вообще особенность трансляции поэтики Егунова связана с проблемой архива. Что это за особенность советского архива, работает ли он по Фуко, Делезу или по Деррида – было бы любопытно установить. Это то, чем мы занимаемся в контексте подготовки публикации – овеществляем следы.
РК: Как ты сам считаешь, подзаголовок «Советская пастораль» – это продуктивный ключ чтения романа? Он позволяет какие-то разнонаправленные модусы примирить?
ДБ: Адресность – его главный модус. То, что вписано от руки, то, что предназначалось конкретному адресату – это можно использовать, как ключ к сообщению. Говорение посредством романа, продолжаем разговор. Абсолютно точно Егунов придумал заголовок, никто другой, в 30-м или 31-м году, может быть, сразу после выхода романа. При этом «Тула», конечно, никакая не пастораль. Она даже едва ли связана с романом эпохи второй софистики. Я имею в виду то, что проглядывает сквозь заглавие романа Антония Диогена или сквозь выражение Ultima Thule. Но у меня есть версия, что название просто красиво фонетически звучит: в ту сторону, по ту ту, ту-ту.
Заголовок «По ту сторону Тулы» был известен и до публикации романа как одна из формул перевода. Егунов мог её воспроизвести в предисловии к «Эфиопике» Гелиодора в 32 году – там можно было перевести как «По ту сторону Фулы», но он формулу не сохраняет. Судя по всему Егунов разводил античный источник и то, как эта формула звучит на русском. Чувствуется, что эта Тула с ключом, только ключей нет.
РК: Какое отношение название романа имеет к настоящей географической Туле (в Тульской области)?
ДБ: Была идея, что все ключи находятся в Крыму – Егунов совершал туда поездку в августе 1929 года, в Судаке тусил, в Коктебеле... И датировка начала романа совпадает с тем, когда он приезжает из Крыма и по приезду начинает писать роман.
Там есть тульские пейзажи забавные, с мулами, о которых думаешь, это что за Тула вообще? А это прямая цитата из текста про паломничество, который написан неким пастырем Анисимовым в конце 19-го века. И тут ты понимаешь, что мулы – это потому что Иерусалим, Акрейка – это на самом деле Акра. Николев просто заменяет какие-то вещи, и нерусские пейзажи в тексте – это крымские или средиземноморские. Так что Тульская область – это Крым.
Чтобы что-то найти конкретнее, надо ехать туда минимум на месяц, искать какую-нибудь бабушку, которая фотографии в альбоме сохранила. Там есть краеведческий музей, но с ним связи никакой. Мы даже выступали по zoom'у на конференции в Судаке, пытались найти кого-то, кто смог бы нам помочь, но не нашли.
РК: Многие, в том числе я и ты, впервые узнали о Егунове в контексте Вагинова и его прозы. Но этот путь кажется очевидным, но, может быть, стоит простроить какие-то другие цепочки, связи с другими текстами и традициями того времени и даже более ранними? Например, со «Странствиями Никодима Старшего» Алексея Скалдина.
ДБ: И у Егунова, и у Скалдина мне видится особенность переживания исторического момента антикварного типа. Так антикварно воспринималось не монументальное, как у Ницше в «Пользе и вреде истории для жизни», а вещи, которые должны пониматься как традиционные. Литературный дискурс тоже может быть антикварным, архивным, устаревшим, непонятным. Думаю, это близко и Скалдину, и Вагинову, второму во многом благодаря Егунову.
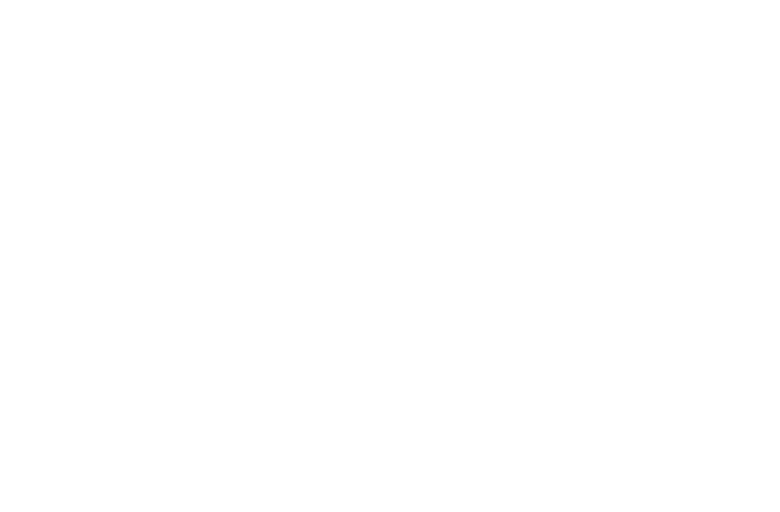
Андрей Егунов (1927 г.)
РК: Что даёт рассмотрение фигуры Егунова в контексте Константина Вагинова?
ДБ: Мне кажется, их дружба была продуктивной для обоих. Разница между «Трудами и днями Свистонова» и «Бамбочадой» в этом смысле показательна, потому что «Труды и дни…» писались одновременно с «Тулой», но роман Вагинова про Свистонова вышел в 1929 году, «Бамбочада» в январе 31 года, а книга Егунова в 31-м году в апреле, В последних двух книгах суждения строятся вокруг вещи или слова-вещи, как чего-то, что не должно обладать драматической бытовой составляющей, но сохраняется, остаётся на правах традиционного артефакта. Например, на правах прогнившего дуршлага бабушки, в который мы почему-то до сих пор отбрасываем макароны. Он не сильно удобный, но почему-то хранится. Это не только память о бабушке (музей), а какое-то представление о том, что вещь собой не являет и почему она должна присутствовать в неявленном виде. Я думаю, и Скалдин может так читаться, и, Вагинов, и, конечно, Егунов.
Егуновский контекст распадается на тот, о котором сейчас говорим, и контекст сатирической прозы – сатиры на «бывших», такой бульварной, мелодраматической литературы. В то время Егунова так же, как и Вагинова, рассматривали как такого второстепенного Ильфа и Петрова.
Сейчас вполне понятно, кто такие «бывшие». Например, находясь в России, мы полагаем, что путинская власть долго не протянет. Надеемся на это. Если бы мы наперёд знали, что ещё 10-15 лет ничего лучше не будет, всё будет только закрываться, и пока ты не станешь буквой зет, ничего у тебя не получится, то, думаю, у нас были бы другие программы и поведение. Но пока мы сидим и ждем.
Понятно, что в начале 30-х годов таких было много домоседов. Об этом и шутки, и анекдоты, и тексты того времени – например, «Самоубийца», «Мандат» Эрдмана. Как в анекдоте тех лет про евреев: «Изя, посмотри в окно, не закончилась ли советская власть».
Мы частично эти источники перечисляем в книге, частично выносим за скобки. А в 20-30 было не очень понятно, как описывать этих бывших.
РК: Перед перечитыванием текста я думал, что в романе в равной степени соседствует античное и советское. Но оказалось, там больше всего: и предреволюционное, и 19-й век, и средневековье. Как будто время и пространство и разрывы в них сшиты неровно, неравномерно, но благодаря ткани письма выглядят одномерно.
ДБ: Я абсолютно согласен, что тут нет никаких уровней, слоёв, которые равномерно распределены. Как вообще определить, собрать способ цитирования у Егунова? Чаще всего это коллажный принцип, и Егунов пишет свою «Тулу» сходным образом, как Свистонов у Вагинова.
РК: А мне показалось, что, по сравнению с «Трудами и днями Свистонова», текст и растворение письма о письме у Егунова сделано гораздо гибче, как будто ты в какой-то момент очаровываешься переходом и не понимаешь, когда он произошёл.
ДБ: Свистонов – это пародия, оголяющая швы, чтобы было понятно, как он это делает. И если Свистонов берёт в библиотеке разные книжки и начинает склеивать, то у Егунова деятельность не связана с одной книжной полкой, а связана с фрагментацией, с последованием.
РК: Насколько, по-твоему, «По ту сторону Тулы» отличается от современных ему текстов?
ДБ: Важно отделить практику Егунова от модернистских практик. Егунов – это не Джойс и не Пруст русский, не Вальзер русский. Мне кажутся эти сравнения совершенно непродуктивными, хотя для кого-то, наверное, это может быть рекомендацией к чтению. На самом деле понятие «советский модернизм», которым мы сейчас пользуемся, это оксюморонная формула. Ведь в любых советских книжках, которые выходили с конца 50-х – про Пикассо, про кого-то ещё, можно прочитать, что модернизм – это то, что начиналось с 20-х годов и то, чего счастливо мы избежали. Был социализм, и худо-бедно, пусть даже не с очень хорошими текстами, но мы пережили это ужасное время и не скурвились буржуазным образом. Но тем не менее, там много интересных вещей, про которые мы говорим: и вопрос медиа, и вопрос антикварной истории революции и антикварного энтузиазма.
Но то, что меня интересует, зачем Егунов нужен, какая-то другая линия, которая пересекается очень условно с тем же Кафкой, Джойсом, с Вульф или Вальзером. Может быть, стоит сперва прояснить, зачем эти тексты были нужны, зачем существуют в рамках прагматики художественного дискурса и как это дискурс социализировал поэтическое и художественное сообщество? Эти механизмы во много определяли и определяют до сих пор поэтические формы. Сама эта установка «писать вослед» не связана с революцией в литературе и преемственностью, но связана с прагматикой советского модернизма 20-х и начала 30-х годов. Она раскрылась в позднесоветское время и раскрывается до сих пор. Это именно то, что мы приобрели благодаря этим самым егуновым.
РК: Какой бэкграунд может пригодиться при чтении книги, например, какая философская литература может быть полезна? Учитывая, что Егунов много переводил Платона.
ДБ: Мне кажется, что Егунов вообще-то был далёк от философии, в целом, хотя какие-то маркеры, которые можно было бы отметить, они такого университетско-гимназического уровня. Он их использует, чтобы определить возможности литературы через моделирование. Но это моделирование не связано с Платоном.
Его философские воззрения и круг чтения сложно установимы, потому что перевести «Законы» Платона, это задача, с одной стороны, практическая, раз готовилось собрание сочинений в «Академии», с другой стороны, важная для портфолио молодого человека, филолога-классика. Перевести что-то из Платона – это было круто.
Но важнее сегодня осмыслять его воззрения как распаковку, через поэтическую практику, поскольку напрямую его повестку не перенять. Но это и не нужно – мы в иное время живём.
В его круге чтения много тёмных мест, которые не разобрать. Ну кроме какого-то неокантианства. Какую феноменологию они читали тогда, не знаю. Но тогда было много кружков, семинаров и всего такого. Егунова же как раз отправили на поселение в первый раз за подобный кружок «Осьминог» (дело Иванова-Разумника). Тогда все эти кружки и братства были ну как сейчас иноагенты. Что они читают? – неизвестно. Откуда берут деньги? – отовсюду, почему они иноагенты – ну потому что.
РК: Если мы обращаемся к концу 20-х – началу 30-х, то, по-моему, Егунов пытался проскочить между разными, друг с другом не сообщающимися традициями. И написать производственный роман, который бы приняли, и при этом сохранить модернистское обаяние в полной мере. Как он видел свою задачу именно при публикации, как текст, по его мнению, мог функционировать в текущей ситуации?
ДБ: Мне кажется при такой постановке, когда мы должны как бы думать за двоих, это инерция уже позднесоветского опыта. Даже экономически Егунов вообще никак не был связан с распространением книги. Представление о том, что текст должен соответствовать каким-то требованиям издательства – это тоже из более позднего времени. Сейчас-то понятно, что мы должны сначала выбирать, чтобы не оказаться в местах не столь отдалённых: храм, где танцевать или где устраивать молебен. Но тогда формовка советского писателя происходила, в основном, на стадии разбора полетов, после танцев, когда романы уже напечатаны.
Но если просто отвечать на вопрос, почему Егунов написал производственный роман… Ведь до «Тулы» у Егунова были тексты, написанные больше для своего круга, и их не печатали. А Федин поставил ему задачу, что надо писать на актуальную тему – и в каталоге советских книг, выпущенных с 30 по 32 год, «По ту сторону Тулы» значится, как роман о рудниках. Но как писать, что писать – ему никто не говорил.
РК: Надо очень пристально читать текст, чтобы держать в уме, что запрос у Сергея, главного персонажа романа, – это именно рудники.
ДБ: Да, Сергей – рабкор, и таких книг рабкоровского типа, где чувак приезжает писать, довольно много было в советское время. Это такая традиция путевой прозы, и достаточно интересная.
РК: Часто движение в тексте у Егунова производится от ослышек, на неточном смысловом и звуковом совпадении. Это совпадение как будто всегда уводит в сторону. Как ты думаешь, это тотальная стратегия письма?
ДБ: Это любопытно разобрать, если применять структуралистские подходы к тексту. Когда в 10-м году я прочёл «Тулу», я учился тогда в университете на кафедре Марковича, естественно, мне было любопытно, как это всё устроено. Кто говорит, кому говорит. Сейчас мне кажется, что применять прокрустово ложе каких-то типов повествовательных девятнадцативечных в модернистских текстах – это каждый раз изобретать велосипед заново.
РК: Получается, таким образом текст не собрать, наоборот, ты от него только отдалишься?
ДБ: Мне кажется, нет, не собрать. Так могут проявиться издержки метода: если ты хочешь изучать нарратив, ты его изучишь в итоге, чего бы тебе это ни стоило. Просто всё это в конце концов упирается в подсчёт грамматических формул глагола или типов точек зрения на происходящее. Но для того, чтобы изучать нарратив, Егунов точно не нужен, в этом смысле мы ничего нового не открываем.
РК: В романе довольно специфически описано тело, его метаморфозы и распад. В этом как будто есть не только обаяние, но и нежность, которая также распространяется на насилие, на сексуальные акты. Что-то приятно извращённое. Может быть, в этом Егунов близок к Платонову?
ДБ: У Егунова происходит объективация – это не собственное тело, а для Платонова это коллективное тело.
РК: Кроме того, в тексте крайне много насилия и оскорблений, откуда они и куда уводят? Герои как будто с помощью этих оскорблений призывают тех, с кем они разговаривают в каком-то ином качестве. А в каком, понять не могу.
ДБ: Мне кажется, их дружба была продуктивной для обоих. Разница между «Трудами и днями Свистонова» и «Бамбочадой» в этом смысле показательна, потому что «Труды и дни…» писались одновременно с «Тулой», но роман Вагинова про Свистонова вышел в 1929 году, «Бамбочада» в январе 31 года, а книга Егунова в 31-м году в апреле, В последних двух книгах суждения строятся вокруг вещи или слова-вещи, как чего-то, что не должно обладать драматической бытовой составляющей, но сохраняется, остаётся на правах традиционного артефакта. Например, на правах прогнившего дуршлага бабушки, в который мы почему-то до сих пор отбрасываем макароны. Он не сильно удобный, но почему-то хранится. Это не только память о бабушке (музей), а какое-то представление о том, что вещь собой не являет и почему она должна присутствовать в неявленном виде. Я думаю, и Скалдин может так читаться, и, Вагинов, и, конечно, Егунов.
Егуновский контекст распадается на тот, о котором сейчас говорим, и контекст сатирической прозы – сатиры на «бывших», такой бульварной, мелодраматической литературы. В то время Егунова так же, как и Вагинова, рассматривали как такого второстепенного Ильфа и Петрова.
Сейчас вполне понятно, кто такие «бывшие». Например, находясь в России, мы полагаем, что путинская власть долго не протянет. Надеемся на это. Если бы мы наперёд знали, что ещё 10-15 лет ничего лучше не будет, всё будет только закрываться, и пока ты не станешь буквой зет, ничего у тебя не получится, то, думаю, у нас были бы другие программы и поведение. Но пока мы сидим и ждем.
Понятно, что в начале 30-х годов таких было много домоседов. Об этом и шутки, и анекдоты, и тексты того времени – например, «Самоубийца», «Мандат» Эрдмана. Как в анекдоте тех лет про евреев: «Изя, посмотри в окно, не закончилась ли советская власть».
Мы частично эти источники перечисляем в книге, частично выносим за скобки. А в 20-30 было не очень понятно, как описывать этих бывших.
РК: Перед перечитыванием текста я думал, что в романе в равной степени соседствует античное и советское. Но оказалось, там больше всего: и предреволюционное, и 19-й век, и средневековье. Как будто время и пространство и разрывы в них сшиты неровно, неравномерно, но благодаря ткани письма выглядят одномерно.
ДБ: Я абсолютно согласен, что тут нет никаких уровней, слоёв, которые равномерно распределены. Как вообще определить, собрать способ цитирования у Егунова? Чаще всего это коллажный принцип, и Егунов пишет свою «Тулу» сходным образом, как Свистонов у Вагинова.
РК: А мне показалось, что, по сравнению с «Трудами и днями Свистонова», текст и растворение письма о письме у Егунова сделано гораздо гибче, как будто ты в какой-то момент очаровываешься переходом и не понимаешь, когда он произошёл.
ДБ: Свистонов – это пародия, оголяющая швы, чтобы было понятно, как он это делает. И если Свистонов берёт в библиотеке разные книжки и начинает склеивать, то у Егунова деятельность не связана с одной книжной полкой, а связана с фрагментацией, с последованием.
РК: Насколько, по-твоему, «По ту сторону Тулы» отличается от современных ему текстов?
ДБ: Важно отделить практику Егунова от модернистских практик. Егунов – это не Джойс и не Пруст русский, не Вальзер русский. Мне кажутся эти сравнения совершенно непродуктивными, хотя для кого-то, наверное, это может быть рекомендацией к чтению. На самом деле понятие «советский модернизм», которым мы сейчас пользуемся, это оксюморонная формула. Ведь в любых советских книжках, которые выходили с конца 50-х – про Пикассо, про кого-то ещё, можно прочитать, что модернизм – это то, что начиналось с 20-х годов и то, чего счастливо мы избежали. Был социализм, и худо-бедно, пусть даже не с очень хорошими текстами, но мы пережили это ужасное время и не скурвились буржуазным образом. Но тем не менее, там много интересных вещей, про которые мы говорим: и вопрос медиа, и вопрос антикварной истории революции и антикварного энтузиазма.
Но то, что меня интересует, зачем Егунов нужен, какая-то другая линия, которая пересекается очень условно с тем же Кафкой, Джойсом, с Вульф или Вальзером. Может быть, стоит сперва прояснить, зачем эти тексты были нужны, зачем существуют в рамках прагматики художественного дискурса и как это дискурс социализировал поэтическое и художественное сообщество? Эти механизмы во много определяли и определяют до сих пор поэтические формы. Сама эта установка «писать вослед» не связана с революцией в литературе и преемственностью, но связана с прагматикой советского модернизма 20-х и начала 30-х годов. Она раскрылась в позднесоветское время и раскрывается до сих пор. Это именно то, что мы приобрели благодаря этим самым егуновым.
РК: Какой бэкграунд может пригодиться при чтении книги, например, какая философская литература может быть полезна? Учитывая, что Егунов много переводил Платона.
ДБ: Мне кажется, что Егунов вообще-то был далёк от философии, в целом, хотя какие-то маркеры, которые можно было бы отметить, они такого университетско-гимназического уровня. Он их использует, чтобы определить возможности литературы через моделирование. Но это моделирование не связано с Платоном.
Его философские воззрения и круг чтения сложно установимы, потому что перевести «Законы» Платона, это задача, с одной стороны, практическая, раз готовилось собрание сочинений в «Академии», с другой стороны, важная для портфолио молодого человека, филолога-классика. Перевести что-то из Платона – это было круто.
Но важнее сегодня осмыслять его воззрения как распаковку, через поэтическую практику, поскольку напрямую его повестку не перенять. Но это и не нужно – мы в иное время живём.
В его круге чтения много тёмных мест, которые не разобрать. Ну кроме какого-то неокантианства. Какую феноменологию они читали тогда, не знаю. Но тогда было много кружков, семинаров и всего такого. Егунова же как раз отправили на поселение в первый раз за подобный кружок «Осьминог» (дело Иванова-Разумника). Тогда все эти кружки и братства были ну как сейчас иноагенты. Что они читают? – неизвестно. Откуда берут деньги? – отовсюду, почему они иноагенты – ну потому что.
РК: Если мы обращаемся к концу 20-х – началу 30-х, то, по-моему, Егунов пытался проскочить между разными, друг с другом не сообщающимися традициями. И написать производственный роман, который бы приняли, и при этом сохранить модернистское обаяние в полной мере. Как он видел свою задачу именно при публикации, как текст, по его мнению, мог функционировать в текущей ситуации?
ДБ: Мне кажется при такой постановке, когда мы должны как бы думать за двоих, это инерция уже позднесоветского опыта. Даже экономически Егунов вообще никак не был связан с распространением книги. Представление о том, что текст должен соответствовать каким-то требованиям издательства – это тоже из более позднего времени. Сейчас-то понятно, что мы должны сначала выбирать, чтобы не оказаться в местах не столь отдалённых: храм, где танцевать или где устраивать молебен. Но тогда формовка советского писателя происходила, в основном, на стадии разбора полетов, после танцев, когда романы уже напечатаны.
Но если просто отвечать на вопрос, почему Егунов написал производственный роман… Ведь до «Тулы» у Егунова были тексты, написанные больше для своего круга, и их не печатали. А Федин поставил ему задачу, что надо писать на актуальную тему – и в каталоге советских книг, выпущенных с 30 по 32 год, «По ту сторону Тулы» значится, как роман о рудниках. Но как писать, что писать – ему никто не говорил.
РК: Надо очень пристально читать текст, чтобы держать в уме, что запрос у Сергея, главного персонажа романа, – это именно рудники.
ДБ: Да, Сергей – рабкор, и таких книг рабкоровского типа, где чувак приезжает писать, довольно много было в советское время. Это такая традиция путевой прозы, и достаточно интересная.
РК: Часто движение в тексте у Егунова производится от ослышек, на неточном смысловом и звуковом совпадении. Это совпадение как будто всегда уводит в сторону. Как ты думаешь, это тотальная стратегия письма?
ДБ: Это любопытно разобрать, если применять структуралистские подходы к тексту. Когда в 10-м году я прочёл «Тулу», я учился тогда в университете на кафедре Марковича, естественно, мне было любопытно, как это всё устроено. Кто говорит, кому говорит. Сейчас мне кажется, что применять прокрустово ложе каких-то типов повествовательных девятнадцативечных в модернистских текстах – это каждый раз изобретать велосипед заново.
РК: Получается, таким образом текст не собрать, наоборот, ты от него только отдалишься?
ДБ: Мне кажется, нет, не собрать. Так могут проявиться издержки метода: если ты хочешь изучать нарратив, ты его изучишь в итоге, чего бы тебе это ни стоило. Просто всё это в конце концов упирается в подсчёт грамматических формул глагола или типов точек зрения на происходящее. Но для того, чтобы изучать нарратив, Егунов точно не нужен, в этом смысле мы ничего нового не открываем.
РК: В романе довольно специфически описано тело, его метаморфозы и распад. В этом как будто есть не только обаяние, но и нежность, которая также распространяется на насилие, на сексуальные акты. Что-то приятно извращённое. Может быть, в этом Егунов близок к Платонову?
ДБ: У Егунова происходит объективация – это не собственное тело, а для Платонова это коллективное тело.
РК: Кроме того, в тексте крайне много насилия и оскорблений, откуда они и куда уводят? Герои как будто с помощью этих оскорблений призывают тех, с кем они разговаривают в каком-то ином качестве. А в каком, понять не могу.
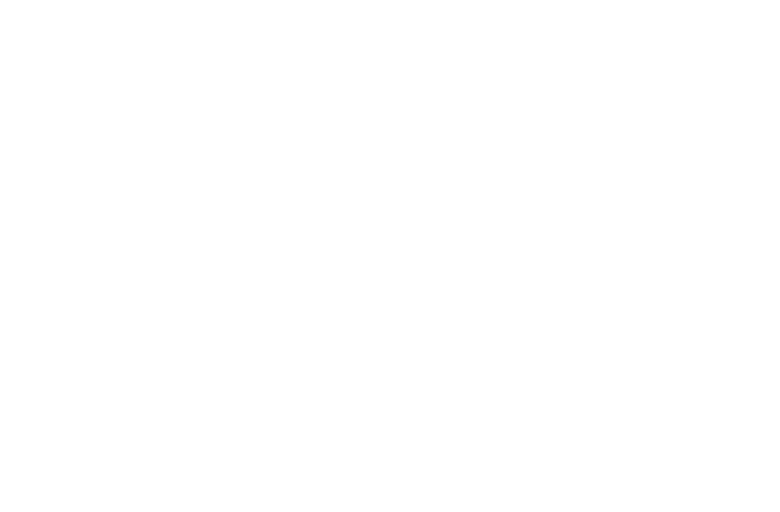
Американское издание «По ту сторону Тулы». Пер. Эйнсли Морс. Academic Studies Press, 2019.
ДБ: Я, например, долго думал, откуда вся эта расчленёнка – там её действительно очень много. То эти карты, порезанные наполовину, то ноги отдавили котёнку. Тут приведу следующую деталь. Был такой Иван Алексеевич Лихачёв из круга Кузмина, переводчик блестящий, и, очевидно, близкий ему в силу сексуальных предпочтений. В 60-е годы он тоже, как и Егунов, держал салон. Они пересекались, но дружбы не было, потому, вероятно, что слушок о Лихачёве был, что тот стучал – доносил. Лихачёв собирал у себя компании художников и… инвалидов. Ему очень нравились инвалиды. На кухне все эти люди пили водку. Что это такое, как связано, нужно ли это соотносить с Егуновым? Думаю, можно попробовать это свести к тому, о чём мы говорили: к антикварному типу представлений – к руинированию. Здесь разворот, заземление на одну ногу было бы хорошо совершить. А если вернуться к роману, то ругательства, обвинения, оскорбления в контексте романа обусловлены тем, что деклассированные элементы общаются. Посмотрите, как это плохо.
РК: У Егунова в романе часто действие персонажей переходит к письму и дальше растворяется в письме. Там есть то, что, по-моему, актуально и для сегодняшней прозы: персонажи аффектированы письмом, незаметным переходом языковых материй из одной в другую.
ДБ: Для Егунова материализация, представление слова как того, что сохраняет, опосредует, это и есть работа с письмом.
РК: Можно ли сказать, что Егунов сам аффектирован своим письмом, тем, как оно движется и что в его русле возникает, или для него это отчуждённая стратегия, в которой он не растворён, как пишущий?
ДБ: Тут есть 2 ответа. Первый ответ историка: нет, потому что есть контекст. И второй: зачем книжку публикуем и зачем читать Егунова сейчас, и тогда это будет рассматриваться в рамках современной повестки. Я убеждён, то, о чём мы с тобой говорим, Егунов для себя не проговаривал. Он жил в этой ситуации того, когда вещи, слова оказывались в аффекте. Насколько он был аффектирован? Видимо, не был. Потому что когда наука для него закрылась, он стал литератором, стал посещать салоны, стал дружить, затем в 60-е годы не стал продуцировать что-то новое, оставаясь посредником, тем самым медиа, которое давало возможность прочитать не столько своё, сколько других. Это тоже показательно, что он всегда поддерживал разговор о Кузмине, Юркуне, Вагинове, но никогда о себе.
Я общался с двумя людьми, которые были лично с ним знакомы, с Татьяной Никольской и Александром Гавриловым. Гаврилов – филолог-классик, был близко знаком с Егуновым в 60-е годы и когда прочитал роман, начал задавать прямые вопросы. Хотя это, конечно, не приветствовалось. Один раз спросил, что такое романтическая ирония. Егунов ему показал свою маленькую библиотеку, сказал, посмотрите, может быть здесь что-то сказано. Сам он не может давать определения, он же не словарь.
Потом Гаврилов нашёл в себе силы, собрался и спросил, а что такое Файгиню? Егунов сделал жест из еврейского танца. Что это значит? Фэйген — имя нарицательное из 19-го века, из диккенсовского романа, такой жадный еврей, типа, барыга. Но что это значит в контексте романа…
РК: Как, по-твоему, Егунов в тексте высказывается о советской власти и вообще об идеологии?
ДБ: В тексте все фразы о власти в основном от так называемых «бывших», и фразы эти якобы сатирические. Но насколько они выражают мнение самого Егунова? Безусловно, он был имперских взглядов, и его политическая позиция мне очевидна. Насколько она сейчас интересна – думаю, не очень, он в этом смысле не уникален. И у меня не ответа, насколько Егунов актуален сегодня в силу контекста военных действий в Украине. Роман и его герои связаны с новороссийской почвой, и в этом, несомненно, ощущается империализм (сам Егунов, кстати, сын военного). Хотя персонажи и их речь – всё это работает как ёрничество, сатира на бывших дворянок из-под Минска, которые зашкерились и хотят пережить советскую власть. Для него это важный ресурс литературного языка, который он так использует исподтишка.
РК: Как ты сам для себя отвечаешь, почему важно вот сейчас в начале 20-х годов издать Егунова отдельно, хотя текст уже давно доступен в сети?
ДБ: Я считаю, что работа историка литературы такова, что каждый раз приходится отвечать себе, зачем это тебе нужно прямо сейчас. Почему стоит написать об этом, а не о другом? Я уверен, что это издание «По ту сторону Тулы» необходимо, и для разных аудиторий актуальность разная. Первое, самое простое, роман, хоть и был опубликован, но не был прочитан во многом по причине таинственных обстоятельств публикации. И это, несмотря на то, что Егунов был одним из центров неофициальной культуры первой половины 60-х годов. У него же бывали все, кого мы знаем из тех лет: и исследователи, и переводчики, и художники, вроде Хвостенко, и художнички, учёные, но о романе Егунов никогда не говорил.
Поэтому нужна работа, которая связана с комментированием, медленным прочтением, жанром пошагового ответа на вопросы. Ты пишешь обобщающий текст, и на каждой странице спрашиваешь: а это что теперь? Такого рода работа позволяет немножко по-другому взглянуть на текст. Я думаю, что наше издание даёт возможность каким-то образом представить этот роман в контексте 31 года, объяснить, зачем он там вышел, как писался, почему нужен тогда и почему нужен сейчас.
С другой стороны, кажется важным, что Егунов был не просто малоизвестен, непопулярен, он не был прочитан, как материал для современного – актуального – творчества. Несмотря на то, что, например, Вагиновым интересуются, начиная с Драгомощенко и Эрля, Скидана, Дины Гатиной и далее. Хотя вот Стас Снытко в разговоре как-то сказал, что Николай Кононов – является писателем, который как-то использует егуновскую работу. В его романе «Фланер» у одного из героев есть черты Егунова.
Кузмин Михаил Алексеевич примерно таким же образом, как Николев, открывался, не был известен вплоть до начала 80-х годов, информация тоже по крупицам собиралась, так же рукописи в архивах находились. Но Егунов почему-то в силу своей герметичности, побочности для кузминской линии, даже для вагиновской, не был продуктивен. Был любопытен, интересен, но не был применим, не был задействован. Хотя то, каким образом он пишет и мыслит – это кажется вполне актуальным.
В своём эссе к роману я пишу о необходимости читать Егунова, как автора, практикующего, тренирующего медиальные характеристики литературы. Ему интересно представить литературу в контексте новых медиа и выяснить актуальность её. Этот вопрос, так или иначе, стоит с 20-х годов перед любым автором. Почему я не пою песенки? Почему не снимаю кино? Почему пишу стихи? Почему я пишу романы? Что я хочу этим сказать так? У Егунова об этом в тексте много и это много решено не совсем так, как авангард решал. У него другая позиция: мы не станем литературу превращать в новое медиа, а останемся консерваторами, будем писать буковки, но делать это как-то так, чтобы актуализировать возможности слова как медиального средства.
Речь о способе взаимодействия со словом, как чем-то заземляющим. Тем, что должно эти новые медиальные практики противопоставлять абстрактному дискурсу, как-то вычленяться из него. Не формировать для того, чтобы потом быть разбитым в пух и прах, а являться тем, что может выделяться и оставить след.
Это интересный заход, он, безусловно, архивный сегодня, но это не проблема, а скорее наоборот. У Егунова интерес к архиву работает в рамках прагматики художественного текста. Быть поэтом, который открывает архив своим текстом. Не быть исследователем, не быть публикатором, быть не первооткрывателем, но открывателем.
Вообще для Егунова слово – это звучащее слово. Тут приведу, как мне кажется, хорошую параллель. Моя подруга Саша Мороз однажды рассказывала мне, как была на лекции по композиции в Московской консерватории. Она вела конспект, а сидевшая рядом с ней флейтистка Саша Елина записывала паузы, выстраивая ритмический рисунок речи лектора. Ей было интересно, какие длинноты, какие периоды речи захватываются. Егунов мог таким же образом слушать научные доклады. Как звучит голос того, кто сейчас говорит, какая у него спина, как он выглядит. Это речь, которая выглядит изогнутой спиной. Важна произносимая природа этой спины, этих пауз. Но это ни в коем случае не глоссолалия, не визуализация – это такой тип вербального взаимодействия со слушателем.
В этом смысле Егунов совсем не прочитан как автор-минималист, в том числе и в поэзии. Как автор, который пытается вскрыть фактуру письма. Я в эссе коротко пытался намекнуть на эту тему. И, в целом, в книжке, мы только намечаем пути, которые могут продуктивными быть.
Но я не могу сказать, что те, кто сейчас занимается трансмедиальной составляющей литературы, используют приёмы Егунова. А мне кажется, это и сработало бы вполне.
Ну и естественно, если бы книжка выходила в каких-нибудь «Литературных памятниках», она была бы другой. Но так как она выходит в «Носороге», то должна прочитываться сквозь призму сегодня.
РК: У Егунова в романе часто действие персонажей переходит к письму и дальше растворяется в письме. Там есть то, что, по-моему, актуально и для сегодняшней прозы: персонажи аффектированы письмом, незаметным переходом языковых материй из одной в другую.
ДБ: Для Егунова материализация, представление слова как того, что сохраняет, опосредует, это и есть работа с письмом.
РК: Можно ли сказать, что Егунов сам аффектирован своим письмом, тем, как оно движется и что в его русле возникает, или для него это отчуждённая стратегия, в которой он не растворён, как пишущий?
ДБ: Тут есть 2 ответа. Первый ответ историка: нет, потому что есть контекст. И второй: зачем книжку публикуем и зачем читать Егунова сейчас, и тогда это будет рассматриваться в рамках современной повестки. Я убеждён, то, о чём мы с тобой говорим, Егунов для себя не проговаривал. Он жил в этой ситуации того, когда вещи, слова оказывались в аффекте. Насколько он был аффектирован? Видимо, не был. Потому что когда наука для него закрылась, он стал литератором, стал посещать салоны, стал дружить, затем в 60-е годы не стал продуцировать что-то новое, оставаясь посредником, тем самым медиа, которое давало возможность прочитать не столько своё, сколько других. Это тоже показательно, что он всегда поддерживал разговор о Кузмине, Юркуне, Вагинове, но никогда о себе.
Я общался с двумя людьми, которые были лично с ним знакомы, с Татьяной Никольской и Александром Гавриловым. Гаврилов – филолог-классик, был близко знаком с Егуновым в 60-е годы и когда прочитал роман, начал задавать прямые вопросы. Хотя это, конечно, не приветствовалось. Один раз спросил, что такое романтическая ирония. Егунов ему показал свою маленькую библиотеку, сказал, посмотрите, может быть здесь что-то сказано. Сам он не может давать определения, он же не словарь.
Потом Гаврилов нашёл в себе силы, собрался и спросил, а что такое Файгиню? Егунов сделал жест из еврейского танца. Что это значит? Фэйген — имя нарицательное из 19-го века, из диккенсовского романа, такой жадный еврей, типа, барыга. Но что это значит в контексте романа…
РК: Как, по-твоему, Егунов в тексте высказывается о советской власти и вообще об идеологии?
ДБ: В тексте все фразы о власти в основном от так называемых «бывших», и фразы эти якобы сатирические. Но насколько они выражают мнение самого Егунова? Безусловно, он был имперских взглядов, и его политическая позиция мне очевидна. Насколько она сейчас интересна – думаю, не очень, он в этом смысле не уникален. И у меня не ответа, насколько Егунов актуален сегодня в силу контекста военных действий в Украине. Роман и его герои связаны с новороссийской почвой, и в этом, несомненно, ощущается империализм (сам Егунов, кстати, сын военного). Хотя персонажи и их речь – всё это работает как ёрничество, сатира на бывших дворянок из-под Минска, которые зашкерились и хотят пережить советскую власть. Для него это важный ресурс литературного языка, который он так использует исподтишка.
РК: Как ты сам для себя отвечаешь, почему важно вот сейчас в начале 20-х годов издать Егунова отдельно, хотя текст уже давно доступен в сети?
ДБ: Я считаю, что работа историка литературы такова, что каждый раз приходится отвечать себе, зачем это тебе нужно прямо сейчас. Почему стоит написать об этом, а не о другом? Я уверен, что это издание «По ту сторону Тулы» необходимо, и для разных аудиторий актуальность разная. Первое, самое простое, роман, хоть и был опубликован, но не был прочитан во многом по причине таинственных обстоятельств публикации. И это, несмотря на то, что Егунов был одним из центров неофициальной культуры первой половины 60-х годов. У него же бывали все, кого мы знаем из тех лет: и исследователи, и переводчики, и художники, вроде Хвостенко, и художнички, учёные, но о романе Егунов никогда не говорил.
Поэтому нужна работа, которая связана с комментированием, медленным прочтением, жанром пошагового ответа на вопросы. Ты пишешь обобщающий текст, и на каждой странице спрашиваешь: а это что теперь? Такого рода работа позволяет немножко по-другому взглянуть на текст. Я думаю, что наше издание даёт возможность каким-то образом представить этот роман в контексте 31 года, объяснить, зачем он там вышел, как писался, почему нужен тогда и почему нужен сейчас.
С другой стороны, кажется важным, что Егунов был не просто малоизвестен, непопулярен, он не был прочитан, как материал для современного – актуального – творчества. Несмотря на то, что, например, Вагиновым интересуются, начиная с Драгомощенко и Эрля, Скидана, Дины Гатиной и далее. Хотя вот Стас Снытко в разговоре как-то сказал, что Николай Кононов – является писателем, который как-то использует егуновскую работу. В его романе «Фланер» у одного из героев есть черты Егунова.
Кузмин Михаил Алексеевич примерно таким же образом, как Николев, открывался, не был известен вплоть до начала 80-х годов, информация тоже по крупицам собиралась, так же рукописи в архивах находились. Но Егунов почему-то в силу своей герметичности, побочности для кузминской линии, даже для вагиновской, не был продуктивен. Был любопытен, интересен, но не был применим, не был задействован. Хотя то, каким образом он пишет и мыслит – это кажется вполне актуальным.
В своём эссе к роману я пишу о необходимости читать Егунова, как автора, практикующего, тренирующего медиальные характеристики литературы. Ему интересно представить литературу в контексте новых медиа и выяснить актуальность её. Этот вопрос, так или иначе, стоит с 20-х годов перед любым автором. Почему я не пою песенки? Почему не снимаю кино? Почему пишу стихи? Почему я пишу романы? Что я хочу этим сказать так? У Егунова об этом в тексте много и это много решено не совсем так, как авангард решал. У него другая позиция: мы не станем литературу превращать в новое медиа, а останемся консерваторами, будем писать буковки, но делать это как-то так, чтобы актуализировать возможности слова как медиального средства.
Речь о способе взаимодействия со словом, как чем-то заземляющим. Тем, что должно эти новые медиальные практики противопоставлять абстрактному дискурсу, как-то вычленяться из него. Не формировать для того, чтобы потом быть разбитым в пух и прах, а являться тем, что может выделяться и оставить след.
Это интересный заход, он, безусловно, архивный сегодня, но это не проблема, а скорее наоборот. У Егунова интерес к архиву работает в рамках прагматики художественного текста. Быть поэтом, который открывает архив своим текстом. Не быть исследователем, не быть публикатором, быть не первооткрывателем, но открывателем.
Вообще для Егунова слово – это звучащее слово. Тут приведу, как мне кажется, хорошую параллель. Моя подруга Саша Мороз однажды рассказывала мне, как была на лекции по композиции в Московской консерватории. Она вела конспект, а сидевшая рядом с ней флейтистка Саша Елина записывала паузы, выстраивая ритмический рисунок речи лектора. Ей было интересно, какие длинноты, какие периоды речи захватываются. Егунов мог таким же образом слушать научные доклады. Как звучит голос того, кто сейчас говорит, какая у него спина, как он выглядит. Это речь, которая выглядит изогнутой спиной. Важна произносимая природа этой спины, этих пауз. Но это ни в коем случае не глоссолалия, не визуализация – это такой тип вербального взаимодействия со слушателем.
В этом смысле Егунов совсем не прочитан как автор-минималист, в том числе и в поэзии. Как автор, который пытается вскрыть фактуру письма. Я в эссе коротко пытался намекнуть на эту тему. И, в целом, в книжке, мы только намечаем пути, которые могут продуктивными быть.
Но я не могу сказать, что те, кто сейчас занимается трансмедиальной составляющей литературы, используют приёмы Егунова. А мне кажется, это и сработало бы вполне.
Ну и естественно, если бы книжка выходила в каких-нибудь «Литературных памятниках», она была бы другой. Но так как она выходит в «Носороге», то должна прочитываться сквозь призму сегодня.
вас может заинтересовать

