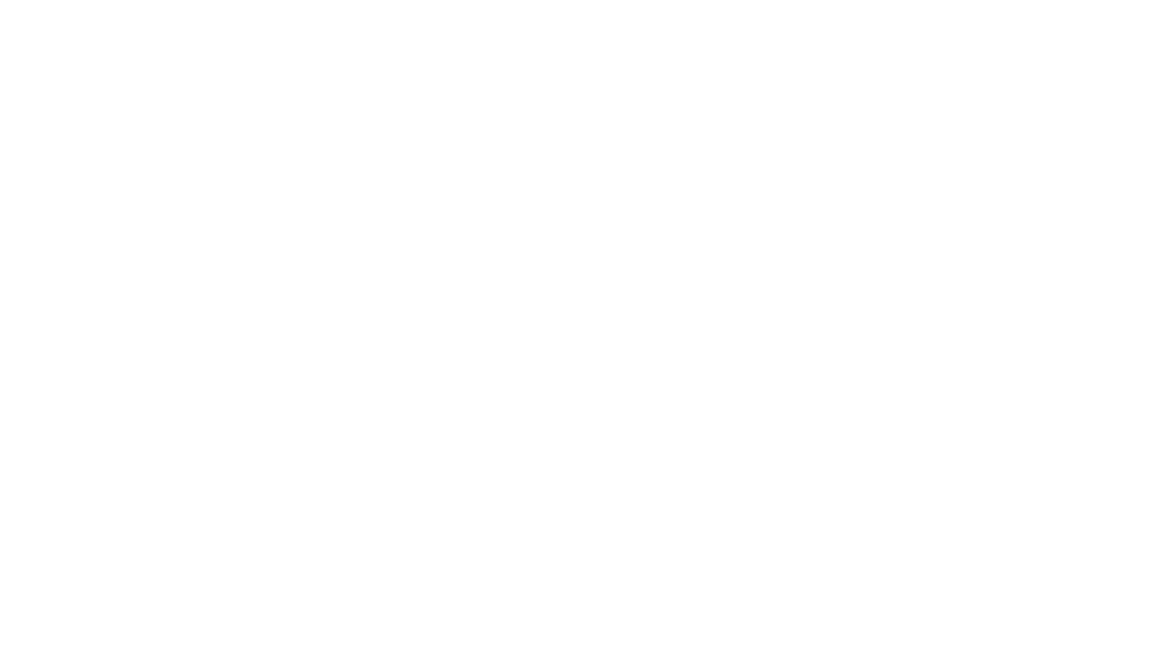
Трофей, атрибут и сувенир
Публикуем беседу Кати Морозовой с писателем и художником Павлом Пепперштейном, посвященную комментариям к его новому роману «Странствие по таборам и монастырям».
Катя Морозова: Давай начнем с небольшой провокации. Сорокин однажды так охарактеризовал твои тексты: «Он стоит в литературе одной ногой, так как наполовину художник. Поэтому иногда и пишет этой самой левой ногой. Как стилиста меня подобное иногда коробит. У Паши просто физически не хватает усидчивости: некоторые тексты начинаются блестяще, к середине он устает, начинает позевывать, к концу просто теряет интерес к тексту. В „МЛК" ("Мифогенная любовь каст". — примеч. ред.) Сережа Ануфриев его стимулировал, колол в жопу, не давал дремать. В одиночестве Паша способен порождать стремительно дряхлеющие тексты. В начале задорная мальчишеская мастурбация, в конце — выпадение вставной челюсти. Это и есть „метод Пепперштейна"». Что бы ты ответил на это?
Павел Пепперштейн: Могу сказать, что это одно из моих самых любимых высказываний о моем творчестве. Хотя какие-то интонации и аспекты этого высказывания дают понять, что автор мыслил его как критическое, но я воспринимаю его как комплиментарное. Описание текста как «стремительно дряхлеющего» на глазах и начинающегося как бодрое подростковое дрочилово, а кончающегося выпадением вставной челюсти на пол мне кажется идеальной метафорой человеческого существования. И, соответственно, идеальной метафорой существования текста.
КМ: Значит это и есть «метод Пепперштейна»?
ПП: Я никогда не думал об этом как о методе. Скорее, я бы назвал это словом «прием». Он иногда применяется, иногда нет. Как каждый прием, который применяется часто, иногда становится следствием привычки. В любом случае хочу сказать дорогому и любимому Владимиру Георгиевичу спасибо за такое прекрасное высказывание, обогатившее гипотетический сборник высказываний одних авторов о других чудесным перлом.
КМ: Как строится «Странствие по таборам и монастырям»?
ПП: Один из приемов — сквозные повествования, которые переходят из книги в книгу. Не только персонажи, но целые куски текста, а иногда целые главы. Таким образом, эти странствующие фрагменты текста фигурируют как некие рэдимейды — или в этом случае лучше употребить слово «артефакты». Один из важных элементов моего метода — это восприятие текста как артефакта.
В свое время, еще в «Медгерменевтике», в «теоретический» период своего творчества, я описал три вида артефактов: трофей, атрибут, сувенир. Мы разрабатывали тогда с Сергеем Ануфриевым довольно детализованную терминологию, затрагивающую литературные практики и практики, связанные с визуальным искусством. Между тремя типами артефактов происходит некое «мерцание». Один тип, как я уже сказал, — это трофей. Трофеем может быть объект: текст или, например, рисунок, который вынесен из, условно говоря, некоего путешествия в запредельное, в другой мир или из какого-то измененного состояния сознания: сновидения или трипа.
Трофей часто дополняется другим типом артефакта — атрибутом. Это тоже может быть текст или опять же предмет. Здесь можно вспомнить старинные изображения святых, когда каждый святой наделялся неким атрибутом, и этот атрибут становился частью иконографического облика данного святого. В случае, если святой был мучеником, атрибутом этого святого или святой становились орудия его мучения, например, колесо с зубьями святой Екатерины. По-другому формируется иконография буддистских святых, среди которых мучеников нет. В основном здесь атрибутами становятся предметы силы, как сказал бы кастанедовский Дон Хуан. То есть иконографические сгустки, которые визуализируют или натурализуют тот тип духовной практики, с которыми имел дело данный святой. Например, цветущий лотос, или несгорающее колесо, или животное-спутник. Текст тоже может присваивать себе статус атрибута, который, как некая геральдика, становится обозначением либо определенного момента во времени, либо какой-то практики — внутренней или внешней. То есть это тайная номенклатура текста, которая, может быть, и не видна читателю, но она присутствует.
И, наконец, третий тип текстуального артефакта — это сувенир, который призван впитать в себя какое-то мгновение или какое-то конкретное переживание и стать порталом возврата внутрь этого переживания, то есть это некая кнопка для time travel. Переживание может быть религиозным, сексуальным, мистическим...
КМ: А каким типом переживания можно назвать роман в целом?
ПП: Этот роман связан с определенным периодом моей жизни, который я так и обозначил для себя — путешествие по таборам и монастырям. Это был скитальческий период. Жизнь постоянно забрасывала меня в различные, как сейчас принято говорить, кластеры. Причем я там не растворялся, не становился в них своим. Мой статус менялся: иногда я бывал гостем, иногда я бывал просто свидетелем. Но почему-то меня очень впечатляли эти переходы от одного сообщества к другому, изучение их внутренней жизни, их структуры вкупе с их локальной идеологией, а также с особенностями, которые диктовались тем местом, где эти кластеры располагались. Можно сказать, что это такое скрытое автобиографическое повествование. Многое из того, что описано, действительно со мной происходило. Сначала, например, рассказывается о приезде на съемки фильма «Дау» Ильи Хржановского — достаточно подробно и реалистично, пока не начинается детективный замут и не происходит убийство режиссера.
КМ: Хржановский в курсе, что его убивают на страницах романа?
ПП: Не помню, говорил я ему об этом или нет. На этих съемках я провел всего один день, который и описан в романе. Хржановский пригласил меня поучаствовать, но я в ужасе сбежал вечером того же дня.
КМ: А что тебя больше всего там ужаснуло?
ПП: It's not my cup of tea. Клаустрофобический аттракцион на любителя, но точно не на мой вкус. Все, что там происходило, я довольно педантично описал. Все эти наезды со стороны каких-то кагэбэшников, которые изображали других кагэбэшников... Какая-то странная пьяная декадентская атмосфера, которая никак не ассоциировалась в моем сознании с просветленным образом советского научного института шестидесятых годов. И вообще повеяло чем-то таким в духе перестроечного кино — я его никогда не переваривал. По контрасту с этим описан Казантип. То есть, напротив, любимое мною мероприятие, куда я ездил каждое лето в течение более десяти лет. В романе есть и сам рейв, и замок, выстроенный моим другом Севой из города Токсово, где я всегда жил на Казантипе. Я скорблю о том, что этого больше не происходит, мне этого очень не хватает. Еще в романе описан арт-мир, который мне тоже хорошо известен. Действие разворачивается в Лондоне, в галерее Тейт.
КМ: С арт-кластером ведь связана еще одна детективная линия в сюжете. Расскажи о важности детективного жанра для этого романа.
ПП: Художники братья Чепмен становятся жертвой отравления, но вся детективная линия, как принято в таких случаях говорить, шита белыми нитками. Детективная часть представляет собой не пародию, но некую тотальную небрежность. Как будто человек вообразил себя детективным писателем, но не только таким не является, но даже толком не понимает, в чем вообще состоит специфика этого жанра. И это, конечно, тоже часть метода — проваливание всех жанров, за счет чего осуществляется слайдинг между ними. И в то же время происходит исследование неких краевых возможностей, которые скрываются в этих жанрах. Каждый из кластеров обозначает тот или иной литературный жанр, а детектив является связующим элементом. Но связано все специально очень грубо и небрежно. Ведь, как выясняется ближе к концу романа, мы читаем текст, который мечтали написать его героини — юные девушки Рэйчел Марблтон и Эстер Фрост, и им это вроде бы удалось. Они собирались написать сложный «элитарный» роман о Майкле Джексоне. По легенде этот роман написан по-английски, а мы имеем дело с каким-то непонятным переводом, неизвестно кем изготовленным. Это, условно говоря, «элитарный» роман о массовой культуре, о влюбленности в массовую культуру. Героиня влюблена в Майкла Джексона. Почти все персонажи влюблены в те или иные аспекты массовой культуры. То есть перед нами достаточно усложненный и написанный отнюдь не массовым языком роман, воспевающий массовую культуру и любовь к ней.
Павел Пепперштейн: Могу сказать, что это одно из моих самых любимых высказываний о моем творчестве. Хотя какие-то интонации и аспекты этого высказывания дают понять, что автор мыслил его как критическое, но я воспринимаю его как комплиментарное. Описание текста как «стремительно дряхлеющего» на глазах и начинающегося как бодрое подростковое дрочилово, а кончающегося выпадением вставной челюсти на пол мне кажется идеальной метафорой человеческого существования. И, соответственно, идеальной метафорой существования текста.
КМ: Значит это и есть «метод Пепперштейна»?
ПП: Я никогда не думал об этом как о методе. Скорее, я бы назвал это словом «прием». Он иногда применяется, иногда нет. Как каждый прием, который применяется часто, иногда становится следствием привычки. В любом случае хочу сказать дорогому и любимому Владимиру Георгиевичу спасибо за такое прекрасное высказывание, обогатившее гипотетический сборник высказываний одних авторов о других чудесным перлом.
КМ: Как строится «Странствие по таборам и монастырям»?
ПП: Один из приемов — сквозные повествования, которые переходят из книги в книгу. Не только персонажи, но целые куски текста, а иногда целые главы. Таким образом, эти странствующие фрагменты текста фигурируют как некие рэдимейды — или в этом случае лучше употребить слово «артефакты». Один из важных элементов моего метода — это восприятие текста как артефакта.
В свое время, еще в «Медгерменевтике», в «теоретический» период своего творчества, я описал три вида артефактов: трофей, атрибут, сувенир. Мы разрабатывали тогда с Сергеем Ануфриевым довольно детализованную терминологию, затрагивающую литературные практики и практики, связанные с визуальным искусством. Между тремя типами артефактов происходит некое «мерцание». Один тип, как я уже сказал, — это трофей. Трофеем может быть объект: текст или, например, рисунок, который вынесен из, условно говоря, некоего путешествия в запредельное, в другой мир или из какого-то измененного состояния сознания: сновидения или трипа.
Трофей часто дополняется другим типом артефакта — атрибутом. Это тоже может быть текст или опять же предмет. Здесь можно вспомнить старинные изображения святых, когда каждый святой наделялся неким атрибутом, и этот атрибут становился частью иконографического облика данного святого. В случае, если святой был мучеником, атрибутом этого святого или святой становились орудия его мучения, например, колесо с зубьями святой Екатерины. По-другому формируется иконография буддистских святых, среди которых мучеников нет. В основном здесь атрибутами становятся предметы силы, как сказал бы кастанедовский Дон Хуан. То есть иконографические сгустки, которые визуализируют или натурализуют тот тип духовной практики, с которыми имел дело данный святой. Например, цветущий лотос, или несгорающее колесо, или животное-спутник. Текст тоже может присваивать себе статус атрибута, который, как некая геральдика, становится обозначением либо определенного момента во времени, либо какой-то практики — внутренней или внешней. То есть это тайная номенклатура текста, которая, может быть, и не видна читателю, но она присутствует.
И, наконец, третий тип текстуального артефакта — это сувенир, который призван впитать в себя какое-то мгновение или какое-то конкретное переживание и стать порталом возврата внутрь этого переживания, то есть это некая кнопка для time travel. Переживание может быть религиозным, сексуальным, мистическим...
КМ: А каким типом переживания можно назвать роман в целом?
ПП: Этот роман связан с определенным периодом моей жизни, который я так и обозначил для себя — путешествие по таборам и монастырям. Это был скитальческий период. Жизнь постоянно забрасывала меня в различные, как сейчас принято говорить, кластеры. Причем я там не растворялся, не становился в них своим. Мой статус менялся: иногда я бывал гостем, иногда я бывал просто свидетелем. Но почему-то меня очень впечатляли эти переходы от одного сообщества к другому, изучение их внутренней жизни, их структуры вкупе с их локальной идеологией, а также с особенностями, которые диктовались тем местом, где эти кластеры располагались. Можно сказать, что это такое скрытое автобиографическое повествование. Многое из того, что описано, действительно со мной происходило. Сначала, например, рассказывается о приезде на съемки фильма «Дау» Ильи Хржановского — достаточно подробно и реалистично, пока не начинается детективный замут и не происходит убийство режиссера.
КМ: Хржановский в курсе, что его убивают на страницах романа?
ПП: Не помню, говорил я ему об этом или нет. На этих съемках я провел всего один день, который и описан в романе. Хржановский пригласил меня поучаствовать, но я в ужасе сбежал вечером того же дня.
КМ: А что тебя больше всего там ужаснуло?
ПП: It's not my cup of tea. Клаустрофобический аттракцион на любителя, но точно не на мой вкус. Все, что там происходило, я довольно педантично описал. Все эти наезды со стороны каких-то кагэбэшников, которые изображали других кагэбэшников... Какая-то странная пьяная декадентская атмосфера, которая никак не ассоциировалась в моем сознании с просветленным образом советского научного института шестидесятых годов. И вообще повеяло чем-то таким в духе перестроечного кино — я его никогда не переваривал. По контрасту с этим описан Казантип. То есть, напротив, любимое мною мероприятие, куда я ездил каждое лето в течение более десяти лет. В романе есть и сам рейв, и замок, выстроенный моим другом Севой из города Токсово, где я всегда жил на Казантипе. Я скорблю о том, что этого больше не происходит, мне этого очень не хватает. Еще в романе описан арт-мир, который мне тоже хорошо известен. Действие разворачивается в Лондоне, в галерее Тейт.
КМ: С арт-кластером ведь связана еще одна детективная линия в сюжете. Расскажи о важности детективного жанра для этого романа.
ПП: Художники братья Чепмен становятся жертвой отравления, но вся детективная линия, как принято в таких случаях говорить, шита белыми нитками. Детективная часть представляет собой не пародию, но некую тотальную небрежность. Как будто человек вообразил себя детективным писателем, но не только таким не является, но даже толком не понимает, в чем вообще состоит специфика этого жанра. И это, конечно, тоже часть метода — проваливание всех жанров, за счет чего осуществляется слайдинг между ними. И в то же время происходит исследование неких краевых возможностей, которые скрываются в этих жанрах. Каждый из кластеров обозначает тот или иной литературный жанр, а детектив является связующим элементом. Но связано все специально очень грубо и небрежно. Ведь, как выясняется ближе к концу романа, мы читаем текст, который мечтали написать его героини — юные девушки Рэйчел Марблтон и Эстер Фрост, и им это вроде бы удалось. Они собирались написать сложный «элитарный» роман о Майкле Джексоне. По легенде этот роман написан по-английски, а мы имеем дело с каким-то непонятным переводом, неизвестно кем изготовленным. Это, условно говоря, «элитарный» роман о массовой культуре, о влюбленности в массовую культуру. Героиня влюблена в Майкла Джексона. Почти все персонажи влюблены в те или иные аспекты массовой культуры. То есть перед нами достаточно усложненный и написанный отнюдь не массовым языком роман, воспевающий массовую культуру и любовь к ней.
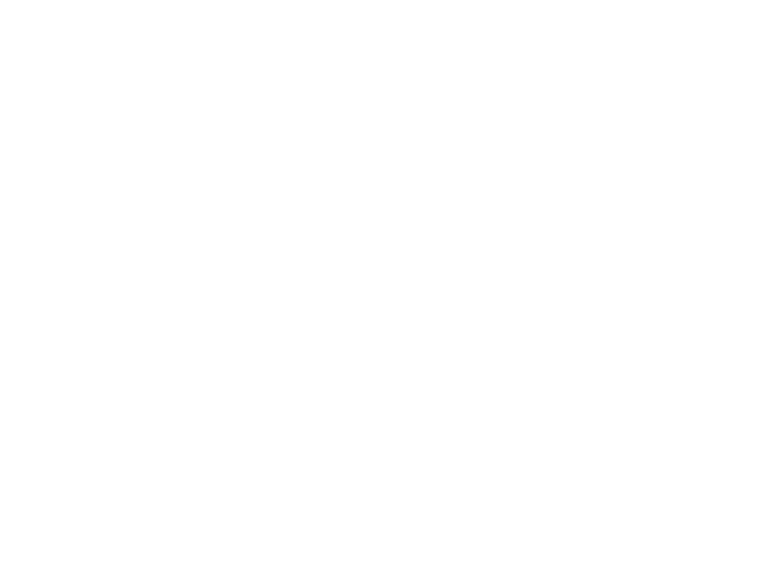
КМ: Сейчас, кажется, даже сама массовая культура исторгает из себя Майкла Джексона. Хотя при этом его преданные фанаты становятся еще более одержимыми.
ПП: Тема Майкла Джексона продолжает бурно развиваться. Хотя Майкл давно умер, миф его не только не гаснет и не теряет актуальности, но даже, наоборот, приобретает какие-то полемические заострения. То, что происходит сейчас, полезно для дальнейшей устойчивости мифа о Майкле Джексоне. Чтобы миф был устойчивым, он должен обрести многомерность, иначе говоря должны появиться джексонофилы и джексонофобы. Меня в случае с Джексоном не волнует Майкл Джексон как реальный человек, его взаимоотношения с другими реальными людьми. Меня он интересует как феномен культуры, как симптом. Это персонаж, который затрагивает очень глубинные ассоциативные ряды: Питер Пэн, Крысолов из Гамельна... Человек, который заново создает свое детство, потому что собственное детство у него было украдено. Это отчасти напоминает историю Моцарта, например, ту интерпретацию, которую дает образу Моцарта Милош Форман в фильме «Амадей»: тотальный инфантилизм как следствие украденного детства. Это ребенок, который хочет играть с другими детьми. Он хочет вычеркнуть различия между собой и детьми, и при этом он собирается создать некий рай, оазис, где было бы гарантировано блаженство и были бы приняты неземные нормы. В общем, именно этот персонаж избирается в качестве жертвы, и его в этом качестве торжественно ведут на заклание. Моцартианский миф трансформируется в миф об Иисусе Христе, об Адонисе, об Озирисе, то есть о погибающем и воскресающем боге.
КМ: Джексон в романе присутствует как некая греза, но не как персонаж. Если же говорить о героях, то многие из них имеют реальных прототипов. Расскажи, пожалуйста, о них.
ПП: Подробно описана мастерская Кабакова, наша тусовка медгерменевтов. Мы называли себя в то время нейропроходцами. Часто персонаж создается посредством синтеза нескольких реальных людей. Один из главных героев, Цыганский Царь, обладает многими чертами моего близкого друга Федота (Владимир Федоров, инспектор «Медгерменевтики» — примеч. ред.). Очень многие черты и реалии, с ним связанные, переданы этому персонажу. Например, идея о цыганской спецслужбе или претензии на то, что он якобы является цыганом, хотя ничего цыганского в его внешности и в его генеалогии не прослеживалось. Очень подробно описана квартира Федота в Харькове на площади Восстания. К сожалению, год назад Федота не стало, и поэтому это все приобретает некий печальный оттенок. Но, чем дальше развивается роман, тем меньше в этом персонаже остается от Федота и тем больше в нем проявляется меня самого, наверное.
Что касается Зои Синельниковой, девочки, влюбленной в Майкла Джексона, то у нее тоже имеется реальный прототип — одна моя близкая подруга, которая действительно влюбилась в Майкла Джексона в тот момент, когда она узнала о его смерти. Это очень загадочная история. Она, конечно, в реальности не стала мстительницей за Майкла, но какие-то похожие фантазии у нее были.
Еще там есть Эстер Фрост. Эта героиня во многом вдохновлена тобой и твоей любовью к Венеции. Это образ изысканной девушки-писательницы, которая покидает родину ради того, чтобы поселиться в Венеции. Она воплощает страсть к рафинированной словесности, как и другие героини-девушки, которые все имеют некоторое отношение к литературе. Все повествование в целом просачивается через девичьи образы, что задано в самом начале романа, когда три девушки — русская, англичанка и японка — молодые, красивые, прекрасные, абсолютно волшебные создания, приезжают в Ниццу на симпозиум, на конференцию, посвященную европейской словесности. Так что этот роман посвящен европейской литературе. Эстер Фрост является и твоей однофамилицей, и в тоже время однофамилицей знаменитого американского поэта Роберта Фроста. В общем-то, это соединение двух морозных линий — русской и англоязычной.
ПП: Тема Майкла Джексона продолжает бурно развиваться. Хотя Майкл давно умер, миф его не только не гаснет и не теряет актуальности, но даже, наоборот, приобретает какие-то полемические заострения. То, что происходит сейчас, полезно для дальнейшей устойчивости мифа о Майкле Джексоне. Чтобы миф был устойчивым, он должен обрести многомерность, иначе говоря должны появиться джексонофилы и джексонофобы. Меня в случае с Джексоном не волнует Майкл Джексон как реальный человек, его взаимоотношения с другими реальными людьми. Меня он интересует как феномен культуры, как симптом. Это персонаж, который затрагивает очень глубинные ассоциативные ряды: Питер Пэн, Крысолов из Гамельна... Человек, который заново создает свое детство, потому что собственное детство у него было украдено. Это отчасти напоминает историю Моцарта, например, ту интерпретацию, которую дает образу Моцарта Милош Форман в фильме «Амадей»: тотальный инфантилизм как следствие украденного детства. Это ребенок, который хочет играть с другими детьми. Он хочет вычеркнуть различия между собой и детьми, и при этом он собирается создать некий рай, оазис, где было бы гарантировано блаженство и были бы приняты неземные нормы. В общем, именно этот персонаж избирается в качестве жертвы, и его в этом качестве торжественно ведут на заклание. Моцартианский миф трансформируется в миф об Иисусе Христе, об Адонисе, об Озирисе, то есть о погибающем и воскресающем боге.
КМ: Джексон в романе присутствует как некая греза, но не как персонаж. Если же говорить о героях, то многие из них имеют реальных прототипов. Расскажи, пожалуйста, о них.
ПП: Подробно описана мастерская Кабакова, наша тусовка медгерменевтов. Мы называли себя в то время нейропроходцами. Часто персонаж создается посредством синтеза нескольких реальных людей. Один из главных героев, Цыганский Царь, обладает многими чертами моего близкого друга Федота (Владимир Федоров, инспектор «Медгерменевтики» — примеч. ред.). Очень многие черты и реалии, с ним связанные, переданы этому персонажу. Например, идея о цыганской спецслужбе или претензии на то, что он якобы является цыганом, хотя ничего цыганского в его внешности и в его генеалогии не прослеживалось. Очень подробно описана квартира Федота в Харькове на площади Восстания. К сожалению, год назад Федота не стало, и поэтому это все приобретает некий печальный оттенок. Но, чем дальше развивается роман, тем меньше в этом персонаже остается от Федота и тем больше в нем проявляется меня самого, наверное.
Что касается Зои Синельниковой, девочки, влюбленной в Майкла Джексона, то у нее тоже имеется реальный прототип — одна моя близкая подруга, которая действительно влюбилась в Майкла Джексона в тот момент, когда она узнала о его смерти. Это очень загадочная история. Она, конечно, в реальности не стала мстительницей за Майкла, но какие-то похожие фантазии у нее были.
Еще там есть Эстер Фрост. Эта героиня во многом вдохновлена тобой и твоей любовью к Венеции. Это образ изысканной девушки-писательницы, которая покидает родину ради того, чтобы поселиться в Венеции. Она воплощает страсть к рафинированной словесности, как и другие героини-девушки, которые все имеют некоторое отношение к литературе. Все повествование в целом просачивается через девичьи образы, что задано в самом начале романа, когда три девушки — русская, англичанка и японка — молодые, красивые, прекрасные, абсолютно волшебные создания, приезжают в Ниццу на симпозиум, на конференцию, посвященную европейской словесности. Так что этот роман посвящен европейской литературе. Эстер Фрост является и твоей однофамилицей, и в тоже время однофамилицей знаменитого американского поэта Роберта Фроста. В общем-то, это соединение двух морозных линий — русской и англоязычной.
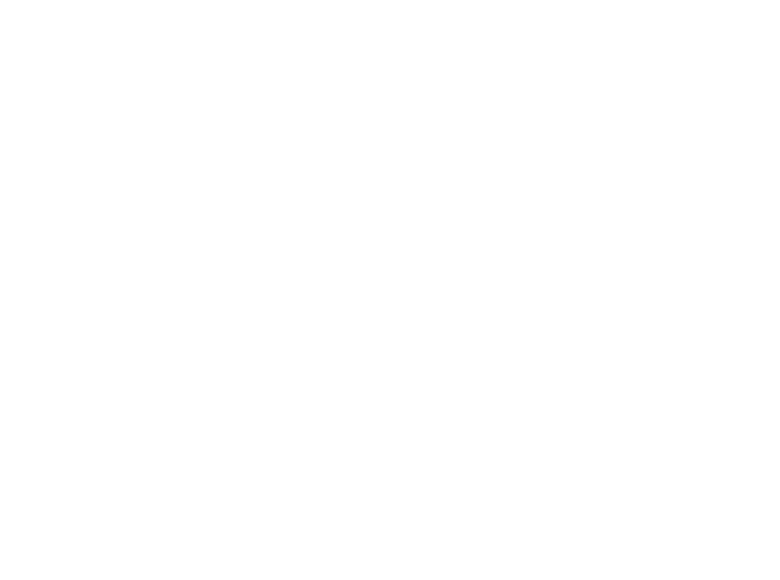
КМ: Ты говоришь о девичьих образах, но кажется, что для романа едва ли не важнейшим становится образ близнецов, окутанных некоторой таинственностью. Как и весь роман в целом, ведь «детективный замут» остается нераспутанным.
ПП: Да, можно сказать, что это и роман о близнецах, о близнечном мифе и об отражениях. Именно поэтому мне очень нравится обложка романа, созданная дизайнером «Носорога», которая представляет собой такое мутное зеркальце, где каждый может отразиться и увидеть себя на обложке, но при этом очень смутно и смазано. В общем-то этот роман — о таких смутных отражениях, которыми отчасти мы сами для себя являемся. Многие персонажи романа раздваиваются в нашем созерцании и обладают братьями или сестрами близнецами. И девушки, и мужчины тяготеют к тому, чтобы отражаться в других персонажах, и все они образуют целые гирлянды сходств и подобий. Даже такое трагическое событие, как 11 сентября 2001 года, рассматривается в контексте близнечного мифа, потому что гибнут башни-близнецы. Сам я тоже Близнец по знаку зодиака, кстати.
Что касается тайны, то будем считать, что это классический роман о неразгаданной тайне. В этом смысле он напоминает, если уж искать аналогии в мире детектива, попытку Диккенса написать детективное произведение «Тайна Эдвина Друда», по которому был снят великолепный советский сериал в стиле вязкого брежневского, бесконечного, что называется, Endless story. В данном случае используется этот прием, позаимствованный из брежневизма, потому что в общем-то непонятно, как это все разгадать. А любители разгадывать загадки могут здесь поймать гигантский кайф и создать очень интересные версии, возможно даже и попадающие в нужные точки.
КМ: Недавно ты закончил новый роман в мемуарной форме, который должен выйти этим летом в издательстве «Артгид». Чему он посвящен? И связан ли он с темами со «Странствием по таборам и монастырям»?
ПП: Эти мемуары некоторыми кусками пересекаются со «Странствием...». В частности, там есть чуть-чуть видоизмененный кусок про девяностые, описывающий заседание «нейропроходцев» в мастерской Кабакова, а также кусок про Казантип. Но это именно роман, а не просто воспоминания, там происходит некое «мерцание» между реальным и вымышленным. Заканчивается все описанием несуществующего в реальности фильма.
Этот роман пронизан некой второй реальностью, которая здесь является кинематографической. Параллельные реальности представляют собой неосуществленные, неснятые фильмы, которые проступают сквозь реальные события. Тем не менее подробно описаны конец восьмидесятых и первая половина девяностых, есть какие-то куски из нулевых. Более раннему этапу, родителям и детству надо бы посвятить совершенно отдельную книгу. Если серьезно взяться за описание собственной жизни, то придется написать больше раз в пять, как минимум. Когда начинаешь описывать жизнь, сталкиваешься с полной бесконечностью, необозримостью. Как правильно сказал не помню кто, для того чтобы описать всю свою жизнь, нужно посвятить всю свою жизнь этому описанию.
ПП: Да, можно сказать, что это и роман о близнецах, о близнечном мифе и об отражениях. Именно поэтому мне очень нравится обложка романа, созданная дизайнером «Носорога», которая представляет собой такое мутное зеркальце, где каждый может отразиться и увидеть себя на обложке, но при этом очень смутно и смазано. В общем-то этот роман — о таких смутных отражениях, которыми отчасти мы сами для себя являемся. Многие персонажи романа раздваиваются в нашем созерцании и обладают братьями или сестрами близнецами. И девушки, и мужчины тяготеют к тому, чтобы отражаться в других персонажах, и все они образуют целые гирлянды сходств и подобий. Даже такое трагическое событие, как 11 сентября 2001 года, рассматривается в контексте близнечного мифа, потому что гибнут башни-близнецы. Сам я тоже Близнец по знаку зодиака, кстати.
Что касается тайны, то будем считать, что это классический роман о неразгаданной тайне. В этом смысле он напоминает, если уж искать аналогии в мире детектива, попытку Диккенса написать детективное произведение «Тайна Эдвина Друда», по которому был снят великолепный советский сериал в стиле вязкого брежневского, бесконечного, что называется, Endless story. В данном случае используется этот прием, позаимствованный из брежневизма, потому что в общем-то непонятно, как это все разгадать. А любители разгадывать загадки могут здесь поймать гигантский кайф и создать очень интересные версии, возможно даже и попадающие в нужные точки.
КМ: Недавно ты закончил новый роман в мемуарной форме, который должен выйти этим летом в издательстве «Артгид». Чему он посвящен? И связан ли он с темами со «Странствием по таборам и монастырям»?
ПП: Эти мемуары некоторыми кусками пересекаются со «Странствием...». В частности, там есть чуть-чуть видоизмененный кусок про девяностые, описывающий заседание «нейропроходцев» в мастерской Кабакова, а также кусок про Казантип. Но это именно роман, а не просто воспоминания, там происходит некое «мерцание» между реальным и вымышленным. Заканчивается все описанием несуществующего в реальности фильма.
Этот роман пронизан некой второй реальностью, которая здесь является кинематографической. Параллельные реальности представляют собой неосуществленные, неснятые фильмы, которые проступают сквозь реальные события. Тем не менее подробно описаны конец восьмидесятых и первая половина девяностых, есть какие-то куски из нулевых. Более раннему этапу, родителям и детству надо бы посвятить совершенно отдельную книгу. Если серьезно взяться за описание собственной жизни, то придется написать больше раз в пять, как минимум. Когда начинаешь описывать жизнь, сталкиваешься с полной бесконечностью, необозримостью. Как правильно сказал не помню кто, для того чтобы описать всю свою жизнь, нужно посвятить всю свою жизнь этому описанию.
вас может заинтересовать
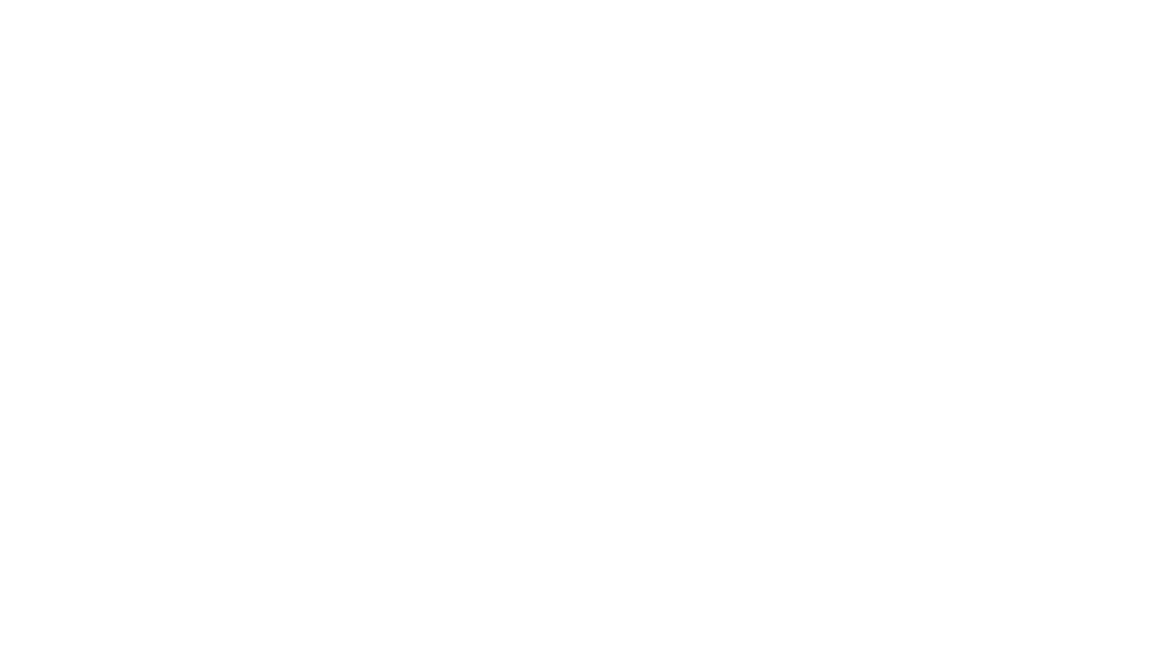
Трофей, атрибут и сувенир
Публикуем беседу Кати Морозовой с писателем и художником Павлом Пепперштейном, посвященную комментариям к его новому роману «Странствие по таборам и монастырям».
Катя Морозова: Давай начнем с небольшой провокации. Сорокин однажды так охарактеризовал твои тексты: «Он стоит в литературе одной ногой, так как наполовину художник. Поэтому иногда и пишет этой самой левой ногой. Как стилиста меня подобное иногда коробит. У Паши просто физически не хватает усидчивости: некоторые тексты начинаются блестяще, к середине он устает, начинает позевывать, к концу просто теряет интерес к тексту. В „МЛК" ("Мифогенная любовь каст". — примеч. ред.) Сережа Ануфриев его стимулировал, колол в жопу, не давал дремать. В одиночестве Паша способен порождать стремительно дряхлеющие тексты. В начале задорная мальчишеская мастурбация, в конце — выпадение вставной челюсти. Это и есть „метод Пепперштейна"». Что бы ты ответил на это?
Павел Пепперштейн: Могу сказать, что это одно из моих самых любимых высказываний о моем творчестве. Хотя какие-то интонации и аспекты этого высказывания дают понять, что автор мыслил его как критическое, но я воспринимаю его как комплиментарное. Описание текста как «стремительно дряхлеющего» на глазах и начинающегося как бодрое подростковое дрочилово, а кончающегося выпадением вставной челюсти на пол мне кажется идеальной метафорой человеческого существования. И, соответственно, идеальной метафорой существования текста.
КМ: Значит это и есть «метод Пепперштейна»?
ПП: Я никогда не думал об этом как о методе. Скорее, я бы назвал это словом «прием». Он иногда применяется, иногда нет. Как каждый прием, который применяется часто, иногда становится следствием привычки. В любом случае хочу сказать дорогому и любимому Владимиру Георгиевичу спасибо за такое прекрасное высказывание, обогатившее гипотетический сборник высказываний одних авторов о других чудесным перлом.
КМ: Как строится «Странствие по таборам и монастырям»?
ПП: Один из приемов — сквозные повествования, которые переходят из книги в книгу. Не только персонажи, но целые куски текста, а иногда целые главы. Таким образом, эти странствующие фрагменты текста фигурируют как некие рэдимейды — или в этом случае лучше употребить слово «артефакты». Один из важных элементов моего метода — это восприятие текста как артефакта.
В свое время, еще в «Медгерменевтике», в «теоретический» период своего творчества, я описал три вида артефактов: трофей, атрибут, сувенир. Мы разрабатывали тогда с Сергеем Ануфриевым довольно детализованную терминологию, затрагивающую литературные практики и практики, связанные с визуальным искусством. Между тремя типами артефактов происходит некое «мерцание». Один тип, как я уже сказал, — это трофей. Трофеем может быть объект: текст или, например, рисунок, который вынесен из, условно говоря, некоего путешествия в запредельное, в другой мир или из какого-то измененного состояния сознания: сновидения или трипа.
Трофей часто дополняется другим типом артефакта — атрибутом. Это тоже может быть текст или опять же предмет. Здесь можно вспомнить старинные изображения святых, когда каждый святой наделялся неким атрибутом, и этот атрибут становился частью иконографического облика данного святого. В случае, если святой был мучеником, атрибутом этого святого или святой становились орудия его мучения, например, колесо с зубьями святой Екатерины. По-другому формируется иконография буддистских святых, среди которых мучеников нет. В основном здесь атрибутами становятся предметы силы, как сказал бы кастанедовский Дон Хуан. То есть иконографические сгустки, которые визуализируют или натурализуют тот тип духовной практики, с которыми имел дело данный святой. Например, цветущий лотос, или несгорающее колесо, или животное-спутник. Текст тоже может присваивать себе статус атрибута, который, как некая геральдика, становится обозначением либо определенного момента во времени, либо какой-то практики — внутренней или внешней. То есть это тайная номенклатура текста, которая, может быть, и не видна читателю, но она присутствует.
И, наконец, третий тип текстуального артефакта — это сувенир, который призван впитать в себя какое-то мгновение или какое-то конкретное переживание и стать порталом возврата внутрь этого переживания, то есть это некая кнопка для time travel. Переживание может быть религиозным, сексуальным, мистическим...
КМ: А каким типом переживания можно назвать роман в целом?
ПП: Этот роман связан с определенным периодом моей жизни, который я так и обозначил для себя — путешествие по таборам и монастырям. Это был скитальческий период. Жизнь постоянно забрасывала меня в различные, как сейчас принято говорить, кластеры. Причем я там не растворялся, не становился в них своим. Мой статус менялся: иногда я бывал гостем, иногда я бывал просто свидетелем. Но почему-то меня очень впечатляли эти переходы от одного сообщества к другому, изучение их внутренней жизни, их структуры вкупе с их локальной идеологией, а также с особенностями, которые диктовались тем местом, где эти кластеры располагались. Можно сказать, что это такое скрытое автобиографическое повествование. Многое из того, что описано, действительно со мной происходило. Сначала, например, рассказывается о приезде на съемки фильма «Дау» Ильи Хржановского — достаточно подробно и реалистично, пока не начинается детективный замут и не происходит убийство режиссера.
КМ: Хржановский в курсе, что его убивают на страницах романа?
ПП: Не помню, говорил я ему об этом или нет. На этих съемках я провел всего один день, который и описан в романе. Хржановский пригласил меня поучаствовать, но я в ужасе сбежал вечером того же дня.
КМ: А что тебя больше всего там ужаснуло?
ПП: It's not my cup of tea. Клаустрофобический аттракцион на любителя, но точно не на мой вкус. Все, что там происходило, я довольно педантично описал. Все эти наезды со стороны каких-то кагэбэшников, которые изображали других кагэбэшников... Какая-то странная пьяная декадентская атмосфера, которая никак не ассоциировалась в моем сознании с просветленным образом советского научного института шестидесятых годов. И вообще повеяло чем-то таким в духе перестроечного кино — я его никогда не переваривал. По контрасту с этим описан Казантип. То есть, напротив, любимое мною мероприятие, куда я ездил каждое лето в течение более десяти лет. В романе есть и сам рейв, и замок, выстроенный моим другом Севой из города Токсово, где я всегда жил на Казантипе. Я скорблю о том, что этого больше не происходит, мне этого очень не хватает. Еще в романе описан арт-мир, который мне тоже хорошо известен. Действие разворачивается в Лондоне, в галерее Тейт.
КМ: С арт-кластером ведь связана еще одна детективная линия в сюжете. Расскажи о важности детективного жанра для этого романа.
ПП: Художники братья Чепмен становятся жертвой отравления, но вся детективная линия, как принято в таких случаях говорить, шита белыми нитками. Детективная часть представляет собой не пародию, но некую тотальную небрежность. Как будто человек вообразил себя детективным писателем, но не только таким не является, но даже толком не понимает, в чем вообще состоит специфика этого жанра. И это, конечно, тоже часть метода — проваливание всех жанров, за счет чего осуществляется слайдинг между ними. И в то же время происходит исследование неких краевых возможностей, которые скрываются в этих жанрах. Каждый из кластеров обозначает тот или иной литературный жанр, а детектив является связующим элементом. Но связано все специально очень грубо и небрежно. Ведь, как выясняется ближе к концу романа, мы читаем текст, который мечтали написать его героини — юные девушки Рэйчел Марблтон и Эстер Фрост, и им это вроде бы удалось. Они собирались написать сложный «элитарный» роман о Майкле Джексоне. По легенде этот роман написан по-английски, а мы имеем дело с каким-то непонятным переводом, неизвестно кем изготовленным. Это, условно говоря, «элитарный» роман о массовой культуре, о влюбленности в массовую культуру. Героиня влюблена в Майкла Джексона. Почти все персонажи влюблены в те или иные аспекты массовой культуры. То есть перед нами достаточно усложненный и написанный отнюдь не массовым языком роман, воспевающий массовую культуру и любовь к ней.
Павел Пепперштейн: Могу сказать, что это одно из моих самых любимых высказываний о моем творчестве. Хотя какие-то интонации и аспекты этого высказывания дают понять, что автор мыслил его как критическое, но я воспринимаю его как комплиментарное. Описание текста как «стремительно дряхлеющего» на глазах и начинающегося как бодрое подростковое дрочилово, а кончающегося выпадением вставной челюсти на пол мне кажется идеальной метафорой человеческого существования. И, соответственно, идеальной метафорой существования текста.
КМ: Значит это и есть «метод Пепперштейна»?
ПП: Я никогда не думал об этом как о методе. Скорее, я бы назвал это словом «прием». Он иногда применяется, иногда нет. Как каждый прием, который применяется часто, иногда становится следствием привычки. В любом случае хочу сказать дорогому и любимому Владимиру Георгиевичу спасибо за такое прекрасное высказывание, обогатившее гипотетический сборник высказываний одних авторов о других чудесным перлом.
КМ: Как строится «Странствие по таборам и монастырям»?
ПП: Один из приемов — сквозные повествования, которые переходят из книги в книгу. Не только персонажи, но целые куски текста, а иногда целые главы. Таким образом, эти странствующие фрагменты текста фигурируют как некие рэдимейды — или в этом случае лучше употребить слово «артефакты». Один из важных элементов моего метода — это восприятие текста как артефакта.
В свое время, еще в «Медгерменевтике», в «теоретический» период своего творчества, я описал три вида артефактов: трофей, атрибут, сувенир. Мы разрабатывали тогда с Сергеем Ануфриевым довольно детализованную терминологию, затрагивающую литературные практики и практики, связанные с визуальным искусством. Между тремя типами артефактов происходит некое «мерцание». Один тип, как я уже сказал, — это трофей. Трофеем может быть объект: текст или, например, рисунок, который вынесен из, условно говоря, некоего путешествия в запредельное, в другой мир или из какого-то измененного состояния сознания: сновидения или трипа.
Трофей часто дополняется другим типом артефакта — атрибутом. Это тоже может быть текст или опять же предмет. Здесь можно вспомнить старинные изображения святых, когда каждый святой наделялся неким атрибутом, и этот атрибут становился частью иконографического облика данного святого. В случае, если святой был мучеником, атрибутом этого святого или святой становились орудия его мучения, например, колесо с зубьями святой Екатерины. По-другому формируется иконография буддистских святых, среди которых мучеников нет. В основном здесь атрибутами становятся предметы силы, как сказал бы кастанедовский Дон Хуан. То есть иконографические сгустки, которые визуализируют или натурализуют тот тип духовной практики, с которыми имел дело данный святой. Например, цветущий лотос, или несгорающее колесо, или животное-спутник. Текст тоже может присваивать себе статус атрибута, который, как некая геральдика, становится обозначением либо определенного момента во времени, либо какой-то практики — внутренней или внешней. То есть это тайная номенклатура текста, которая, может быть, и не видна читателю, но она присутствует.
И, наконец, третий тип текстуального артефакта — это сувенир, который призван впитать в себя какое-то мгновение или какое-то конкретное переживание и стать порталом возврата внутрь этого переживания, то есть это некая кнопка для time travel. Переживание может быть религиозным, сексуальным, мистическим...
КМ: А каким типом переживания можно назвать роман в целом?
ПП: Этот роман связан с определенным периодом моей жизни, который я так и обозначил для себя — путешествие по таборам и монастырям. Это был скитальческий период. Жизнь постоянно забрасывала меня в различные, как сейчас принято говорить, кластеры. Причем я там не растворялся, не становился в них своим. Мой статус менялся: иногда я бывал гостем, иногда я бывал просто свидетелем. Но почему-то меня очень впечатляли эти переходы от одного сообщества к другому, изучение их внутренней жизни, их структуры вкупе с их локальной идеологией, а также с особенностями, которые диктовались тем местом, где эти кластеры располагались. Можно сказать, что это такое скрытое автобиографическое повествование. Многое из того, что описано, действительно со мной происходило. Сначала, например, рассказывается о приезде на съемки фильма «Дау» Ильи Хржановского — достаточно подробно и реалистично, пока не начинается детективный замут и не происходит убийство режиссера.
КМ: Хржановский в курсе, что его убивают на страницах романа?
ПП: Не помню, говорил я ему об этом или нет. На этих съемках я провел всего один день, который и описан в романе. Хржановский пригласил меня поучаствовать, но я в ужасе сбежал вечером того же дня.
КМ: А что тебя больше всего там ужаснуло?
ПП: It's not my cup of tea. Клаустрофобический аттракцион на любителя, но точно не на мой вкус. Все, что там происходило, я довольно педантично описал. Все эти наезды со стороны каких-то кагэбэшников, которые изображали других кагэбэшников... Какая-то странная пьяная декадентская атмосфера, которая никак не ассоциировалась в моем сознании с просветленным образом советского научного института шестидесятых годов. И вообще повеяло чем-то таким в духе перестроечного кино — я его никогда не переваривал. По контрасту с этим описан Казантип. То есть, напротив, любимое мною мероприятие, куда я ездил каждое лето в течение более десяти лет. В романе есть и сам рейв, и замок, выстроенный моим другом Севой из города Токсово, где я всегда жил на Казантипе. Я скорблю о том, что этого больше не происходит, мне этого очень не хватает. Еще в романе описан арт-мир, который мне тоже хорошо известен. Действие разворачивается в Лондоне, в галерее Тейт.
КМ: С арт-кластером ведь связана еще одна детективная линия в сюжете. Расскажи о важности детективного жанра для этого романа.
ПП: Художники братья Чепмен становятся жертвой отравления, но вся детективная линия, как принято в таких случаях говорить, шита белыми нитками. Детективная часть представляет собой не пародию, но некую тотальную небрежность. Как будто человек вообразил себя детективным писателем, но не только таким не является, но даже толком не понимает, в чем вообще состоит специфика этого жанра. И это, конечно, тоже часть метода — проваливание всех жанров, за счет чего осуществляется слайдинг между ними. И в то же время происходит исследование неких краевых возможностей, которые скрываются в этих жанрах. Каждый из кластеров обозначает тот или иной литературный жанр, а детектив является связующим элементом. Но связано все специально очень грубо и небрежно. Ведь, как выясняется ближе к концу романа, мы читаем текст, который мечтали написать его героини — юные девушки Рэйчел Марблтон и Эстер Фрост, и им это вроде бы удалось. Они собирались написать сложный «элитарный» роман о Майкле Джексоне. По легенде этот роман написан по-английски, а мы имеем дело с каким-то непонятным переводом, неизвестно кем изготовленным. Это, условно говоря, «элитарный» роман о массовой культуре, о влюбленности в массовую культуру. Героиня влюблена в Майкла Джексона. Почти все персонажи влюблены в те или иные аспекты массовой культуры. То есть перед нами достаточно усложненный и написанный отнюдь не массовым языком роман, воспевающий массовую культуру и любовь к ней.
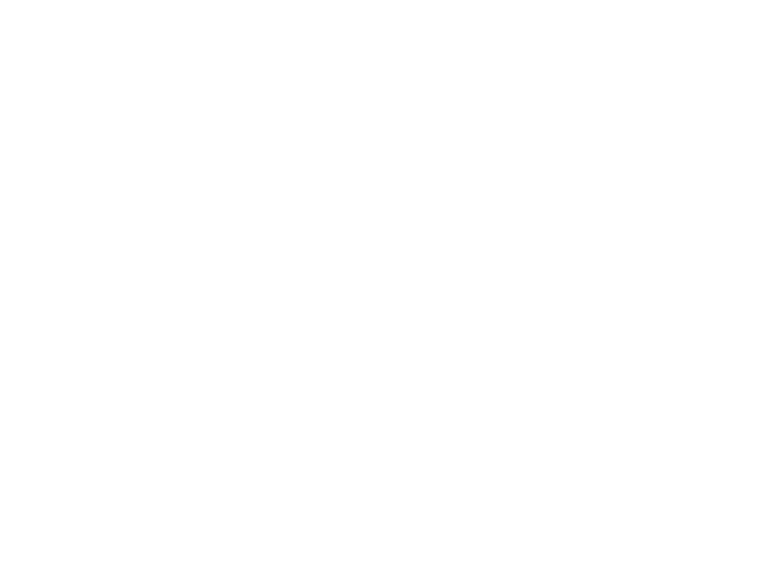
КМ: Сейчас, кажется, даже сама массовая культура исторгает из себя Майкла Джексона. Хотя при этом его преданные фанаты становятся еще более одержимыми.
ПП: Тема Майкла Джексона продолжает бурно развиваться. Хотя Майкл давно умер, миф его не только не гаснет и не теряет актуальности, но даже, наоборот, приобретает какие-то полемические заострения. То, что происходит сейчас, полезно для дальнейшей устойчивости мифа о Майкле Джексоне. Чтобы миф был устойчивым, он должен обрести многомерность, иначе говоря должны появиться джексонофилы и джексонофобы. Меня в случае с Джексоном не волнует Майкл Джексон как реальный человек, его взаимоотношения с другими реальными людьми. Меня он интересует как феномен культуры, как симптом. Это персонаж, который затрагивает очень глубинные ассоциативные ряды: Питер Пэн, Крысолов из Гамельна... Человек, который заново создает свое детство, потому что собственное детство у него было украдено. Это отчасти напоминает историю Моцарта, например, ту интерпретацию, которую дает образу Моцарта Милош Форман в фильме «Амадей»: тотальный инфантилизм как следствие украденного детства. Это ребенок, который хочет играть с другими детьми. Он хочет вычеркнуть различия между собой и детьми, и при этом он собирается создать некий рай, оазис, где было бы гарантировано блаженство и были бы приняты неземные нормы. В общем, именно этот персонаж избирается в качестве жертвы, и его в этом качестве торжественно ведут на заклание. Моцартианский миф трансформируется в миф об Иисусе Христе, об Адонисе, об Озирисе, то есть о погибающем и воскресающем боге.
КМ: Джексон в романе присутствует как некая греза, но не как персонаж. Если же говорить о героях, то многие из них имеют реальных прототипов. Расскажи, пожалуйста, о них.
ПП: Подробно описана мастерская Кабакова, наша тусовка медгерменевтов. Мы называли себя в то время нейропроходцами. Часто персонаж создается посредством синтеза нескольких реальных людей. Один из главных героев, Цыганский Царь, обладает многими чертами моего близкого друга Федота (Владимир Федоров, инспектор «Медгерменевтики» — примеч. ред.). Очень многие черты и реалии, с ним связанные, переданы этому персонажу. Например, идея о цыганской спецслужбе или претензии на то, что он якобы является цыганом, хотя ничего цыганского в его внешности и в его генеалогии не прослеживалось. Очень подробно описана квартира Федота в Харькове на площади Восстания. К сожалению, год назад Федота не стало, и поэтому это все приобретает некий печальный оттенок. Но, чем дальше развивается роман, тем меньше в этом персонаже остается от Федота и тем больше в нем проявляется меня самого, наверное.
Что касается Зои Синельниковой, девочки, влюбленной в Майкла Джексона, то у нее тоже имеется реальный прототип — одна моя близкая подруга, которая действительно влюбилась в Майкла Джексона в тот момент, когда она узнала о его смерти. Это очень загадочная история. Она, конечно, в реальности не стала мстительницей за Майкла, но какие-то похожие фантазии у нее были.
Еще там есть Эстер Фрост. Эта героиня во многом вдохновлена тобой и твоей любовью к Венеции. Это образ изысканной девушки-писательницы, которая покидает родину ради того, чтобы поселиться в Венеции. Она воплощает страсть к рафинированной словесности, как и другие героини-девушки, которые все имеют некоторое отношение к литературе. Все повествование в целом просачивается через девичьи образы, что задано в самом начале романа, когда три девушки — русская, англичанка и японка — молодые, красивые, прекрасные, абсолютно волшебные создания, приезжают в Ниццу на симпозиум, на конференцию, посвященную европейской словесности. Так что этот роман посвящен европейской литературе. Эстер Фрост является и твоей однофамилицей, и в тоже время однофамилицей знаменитого американского поэта Роберта Фроста. В общем-то, это соединение двух морозных линий — русской и англоязычной.
ПП: Тема Майкла Джексона продолжает бурно развиваться. Хотя Майкл давно умер, миф его не только не гаснет и не теряет актуальности, но даже, наоборот, приобретает какие-то полемические заострения. То, что происходит сейчас, полезно для дальнейшей устойчивости мифа о Майкле Джексоне. Чтобы миф был устойчивым, он должен обрести многомерность, иначе говоря должны появиться джексонофилы и джексонофобы. Меня в случае с Джексоном не волнует Майкл Джексон как реальный человек, его взаимоотношения с другими реальными людьми. Меня он интересует как феномен культуры, как симптом. Это персонаж, который затрагивает очень глубинные ассоциативные ряды: Питер Пэн, Крысолов из Гамельна... Человек, который заново создает свое детство, потому что собственное детство у него было украдено. Это отчасти напоминает историю Моцарта, например, ту интерпретацию, которую дает образу Моцарта Милош Форман в фильме «Амадей»: тотальный инфантилизм как следствие украденного детства. Это ребенок, который хочет играть с другими детьми. Он хочет вычеркнуть различия между собой и детьми, и при этом он собирается создать некий рай, оазис, где было бы гарантировано блаженство и были бы приняты неземные нормы. В общем, именно этот персонаж избирается в качестве жертвы, и его в этом качестве торжественно ведут на заклание. Моцартианский миф трансформируется в миф об Иисусе Христе, об Адонисе, об Озирисе, то есть о погибающем и воскресающем боге.
КМ: Джексон в романе присутствует как некая греза, но не как персонаж. Если же говорить о героях, то многие из них имеют реальных прототипов. Расскажи, пожалуйста, о них.
ПП: Подробно описана мастерская Кабакова, наша тусовка медгерменевтов. Мы называли себя в то время нейропроходцами. Часто персонаж создается посредством синтеза нескольких реальных людей. Один из главных героев, Цыганский Царь, обладает многими чертами моего близкого друга Федота (Владимир Федоров, инспектор «Медгерменевтики» — примеч. ред.). Очень многие черты и реалии, с ним связанные, переданы этому персонажу. Например, идея о цыганской спецслужбе или претензии на то, что он якобы является цыганом, хотя ничего цыганского в его внешности и в его генеалогии не прослеживалось. Очень подробно описана квартира Федота в Харькове на площади Восстания. К сожалению, год назад Федота не стало, и поэтому это все приобретает некий печальный оттенок. Но, чем дальше развивается роман, тем меньше в этом персонаже остается от Федота и тем больше в нем проявляется меня самого, наверное.
Что касается Зои Синельниковой, девочки, влюбленной в Майкла Джексона, то у нее тоже имеется реальный прототип — одна моя близкая подруга, которая действительно влюбилась в Майкла Джексона в тот момент, когда она узнала о его смерти. Это очень загадочная история. Она, конечно, в реальности не стала мстительницей за Майкла, но какие-то похожие фантазии у нее были.
Еще там есть Эстер Фрост. Эта героиня во многом вдохновлена тобой и твоей любовью к Венеции. Это образ изысканной девушки-писательницы, которая покидает родину ради того, чтобы поселиться в Венеции. Она воплощает страсть к рафинированной словесности, как и другие героини-девушки, которые все имеют некоторое отношение к литературе. Все повествование в целом просачивается через девичьи образы, что задано в самом начале романа, когда три девушки — русская, англичанка и японка — молодые, красивые, прекрасные, абсолютно волшебные создания, приезжают в Ниццу на симпозиум, на конференцию, посвященную европейской словесности. Так что этот роман посвящен европейской литературе. Эстер Фрост является и твоей однофамилицей, и в тоже время однофамилицей знаменитого американского поэта Роберта Фроста. В общем-то, это соединение двух морозных линий — русской и англоязычной.
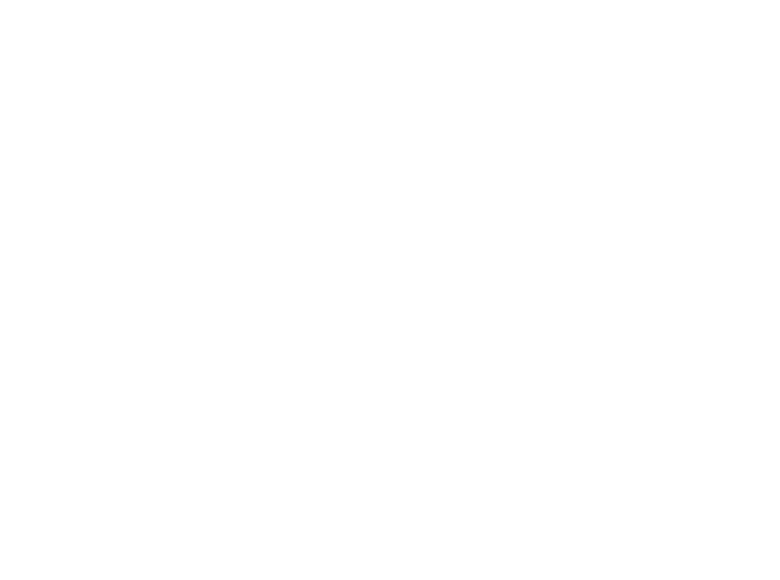
КМ: Ты говоришь о девичьих образах, но кажется, что для романа едва ли не важнейшим становится образ близнецов, окутанных некоторой таинственностью. Как и весь роман в целом, ведь «детективный замут» остается нераспутанным.
ПП: Да, можно сказать, что это и роман о близнецах, о близнечном мифе и об отражениях. Именно поэтому мне очень нравится обложка романа, созданная дизайнером «Носорога», которая представляет собой такое мутное зеркальце, где каждый может отразиться и увидеть себя на обложке, но при этом очень смутно и смазано. В общем-то этот роман — о таких смутных отражениях, которыми отчасти мы сами для себя являемся. Многие персонажи романа раздваиваются в нашем созерцании и обладают братьями или сестрами близнецами. И девушки, и мужчины тяготеют к тому, чтобы отражаться в других персонажах, и все они образуют целые гирлянды сходств и подобий. Даже такое трагическое событие, как 11 сентября 2001 года, рассматривается в контексте близнечного мифа, потому что гибнут башни-близнецы. Сам я тоже Близнец по знаку зодиака, кстати.
Что касается тайны, то будем считать, что это классический роман о неразгаданной тайне. В этом смысле он напоминает, если уж искать аналогии в мире детектива, попытку Диккенса написать детективное произведение «Тайна Эдвина Друда», по которому был снят великолепный советский сериал в стиле вязкого брежневского, бесконечного, что называется, Endless story. В данном случае используется этот прием, позаимствованный из брежневизма, потому что в общем-то непонятно, как это все разгадать. А любители разгадывать загадки могут здесь поймать гигантский кайф и создать очень интересные версии, возможно даже и попадающие в нужные точки.
КМ: Недавно ты закончил новый роман в мемуарной форме, который должен выйти этим летом в издательстве «Артгид». Чему он посвящен? И связан ли он с темами со «Странствием по таборам и монастырям»?
ПП: Эти мемуары некоторыми кусками пересекаются со «Странствием...». В частности, там есть чуть-чуть видоизмененный кусок про девяностые, описывающий заседание «нейропроходцев» в мастерской Кабакова, а также кусок про Казантип. Но это именно роман, а не просто воспоминания, там происходит некое «мерцание» между реальным и вымышленным. Заканчивается все описанием несуществующего в реальности фильма.
Этот роман пронизан некой второй реальностью, которая здесь является кинематографической. Параллельные реальности представляют собой неосуществленные, неснятые фильмы, которые проступают сквозь реальные события. Тем не менее подробно описаны конец восьмидесятых и первая половина девяностых, есть какие-то куски из нулевых. Более раннему этапу, родителям и детству надо бы посвятить совершенно отдельную книгу. Если серьезно взяться за описание собственной жизни, то придется написать больше раз в пять, как минимум. Когда начинаешь описывать жизнь, сталкиваешься с полной бесконечностью, необозримостью. Как правильно сказал не помню кто, для того чтобы описать всю свою жизнь, нужно посвятить всю свою жизнь этому описанию.
ПП: Да, можно сказать, что это и роман о близнецах, о близнечном мифе и об отражениях. Именно поэтому мне очень нравится обложка романа, созданная дизайнером «Носорога», которая представляет собой такое мутное зеркальце, где каждый может отразиться и увидеть себя на обложке, но при этом очень смутно и смазано. В общем-то этот роман — о таких смутных отражениях, которыми отчасти мы сами для себя являемся. Многие персонажи романа раздваиваются в нашем созерцании и обладают братьями или сестрами близнецами. И девушки, и мужчины тяготеют к тому, чтобы отражаться в других персонажах, и все они образуют целые гирлянды сходств и подобий. Даже такое трагическое событие, как 11 сентября 2001 года, рассматривается в контексте близнечного мифа, потому что гибнут башни-близнецы. Сам я тоже Близнец по знаку зодиака, кстати.
Что касается тайны, то будем считать, что это классический роман о неразгаданной тайне. В этом смысле он напоминает, если уж искать аналогии в мире детектива, попытку Диккенса написать детективное произведение «Тайна Эдвина Друда», по которому был снят великолепный советский сериал в стиле вязкого брежневского, бесконечного, что называется, Endless story. В данном случае используется этот прием, позаимствованный из брежневизма, потому что в общем-то непонятно, как это все разгадать. А любители разгадывать загадки могут здесь поймать гигантский кайф и создать очень интересные версии, возможно даже и попадающие в нужные точки.
КМ: Недавно ты закончил новый роман в мемуарной форме, который должен выйти этим летом в издательстве «Артгид». Чему он посвящен? И связан ли он с темами со «Странствием по таборам и монастырям»?
ПП: Эти мемуары некоторыми кусками пересекаются со «Странствием...». В частности, там есть чуть-чуть видоизмененный кусок про девяностые, описывающий заседание «нейропроходцев» в мастерской Кабакова, а также кусок про Казантип. Но это именно роман, а не просто воспоминания, там происходит некое «мерцание» между реальным и вымышленным. Заканчивается все описанием несуществующего в реальности фильма.
Этот роман пронизан некой второй реальностью, которая здесь является кинематографической. Параллельные реальности представляют собой неосуществленные, неснятые фильмы, которые проступают сквозь реальные события. Тем не менее подробно описаны конец восьмидесятых и первая половина девяностых, есть какие-то куски из нулевых. Более раннему этапу, родителям и детству надо бы посвятить совершенно отдельную книгу. Если серьезно взяться за описание собственной жизни, то придется написать больше раз в пять, как минимум. Когда начинаешь описывать жизнь, сталкиваешься с полной бесконечностью, необозримостью. Как правильно сказал не помню кто, для того чтобы описать всю свою жизнь, нужно посвятить всю свою жизнь этому описанию.
вас может заинтересовать

