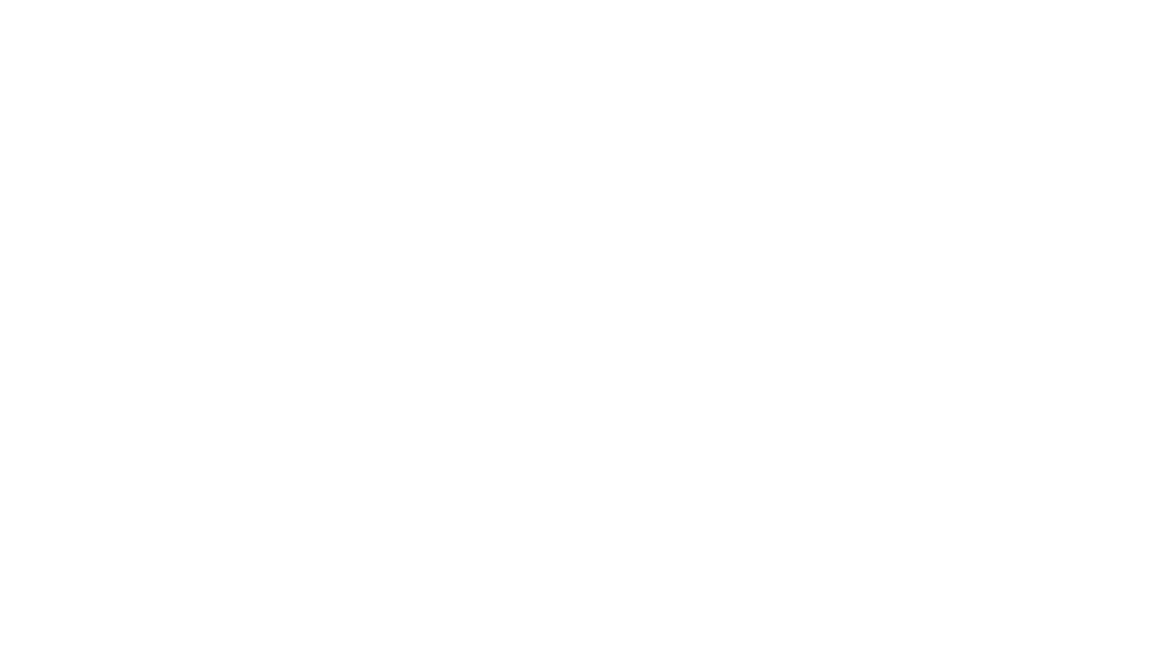
Воздух книжных желаний
«Носорог» продолжает серию разговоров с независимыми издателями, по-прежнему работающими в России, в надежде понять, что происходит с нашей профессиональной деятельностью. Сегодняшний собеседник — поэт и писатель Руслан Комадей, основатель поэтического издательства «Полифем».
Катя Морозова: Расскажи немного об истории издательства. Правильно ли я понимаю, что оно вслед за тобой проделало путь из Екатеринбурга в Москву? Как это влияет на процесс развития? Важно ли издательству пространство, в котором создаются его книги?
Руслан Комадей: Первые книги я издал в 2014 году. Тогда было ощущение пустой издательской среды в Екатеринбурге при состоявшемся поколении 20–30-летних. Они ходили с пустыми книгами. Ощущение незаполненности. Я издал первую книгу на 30-летие своего друга Влада Семенцула, в твердом и мягком переплетах. Подключаешься к событию, обустраиваешь его страницами.
Потом издал Артема Быкова, Егану Джаббарову, Александра Смирнова, Владимира Бекмеметьева — тех, кого ценил в поколении. Попутно учился верстке и выпускал журнал «Здесь» с Кириллом Азёрным. Книги издавали на свои деньги или пополам с авторами, изредка — на крохотные гранты.
Мне нравилась разность книг — разные оформители, разные форматы, шрифты, издательские искривления. Здесь нумерация страниц плывет так, а здесь она прячется в углах, а здесь пасхалка для автора, а здесь скрытый знак внимания. Мы немножко разговаривали с помощью изданного.
Года с 2017-го я стал сотрудничать с «Медленными» книгами, и уральское тоже утекло в Москву. Новых авторов в Екатеринбурге не появлялось. Уже в следующем году, когда местные книги не плодоносили, я обмолвился в разговоре с Александром Улановым, что люблю Кларка Кулиджа, которого читал только в «Цирке „Олимп“». У него и Александра Фролова было несколько готовых переводов.
Я представил, как эти горстки можно сгрести, подкрепить новыми и сформировать в книгу. Кулидж через супругу легко и без вопросов дал права на все что угодно, прислал новую книжку «Поэт». Я выбрал перекошенный формат толстой обрезанной разделочной доски и добавил в верстку шевелящихся линий — к концу они соприкасались, превращаясь в крест сокровища.
Американская серия «Перемещение» («Transference») была сразу придумана билингвальной. Во-первых, известные мне книги переводов современных поэтов США — книга Майкла Палмера, изданная в Екатеринбурге в 1996-м «Антология современной американской поэзии» да и больше не припомню —не были билингвальными. В этом какая-то скудость. Чувствуешь себя уязвимо от того, что принимаешь за чистую монету. А вдруг это не перевод, а так, интерпретация, буквализм, вариация? И не докажешь же! А если есть билингва и ты глазами перепрыгиваешь с левой кочки на правую и обратно, то равновесие.
Второе — переводная серия ОГИ 2000-х меня завораживала, почти образец для нашей серии. Чудовищно герметичные тексты Деги, Окара, Фуркада, да еще с более герметичными оригиналами на полностью забытом мною к тому времени школьном французском оставляли простор задохнуться. А еще сухой цвет обложек и плотные переплеты отказывающихся разворачиваться страниц. Какое напряжение изданных переводов!
После напечатанного в Екатеринбурге Кулиджа я огляделся и увидел, что некому и читать его особо в городе, не развернуться. Следующих — Розмари Уолдроп, Питера Гиззи (у нас он Джицци), Чарльза Симика — печатал уже в Москве. С помощью наспинных подвигов москвичей, особенно Вадима Банникова и Андрея Черкасова, книги отправлялись и доставлялись читателям. Теперь и я в Москве, и книги в Москве, даже составитель и редактор только что вышедшего избранного Лин Хеджинян Володя Фещенко тоже в Москве.
Книги или движутся навстречу своему месту (как у мандельштамовского письма, запечатанного в бутылку) — оно есть, просто координаты уточняются, — или создают его. Сейчас, по-моему, время создания. Важно удерживать, укреплять хотя бы виртуальные ландшафты и дороги между ними, если действительные разрушаются.
А еще издательству важно ощущать виртуальное пространство фрустрации от неизданных книг. Оно одним образом видится в Екатеринбурге, другим — в Москве, каким-то третьим образом — в городе без мест. В каждом городе не издано что-то свое, точнее чужое.
Руслан Комадей: Первые книги я издал в 2014 году. Тогда было ощущение пустой издательской среды в Екатеринбурге при состоявшемся поколении 20–30-летних. Они ходили с пустыми книгами. Ощущение незаполненности. Я издал первую книгу на 30-летие своего друга Влада Семенцула, в твердом и мягком переплетах. Подключаешься к событию, обустраиваешь его страницами.
Потом издал Артема Быкова, Егану Джаббарову, Александра Смирнова, Владимира Бекмеметьева — тех, кого ценил в поколении. Попутно учился верстке и выпускал журнал «Здесь» с Кириллом Азёрным. Книги издавали на свои деньги или пополам с авторами, изредка — на крохотные гранты.
Мне нравилась разность книг — разные оформители, разные форматы, шрифты, издательские искривления. Здесь нумерация страниц плывет так, а здесь она прячется в углах, а здесь пасхалка для автора, а здесь скрытый знак внимания. Мы немножко разговаривали с помощью изданного.
Года с 2017-го я стал сотрудничать с «Медленными» книгами, и уральское тоже утекло в Москву. Новых авторов в Екатеринбурге не появлялось. Уже в следующем году, когда местные книги не плодоносили, я обмолвился в разговоре с Александром Улановым, что люблю Кларка Кулиджа, которого читал только в «Цирке „Олимп“». У него и Александра Фролова было несколько готовых переводов.
Я представил, как эти горстки можно сгрести, подкрепить новыми и сформировать в книгу. Кулидж через супругу легко и без вопросов дал права на все что угодно, прислал новую книжку «Поэт». Я выбрал перекошенный формат толстой обрезанной разделочной доски и добавил в верстку шевелящихся линий — к концу они соприкасались, превращаясь в крест сокровища.
Американская серия «Перемещение» («Transference») была сразу придумана билингвальной. Во-первых, известные мне книги переводов современных поэтов США — книга Майкла Палмера, изданная в Екатеринбурге в 1996-м «Антология современной американской поэзии» да и больше не припомню —не были билингвальными. В этом какая-то скудость. Чувствуешь себя уязвимо от того, что принимаешь за чистую монету. А вдруг это не перевод, а так, интерпретация, буквализм, вариация? И не докажешь же! А если есть билингва и ты глазами перепрыгиваешь с левой кочки на правую и обратно, то равновесие.
Второе — переводная серия ОГИ 2000-х меня завораживала, почти образец для нашей серии. Чудовищно герметичные тексты Деги, Окара, Фуркада, да еще с более герметичными оригиналами на полностью забытом мною к тому времени школьном французском оставляли простор задохнуться. А еще сухой цвет обложек и плотные переплеты отказывающихся разворачиваться страниц. Какое напряжение изданных переводов!
После напечатанного в Екатеринбурге Кулиджа я огляделся и увидел, что некому и читать его особо в городе, не развернуться. Следующих — Розмари Уолдроп, Питера Гиззи (у нас он Джицци), Чарльза Симика — печатал уже в Москве. С помощью наспинных подвигов москвичей, особенно Вадима Банникова и Андрея Черкасова, книги отправлялись и доставлялись читателям. Теперь и я в Москве, и книги в Москве, даже составитель и редактор только что вышедшего избранного Лин Хеджинян Володя Фещенко тоже в Москве.
Книги или движутся навстречу своему месту (как у мандельштамовского письма, запечатанного в бутылку) — оно есть, просто координаты уточняются, — или создают его. Сейчас, по-моему, время создания. Важно удерживать, укреплять хотя бы виртуальные ландшафты и дороги между ними, если действительные разрушаются.
А еще издательству важно ощущать виртуальное пространство фрустрации от неизданных книг. Оно одним образом видится в Екатеринбурге, другим — в Москве, каким-то третьим образом — в городе без мест. В каждом городе не издано что-то свое, точнее чужое.
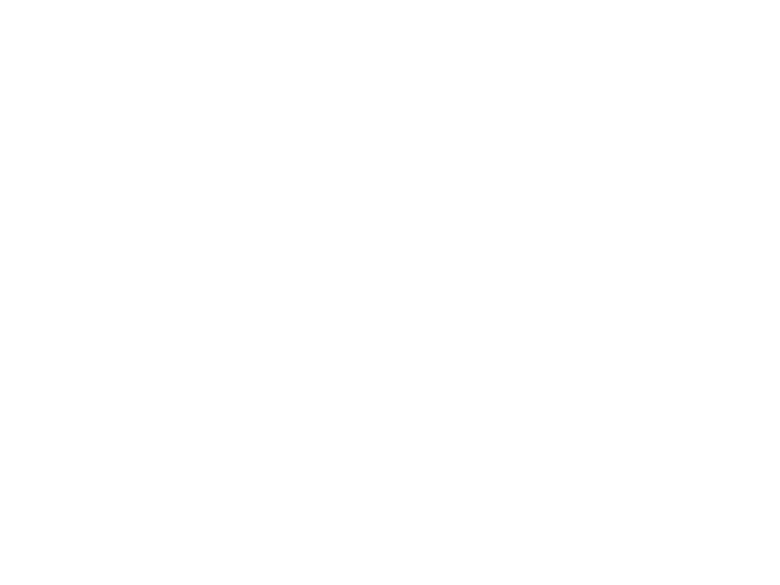
Лин Хеджинян «Слепки движения» и Рэйчел ДюПлесси «Черновик»
КМ: Почему «Полифем»? Куда направлен его взгляд?
РК: Циклоп Полифем совпадает с моим издательским ощущением. Вы схлопываетесь вместе со своими книгами, ваше имя самоуничтожается, и нет надежды, что море, читатели, Посейдон снова откроют Полифему глаза после ослепления.
Второе — его знаменитый диалог с Одиссеем строится на милейшей, и трагической конечно, дискоммуникации, связанной то ли антонимической, то ли метонимической связью. Полифем, как некто, чье имя переводится примерно как «Много Упоминаемый в Песнях», спрашивает у Одиссея имя перед тем, как съесть его. Тот отвечает: «Никто». После ослепления Полифем просит помощи, узнав об обидчике, но никто из коллег-циклопов не помогает, и только отец из воды мстит за него. И вот я представляю слепого одинокого циклопа, окружность острова и обращение во вне.
Разумеется, каннибализм Полифема, его аморальное поведение, нытье и тупость мы оставим в стороне. Нас интересует только отчаяние и коллапс номинаций.
КМ: Как для тебя лично изменились условия работы в России? Можно ли сказать, что стратегии выживания камерного независимого издательства сейчас не сильно отличаются от прежних, довоенных?
РК: Я вот сейчас сижу и жду американских правообладателей. Ответят ли? Дадут ли права? Или… А может, и к лучшему, если не дадут? И вот этот испуг, желание замкнуться усиливается с прошлогоднего февраля-эвфемизма. Бьешь себя по щекам, мол, это, еще же не все потеряно, правда? Еще же можно чуть-чуть поиздавать? И вот тут даже цензура пока не заинтересуется. Или уже заинтересуется? А может, не надо, от греха подальше? И прочий самомусор мыслей.
Прислушивание к собственным ограничениям мышления, действий, внимательность к окружающим, к скользкости, неизбежности, к действиям репрессивной машины — все усиливается. И значение книг изменяется, но как, пока непонятно. Вряд ли это просто аннигиляция. Как будто книга снова может стать угрозой, расшатывающим, но посмотрим. Новый самиздат, новая запрещенка только нарождаются.
На Урале, инициируя преимущественно внеинституциональные проекты без бюджета и ответственности, я привык, что большáя часть процесса завязана только на мне: инициатива, бодрость духа, поиск денег, верстки, издания и дистрибуции. Сейчас, в Москве, с этим стало легче, рукописи предлагают чуть-чуть и далее, о книгах уже немного пишут, немного говорят, помогают распространять и рассказывать, инициируют мероприятия и т. д. Хотя все равно это видится чудом: «Что? Это еще кому-то нужно?» — «Да».
Но в целом я никогда не обольщался. Если ничего не получится, сам дурак, сам циклоп. Поэтому, когда начинаешь, доделываешь, потому что все, начало и конец издания, содержится только в тебе — так, по крайней мере, раньше казалось — и появляется сразу внутри в удерживании образа, как только процесс инициирован.
Мои стратегии выживания — не надеяться на окупаемость, но и не рассчитывать на то, что издать не получится. Будут какие-то деньги — появятся какие-то книги. Будут вокруг меня люди хотеть переводить и радоваться изданному, а я буду с силами — будет жить издательство. И если внимательно вслушиваться в воздух книжных желаний, в нем найдется нечто для продолжения.
РК: Циклоп Полифем совпадает с моим издательским ощущением. Вы схлопываетесь вместе со своими книгами, ваше имя самоуничтожается, и нет надежды, что море, читатели, Посейдон снова откроют Полифему глаза после ослепления.
Второе — его знаменитый диалог с Одиссеем строится на милейшей, и трагической конечно, дискоммуникации, связанной то ли антонимической, то ли метонимической связью. Полифем, как некто, чье имя переводится примерно как «Много Упоминаемый в Песнях», спрашивает у Одиссея имя перед тем, как съесть его. Тот отвечает: «Никто». После ослепления Полифем просит помощи, узнав об обидчике, но никто из коллег-циклопов не помогает, и только отец из воды мстит за него. И вот я представляю слепого одинокого циклопа, окружность острова и обращение во вне.
Разумеется, каннибализм Полифема, его аморальное поведение, нытье и тупость мы оставим в стороне. Нас интересует только отчаяние и коллапс номинаций.
КМ: Как для тебя лично изменились условия работы в России? Можно ли сказать, что стратегии выживания камерного независимого издательства сейчас не сильно отличаются от прежних, довоенных?
РК: Я вот сейчас сижу и жду американских правообладателей. Ответят ли? Дадут ли права? Или… А может, и к лучшему, если не дадут? И вот этот испуг, желание замкнуться усиливается с прошлогоднего февраля-эвфемизма. Бьешь себя по щекам, мол, это, еще же не все потеряно, правда? Еще же можно чуть-чуть поиздавать? И вот тут даже цензура пока не заинтересуется. Или уже заинтересуется? А может, не надо, от греха подальше? И прочий самомусор мыслей.
Прислушивание к собственным ограничениям мышления, действий, внимательность к окружающим, к скользкости, неизбежности, к действиям репрессивной машины — все усиливается. И значение книг изменяется, но как, пока непонятно. Вряд ли это просто аннигиляция. Как будто книга снова может стать угрозой, расшатывающим, но посмотрим. Новый самиздат, новая запрещенка только нарождаются.
На Урале, инициируя преимущественно внеинституциональные проекты без бюджета и ответственности, я привык, что большáя часть процесса завязана только на мне: инициатива, бодрость духа, поиск денег, верстки, издания и дистрибуции. Сейчас, в Москве, с этим стало легче, рукописи предлагают чуть-чуть и далее, о книгах уже немного пишут, немного говорят, помогают распространять и рассказывать, инициируют мероприятия и т. д. Хотя все равно это видится чудом: «Что? Это еще кому-то нужно?» — «Да».
Но в целом я никогда не обольщался. Если ничего не получится, сам дурак, сам циклоп. Поэтому, когда начинаешь, доделываешь, потому что все, начало и конец издания, содержится только в тебе — так, по крайней мере, раньше казалось — и появляется сразу внутри в удерживании образа, как только процесс инициирован.
Мои стратегии выживания — не надеяться на окупаемость, но и не рассчитывать на то, что издать не получится. Будут какие-то деньги — появятся какие-то книги. Будут вокруг меня люди хотеть переводить и радоваться изданному, а я буду с силами — будет жить издательство. И если внимательно вслушиваться в воздух книжных желаний, в нем найдется нечто для продолжения.
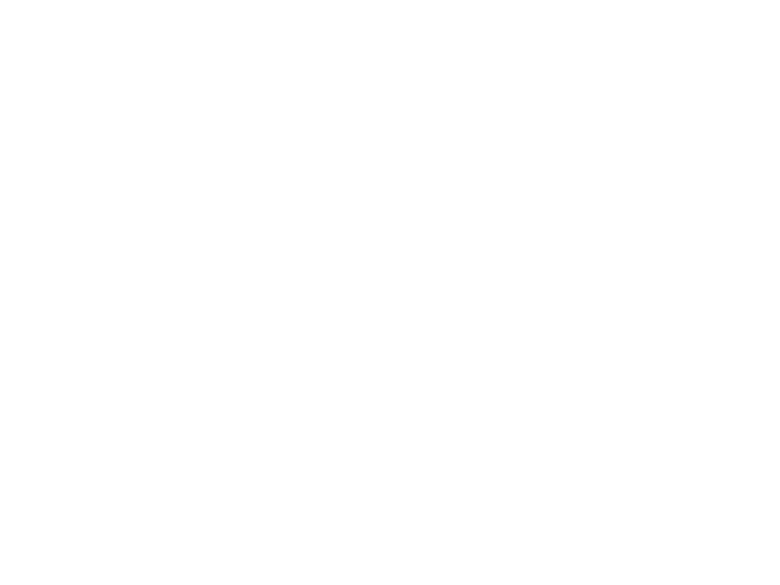
Кларк Кулидж «Меланхолия» и Розмари Уолдроп «Снова найти точное место»
КМ: Нужно ли «Полифему» или другим схожим проектам, существующим внутри и для литературного сообщества, выходить за свои границы? Согласен ли ты в принципе с таким определением издательства?
РК: Наша американская серия «Перемещение», по-моему, именно об этом, о выходе за границы, о перестановке этих границ — хотя бы за границы одного языка и устоявшихся читательских привычек.
Книги — это сложные и странные события, существа, пространства. Если они не будут отличаться друг от друга, разграничиваясь и внутренне что-то обретая соприкосновенное, то будет рутинная, бесконечно расширяющаяся империя серий, ну, по типу эксмошных.
Но, если речь о том, чтобы издательство занималось не только книгами, — конечно. Чем больше медиумов и преломлений, позволяющих проблематизировать издательское, тем лучшее, точнее, живее. Так я делал с журналом «Здесь», превращая свое тело в журнал, презентации его — в смерть и рождение из журнала, порождение букв в журнале как рождение трагедии из Комадея. Но «Полифем» пока более скромен, он даже осознавать себя как издательство только учится. Глаз только что вытек, и слепота кажется всего лишь сном без снов перед восьмичасовым рабочим днем.
КМ: Что для тебя значит быть издателем? Как эта деятельность совмещается с практиками письма? Где у них находятся точки соприкосновения?
РК: В тот момент, когда я перестал быть редактором издаваемых книг (а в первых книгах я довольно много обсуждал с авторами строки, композицию текстов и т. д.), я перестал быть и их читателем. Может ли быть издателем не-читатель? Видимо, да, раз в моем случае издатель — это тот, кто не читает издаваемые книги и получает удовольствие только от процесса издания, от ощущения материальности книг, от воображения их важности.
Так как собственное письмо напрямую связано с чтением, я потерял эту сцепку. Я читаю что-то иное, пишу что-то иное — то, что отчуждено от меня иначе, не через издательскую деятельность. Но я все же лелею мысль, что когда-нибудь прочитаю хоть что-нибудь. Думаю: ну, хорошо, уже вышла даже книга Хеджинян, может пора читать? Но нет, и иду читать что-нибудь из Лимбаха, например.
Если воображать, каким был бы издатель, если бы читал эти книги, да еще и писал попутно, то он бы находился в гигантизме work in progress, мысля движущимися массивами тематических циклов о буквах, отдельных словах, именах, циклах, книгах, билингвальных вариантах одних и тех же книг разных переводчиков. Нейромашины переклеивали бы ярлыки на них, отыскивали структурные сходства, монтировали новые варианты из новейших, старые отдавали бы древним. Потом фолианты нагромождались бы друг на друга внутри гудящих SSD, которые Акакий Издателиевич, слюнявя железо, убирал бы в железные ящички, как в раздевалках, но с надписью «До забвения».
РК: Наша американская серия «Перемещение», по-моему, именно об этом, о выходе за границы, о перестановке этих границ — хотя бы за границы одного языка и устоявшихся читательских привычек.
Книги — это сложные и странные события, существа, пространства. Если они не будут отличаться друг от друга, разграничиваясь и внутренне что-то обретая соприкосновенное, то будет рутинная, бесконечно расширяющаяся империя серий, ну, по типу эксмошных.
Но, если речь о том, чтобы издательство занималось не только книгами, — конечно. Чем больше медиумов и преломлений, позволяющих проблематизировать издательское, тем лучшее, точнее, живее. Так я делал с журналом «Здесь», превращая свое тело в журнал, презентации его — в смерть и рождение из журнала, порождение букв в журнале как рождение трагедии из Комадея. Но «Полифем» пока более скромен, он даже осознавать себя как издательство только учится. Глаз только что вытек, и слепота кажется всего лишь сном без снов перед восьмичасовым рабочим днем.
КМ: Что для тебя значит быть издателем? Как эта деятельность совмещается с практиками письма? Где у них находятся точки соприкосновения?
РК: В тот момент, когда я перестал быть редактором издаваемых книг (а в первых книгах я довольно много обсуждал с авторами строки, композицию текстов и т. д.), я перестал быть и их читателем. Может ли быть издателем не-читатель? Видимо, да, раз в моем случае издатель — это тот, кто не читает издаваемые книги и получает удовольствие только от процесса издания, от ощущения материальности книг, от воображения их важности.
Так как собственное письмо напрямую связано с чтением, я потерял эту сцепку. Я читаю что-то иное, пишу что-то иное — то, что отчуждено от меня иначе, не через издательскую деятельность. Но я все же лелею мысль, что когда-нибудь прочитаю хоть что-нибудь. Думаю: ну, хорошо, уже вышла даже книга Хеджинян, может пора читать? Но нет, и иду читать что-нибудь из Лимбаха, например.
Если воображать, каким был бы издатель, если бы читал эти книги, да еще и писал попутно, то он бы находился в гигантизме work in progress, мысля движущимися массивами тематических циклов о буквах, отдельных словах, именах, циклах, книгах, билингвальных вариантах одних и тех же книг разных переводчиков. Нейромашины переклеивали бы ярлыки на них, отыскивали структурные сходства, монтировали новые варианты из новейших, старые отдавали бы древним. Потом фолианты нагромождались бы друг на друга внутри гудящих SSD, которые Акакий Издателиевич, слюнявя железо, убирал бы в железные ящички, как в раздевалках, но с надписью «До забвения».
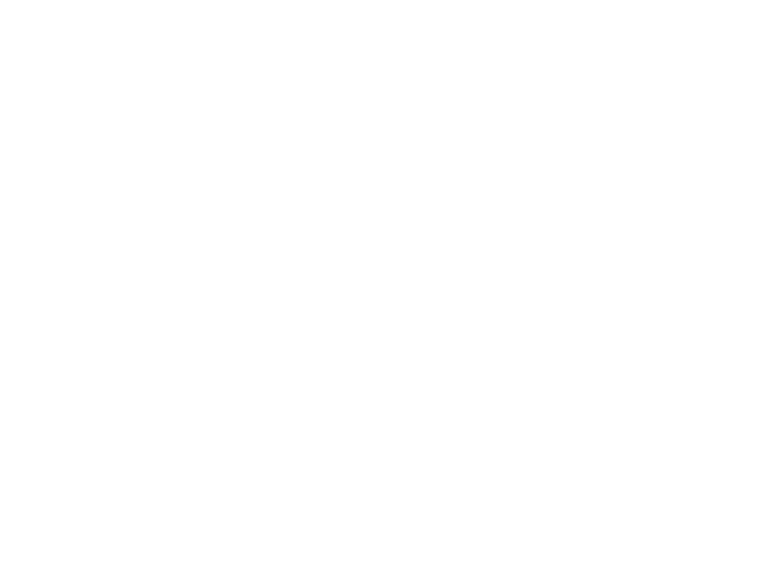
Ослепленный Полифем пытается отомстить — Гвидо Рени, 1639-1640 (Капитолийские музеи)
вас может заинтересовать
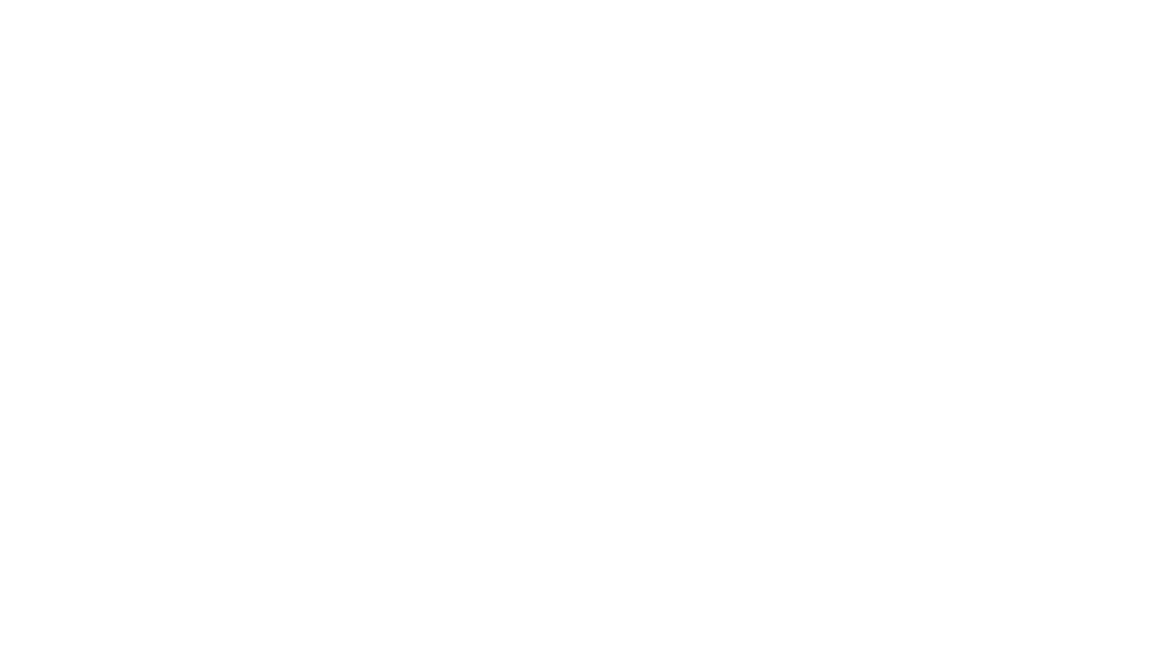
Воздух книжных желаний
«Носорог» продолжает серию разговоров с независимыми издателями, по-прежнему работающими в России, в надежде понять, что происходит с нашей профессиональной деятельностью. Сегодняшний собеседник — поэт и писатель Руслан Комадей, основатель поэтического издательства «Полифем».
Катя Морозова: Расскажи немного об истории издательства. Правильно ли я понимаю, что оно вслед за тобой проделало путь из Екатеринбурга в Москву? Как это влияет на процесс развития? Важно ли издательству пространство, в котором создаются его книги?
Руслан Комадей: Первые книги я издал в 2014 году. Тогда было ощущение пустой издательской среды в Екатеринбурге при состоявшемся поколении 20–30-летних. Они ходили с пустыми книгами. Ощущение незаполненности. Я издал первую книгу на 30-летие своего друга Влада Семенцула, в твердом и мягком переплетах. Подключаешься к событию, обустраиваешь его страницами.
Потом издал Артема Быкова, Егану Джаббарову, Александра Смирнова, Владимира Бекмеметьева — тех, кого ценил в поколении. Попутно учился верстке и выпускал журнал «Здесь» с Кириллом Азёрным. Книги издавали на свои деньги или пополам с авторами, изредка — на крохотные гранты.
Мне нравилась разность книг — разные оформители, разные форматы, шрифты, издательские искривления. Здесь нумерация страниц плывет так, а здесь она прячется в углах, а здесь пасхалка для автора, а здесь скрытый знак внимания. Мы немножко разговаривали с помощью изданного.
Года с 2017-го я стал сотрудничать с «Медленными» книгами, и уральское тоже утекло в Москву. Новых авторов в Екатеринбурге не появлялось. Уже в следующем году, когда местные книги не плодоносили, я обмолвился в разговоре с Александром Улановым, что люблю Кларка Кулиджа, которого читал только в «Цирке „Олимп“». У него и Александра Фролова было несколько готовых переводов.
Я представил, как эти горстки можно сгрести, подкрепить новыми и сформировать в книгу. Кулидж через супругу легко и без вопросов дал права на все что угодно, прислал новую книжку «Поэт». Я выбрал перекошенный формат толстой обрезанной разделочной доски и добавил в верстку шевелящихся линий — к концу они соприкасались, превращаясь в крест сокровища.
Американская серия «Перемещение» («Transference») была сразу придумана билингвальной. Во-первых, известные мне книги переводов современных поэтов США — книга Майкла Палмера, изданная в Екатеринбурге в 1996-м «Антология современной американской поэзии» да и больше не припомню —не были билингвальными. В этом какая-то скудость. Чувствуешь себя уязвимо от того, что принимаешь за чистую монету. А вдруг это не перевод, а так, интерпретация, буквализм, вариация? И не докажешь же! А если есть билингва и ты глазами перепрыгиваешь с левой кочки на правую и обратно, то равновесие.
Второе — переводная серия ОГИ 2000-х меня завораживала, почти образец для нашей серии. Чудовищно герметичные тексты Деги, Окара, Фуркада, да еще с более герметичными оригиналами на полностью забытом мною к тому времени школьном французском оставляли простор задохнуться. А еще сухой цвет обложек и плотные переплеты отказывающихся разворачиваться страниц. Какое напряжение изданных переводов!
После напечатанного в Екатеринбурге Кулиджа я огляделся и увидел, что некому и читать его особо в городе, не развернуться. Следующих — Розмари Уолдроп, Питера Гиззи (у нас он Джицци), Чарльза Симика — печатал уже в Москве. С помощью наспинных подвигов москвичей, особенно Вадима Банникова и Андрея Черкасова, книги отправлялись и доставлялись читателям. Теперь и я в Москве, и книги в Москве, даже составитель и редактор только что вышедшего избранного Лин Хеджинян Володя Фещенко тоже в Москве.
Книги или движутся навстречу своему месту (как у мандельштамовского письма, запечатанного в бутылку) — оно есть, просто координаты уточняются, — или создают его. Сейчас, по-моему, время создания. Важно удерживать, укреплять хотя бы виртуальные ландшафты и дороги между ними, если действительные разрушаются.
А еще издательству важно ощущать виртуальное пространство фрустрации от неизданных книг. Оно одним образом видится в Екатеринбурге, другим — в Москве, каким-то третьим образом — в городе без мест. В каждом городе не издано что-то свое, точнее чужое.
Руслан Комадей: Первые книги я издал в 2014 году. Тогда было ощущение пустой издательской среды в Екатеринбурге при состоявшемся поколении 20–30-летних. Они ходили с пустыми книгами. Ощущение незаполненности. Я издал первую книгу на 30-летие своего друга Влада Семенцула, в твердом и мягком переплетах. Подключаешься к событию, обустраиваешь его страницами.
Потом издал Артема Быкова, Егану Джаббарову, Александра Смирнова, Владимира Бекмеметьева — тех, кого ценил в поколении. Попутно учился верстке и выпускал журнал «Здесь» с Кириллом Азёрным. Книги издавали на свои деньги или пополам с авторами, изредка — на крохотные гранты.
Мне нравилась разность книг — разные оформители, разные форматы, шрифты, издательские искривления. Здесь нумерация страниц плывет так, а здесь она прячется в углах, а здесь пасхалка для автора, а здесь скрытый знак внимания. Мы немножко разговаривали с помощью изданного.
Года с 2017-го я стал сотрудничать с «Медленными» книгами, и уральское тоже утекло в Москву. Новых авторов в Екатеринбурге не появлялось. Уже в следующем году, когда местные книги не плодоносили, я обмолвился в разговоре с Александром Улановым, что люблю Кларка Кулиджа, которого читал только в «Цирке „Олимп“». У него и Александра Фролова было несколько готовых переводов.
Я представил, как эти горстки можно сгрести, подкрепить новыми и сформировать в книгу. Кулидж через супругу легко и без вопросов дал права на все что угодно, прислал новую книжку «Поэт». Я выбрал перекошенный формат толстой обрезанной разделочной доски и добавил в верстку шевелящихся линий — к концу они соприкасались, превращаясь в крест сокровища.
Американская серия «Перемещение» («Transference») была сразу придумана билингвальной. Во-первых, известные мне книги переводов современных поэтов США — книга Майкла Палмера, изданная в Екатеринбурге в 1996-м «Антология современной американской поэзии» да и больше не припомню —не были билингвальными. В этом какая-то скудость. Чувствуешь себя уязвимо от того, что принимаешь за чистую монету. А вдруг это не перевод, а так, интерпретация, буквализм, вариация? И не докажешь же! А если есть билингва и ты глазами перепрыгиваешь с левой кочки на правую и обратно, то равновесие.
Второе — переводная серия ОГИ 2000-х меня завораживала, почти образец для нашей серии. Чудовищно герметичные тексты Деги, Окара, Фуркада, да еще с более герметичными оригиналами на полностью забытом мною к тому времени школьном французском оставляли простор задохнуться. А еще сухой цвет обложек и плотные переплеты отказывающихся разворачиваться страниц. Какое напряжение изданных переводов!
После напечатанного в Екатеринбурге Кулиджа я огляделся и увидел, что некому и читать его особо в городе, не развернуться. Следующих — Розмари Уолдроп, Питера Гиззи (у нас он Джицци), Чарльза Симика — печатал уже в Москве. С помощью наспинных подвигов москвичей, особенно Вадима Банникова и Андрея Черкасова, книги отправлялись и доставлялись читателям. Теперь и я в Москве, и книги в Москве, даже составитель и редактор только что вышедшего избранного Лин Хеджинян Володя Фещенко тоже в Москве.
Книги или движутся навстречу своему месту (как у мандельштамовского письма, запечатанного в бутылку) — оно есть, просто координаты уточняются, — или создают его. Сейчас, по-моему, время создания. Важно удерживать, укреплять хотя бы виртуальные ландшафты и дороги между ними, если действительные разрушаются.
А еще издательству важно ощущать виртуальное пространство фрустрации от неизданных книг. Оно одним образом видится в Екатеринбурге, другим — в Москве, каким-то третьим образом — в городе без мест. В каждом городе не издано что-то свое, точнее чужое.
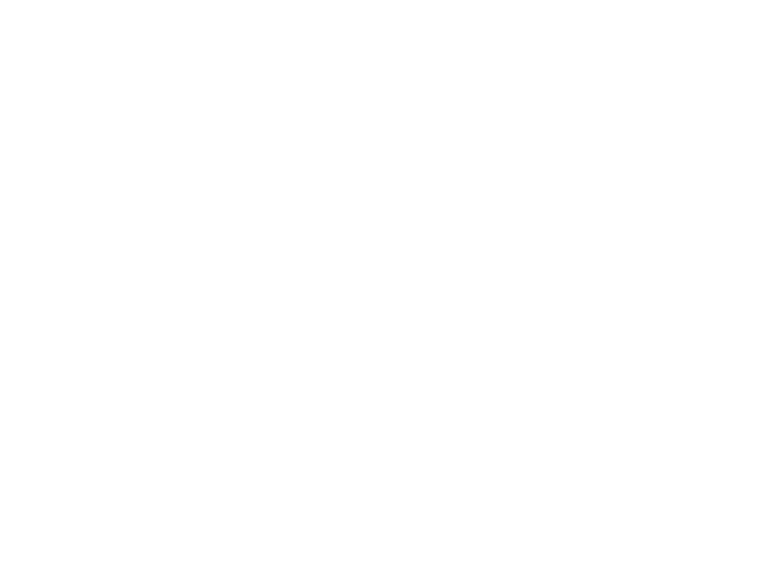
Лин Хеджинян «Слепки движения» и Рэйчел ДюПлесси «Черновик»
КМ: Почему «Полифем»? Куда направлен его взгляд?
РК: Циклоп Полифем совпадает с моим издательским ощущением. Вы схлопываетесь вместе со своими книгами, ваше имя самоуничтожается, и нет надежды, что море, читатели, Посейдон снова откроют Полифему глаза после ослепления.
Второе — его знаменитый диалог с Одиссеем строится на милейшей, и трагической конечно, дискоммуникации, связанной то ли антонимической, то ли метонимической связью. Полифем, как некто, чье имя переводится примерно как «Много Упоминаемый в Песнях», спрашивает у Одиссея имя перед тем, как съесть его. Тот отвечает: «Никто». После ослепления Полифем просит помощи, узнав об обидчике, но никто из коллег-циклопов не помогает, и только отец из воды мстит за него. И вот я представляю слепого одинокого циклопа, окружность острова и обращение во вне.
Разумеется, каннибализм Полифема, его аморальное поведение, нытье и тупость мы оставим в стороне. Нас интересует только отчаяние и коллапс номинаций.
КМ: Как для тебя лично изменились условия работы в России? Можно ли сказать, что стратегии выживания камерного независимого издательства сейчас не сильно отличаются от прежних, довоенных?
РК: Я вот сейчас сижу и жду американских правообладателей. Ответят ли? Дадут ли права? Или… А может, и к лучшему, если не дадут? И вот этот испуг, желание замкнуться усиливается с прошлогоднего февраля-эвфемизма. Бьешь себя по щекам, мол, это, еще же не все потеряно, правда? Еще же можно чуть-чуть поиздавать? И вот тут даже цензура пока не заинтересуется. Или уже заинтересуется? А может, не надо, от греха подальше? И прочий самомусор мыслей.
Прислушивание к собственным ограничениям мышления, действий, внимательность к окружающим, к скользкости, неизбежности, к действиям репрессивной машины — все усиливается. И значение книг изменяется, но как, пока непонятно. Вряд ли это просто аннигиляция. Как будто книга снова может стать угрозой, расшатывающим, но посмотрим. Новый самиздат, новая запрещенка только нарождаются.
На Урале, инициируя преимущественно внеинституциональные проекты без бюджета и ответственности, я привык, что большáя часть процесса завязана только на мне: инициатива, бодрость духа, поиск денег, верстки, издания и дистрибуции. Сейчас, в Москве, с этим стало легче, рукописи предлагают чуть-чуть и далее, о книгах уже немного пишут, немного говорят, помогают распространять и рассказывать, инициируют мероприятия и т. д. Хотя все равно это видится чудом: «Что? Это еще кому-то нужно?» — «Да».
Но в целом я никогда не обольщался. Если ничего не получится, сам дурак, сам циклоп. Поэтому, когда начинаешь, доделываешь, потому что все, начало и конец издания, содержится только в тебе — так, по крайней мере, раньше казалось — и появляется сразу внутри в удерживании образа, как только процесс инициирован.
Мои стратегии выживания — не надеяться на окупаемость, но и не рассчитывать на то, что издать не получится. Будут какие-то деньги — появятся какие-то книги. Будут вокруг меня люди хотеть переводить и радоваться изданному, а я буду с силами — будет жить издательство. И если внимательно вслушиваться в воздух книжных желаний, в нем найдется нечто для продолжения.
РК: Циклоп Полифем совпадает с моим издательским ощущением. Вы схлопываетесь вместе со своими книгами, ваше имя самоуничтожается, и нет надежды, что море, читатели, Посейдон снова откроют Полифему глаза после ослепления.
Второе — его знаменитый диалог с Одиссеем строится на милейшей, и трагической конечно, дискоммуникации, связанной то ли антонимической, то ли метонимической связью. Полифем, как некто, чье имя переводится примерно как «Много Упоминаемый в Песнях», спрашивает у Одиссея имя перед тем, как съесть его. Тот отвечает: «Никто». После ослепления Полифем просит помощи, узнав об обидчике, но никто из коллег-циклопов не помогает, и только отец из воды мстит за него. И вот я представляю слепого одинокого циклопа, окружность острова и обращение во вне.
Разумеется, каннибализм Полифема, его аморальное поведение, нытье и тупость мы оставим в стороне. Нас интересует только отчаяние и коллапс номинаций.
КМ: Как для тебя лично изменились условия работы в России? Можно ли сказать, что стратегии выживания камерного независимого издательства сейчас не сильно отличаются от прежних, довоенных?
РК: Я вот сейчас сижу и жду американских правообладателей. Ответят ли? Дадут ли права? Или… А может, и к лучшему, если не дадут? И вот этот испуг, желание замкнуться усиливается с прошлогоднего февраля-эвфемизма. Бьешь себя по щекам, мол, это, еще же не все потеряно, правда? Еще же можно чуть-чуть поиздавать? И вот тут даже цензура пока не заинтересуется. Или уже заинтересуется? А может, не надо, от греха подальше? И прочий самомусор мыслей.
Прислушивание к собственным ограничениям мышления, действий, внимательность к окружающим, к скользкости, неизбежности, к действиям репрессивной машины — все усиливается. И значение книг изменяется, но как, пока непонятно. Вряд ли это просто аннигиляция. Как будто книга снова может стать угрозой, расшатывающим, но посмотрим. Новый самиздат, новая запрещенка только нарождаются.
На Урале, инициируя преимущественно внеинституциональные проекты без бюджета и ответственности, я привык, что большáя часть процесса завязана только на мне: инициатива, бодрость духа, поиск денег, верстки, издания и дистрибуции. Сейчас, в Москве, с этим стало легче, рукописи предлагают чуть-чуть и далее, о книгах уже немного пишут, немного говорят, помогают распространять и рассказывать, инициируют мероприятия и т. д. Хотя все равно это видится чудом: «Что? Это еще кому-то нужно?» — «Да».
Но в целом я никогда не обольщался. Если ничего не получится, сам дурак, сам циклоп. Поэтому, когда начинаешь, доделываешь, потому что все, начало и конец издания, содержится только в тебе — так, по крайней мере, раньше казалось — и появляется сразу внутри в удерживании образа, как только процесс инициирован.
Мои стратегии выживания — не надеяться на окупаемость, но и не рассчитывать на то, что издать не получится. Будут какие-то деньги — появятся какие-то книги. Будут вокруг меня люди хотеть переводить и радоваться изданному, а я буду с силами — будет жить издательство. И если внимательно вслушиваться в воздух книжных желаний, в нем найдется нечто для продолжения.
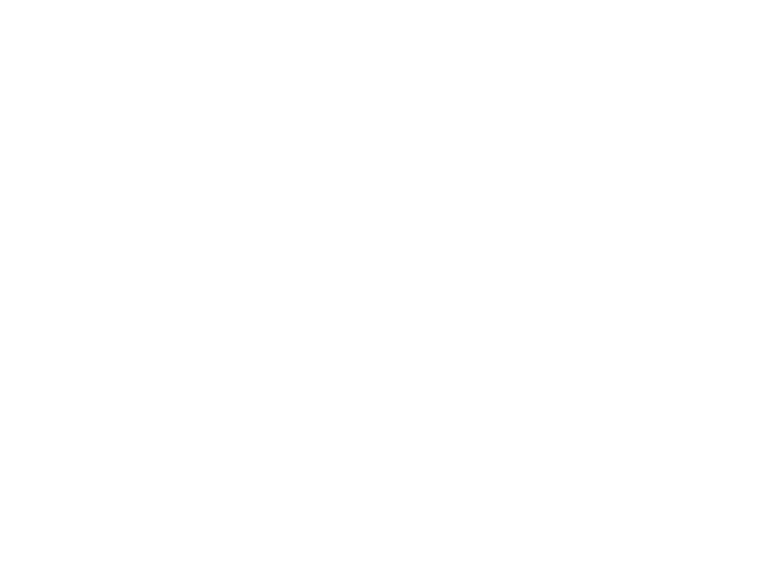
Кларк Кулидж «Меланхолия» и Розмари Уолдроп «Снова найти точное место»
КМ: Нужно ли «Полифему» или другим схожим проектам, существующим внутри и для литературного сообщества, выходить за свои границы? Согласен ли ты в принципе с таким определением издательства?
РК: Наша американская серия «Перемещение», по-моему, именно об этом, о выходе за границы, о перестановке этих границ — хотя бы за границы одного языка и устоявшихся читательских привычек.
Книги — это сложные и странные события, существа, пространства. Если они не будут отличаться друг от друга, разграничиваясь и внутренне что-то обретая соприкосновенное, то будет рутинная, бесконечно расширяющаяся империя серий, ну, по типу эксмошных.
Но, если речь о том, чтобы издательство занималось не только книгами, — конечно. Чем больше медиумов и преломлений, позволяющих проблематизировать издательское, тем лучшее, точнее, живее. Так я делал с журналом «Здесь», превращая свое тело в журнал, презентации его — в смерть и рождение из журнала, порождение букв в журнале как рождение трагедии из Комадея. Но «Полифем» пока более скромен, он даже осознавать себя как издательство только учится. Глаз только что вытек, и слепота кажется всего лишь сном без снов перед восьмичасовым рабочим днем.
КМ: Что для тебя значит быть издателем? Как эта деятельность совмещается с практиками письма? Где у них находятся точки соприкосновения?
РК: В тот момент, когда я перестал быть редактором издаваемых книг (а в первых книгах я довольно много обсуждал с авторами строки, композицию текстов и т. д.), я перестал быть и их читателем. Может ли быть издателем не-читатель? Видимо, да, раз в моем случае издатель — это тот, кто не читает издаваемые книги и получает удовольствие только от процесса издания, от ощущения материальности книг, от воображения их важности.
Так как собственное письмо напрямую связано с чтением, я потерял эту сцепку. Я читаю что-то иное, пишу что-то иное — то, что отчуждено от меня иначе, не через издательскую деятельность. Но я все же лелею мысль, что когда-нибудь прочитаю хоть что-нибудь. Думаю: ну, хорошо, уже вышла даже книга Хеджинян, может пора читать? Но нет, и иду читать что-нибудь из Лимбаха, например.
Если воображать, каким был бы издатель, если бы читал эти книги, да еще и писал попутно, то он бы находился в гигантизме work in progress, мысля движущимися массивами тематических циклов о буквах, отдельных словах, именах, циклах, книгах, билингвальных вариантах одних и тех же книг разных переводчиков. Нейромашины переклеивали бы ярлыки на них, отыскивали структурные сходства, монтировали новые варианты из новейших, старые отдавали бы древним. Потом фолианты нагромождались бы друг на друга внутри гудящих SSD, которые Акакий Издателиевич, слюнявя железо, убирал бы в железные ящички, как в раздевалках, но с надписью «До забвения».
РК: Наша американская серия «Перемещение», по-моему, именно об этом, о выходе за границы, о перестановке этих границ — хотя бы за границы одного языка и устоявшихся читательских привычек.
Книги — это сложные и странные события, существа, пространства. Если они не будут отличаться друг от друга, разграничиваясь и внутренне что-то обретая соприкосновенное, то будет рутинная, бесконечно расширяющаяся империя серий, ну, по типу эксмошных.
Но, если речь о том, чтобы издательство занималось не только книгами, — конечно. Чем больше медиумов и преломлений, позволяющих проблематизировать издательское, тем лучшее, точнее, живее. Так я делал с журналом «Здесь», превращая свое тело в журнал, презентации его — в смерть и рождение из журнала, порождение букв в журнале как рождение трагедии из Комадея. Но «Полифем» пока более скромен, он даже осознавать себя как издательство только учится. Глаз только что вытек, и слепота кажется всего лишь сном без снов перед восьмичасовым рабочим днем.
КМ: Что для тебя значит быть издателем? Как эта деятельность совмещается с практиками письма? Где у них находятся точки соприкосновения?
РК: В тот момент, когда я перестал быть редактором издаваемых книг (а в первых книгах я довольно много обсуждал с авторами строки, композицию текстов и т. д.), я перестал быть и их читателем. Может ли быть издателем не-читатель? Видимо, да, раз в моем случае издатель — это тот, кто не читает издаваемые книги и получает удовольствие только от процесса издания, от ощущения материальности книг, от воображения их важности.
Так как собственное письмо напрямую связано с чтением, я потерял эту сцепку. Я читаю что-то иное, пишу что-то иное — то, что отчуждено от меня иначе, не через издательскую деятельность. Но я все же лелею мысль, что когда-нибудь прочитаю хоть что-нибудь. Думаю: ну, хорошо, уже вышла даже книга Хеджинян, может пора читать? Но нет, и иду читать что-нибудь из Лимбаха, например.
Если воображать, каким был бы издатель, если бы читал эти книги, да еще и писал попутно, то он бы находился в гигантизме work in progress, мысля движущимися массивами тематических циклов о буквах, отдельных словах, именах, циклах, книгах, билингвальных вариантах одних и тех же книг разных переводчиков. Нейромашины переклеивали бы ярлыки на них, отыскивали структурные сходства, монтировали новые варианты из новейших, старые отдавали бы древним. Потом фолианты нагромождались бы друг на друга внутри гудящих SSD, которые Акакий Издателиевич, слюнявя железо, убирал бы в железные ящички, как в раздевалках, но с надписью «До забвения».
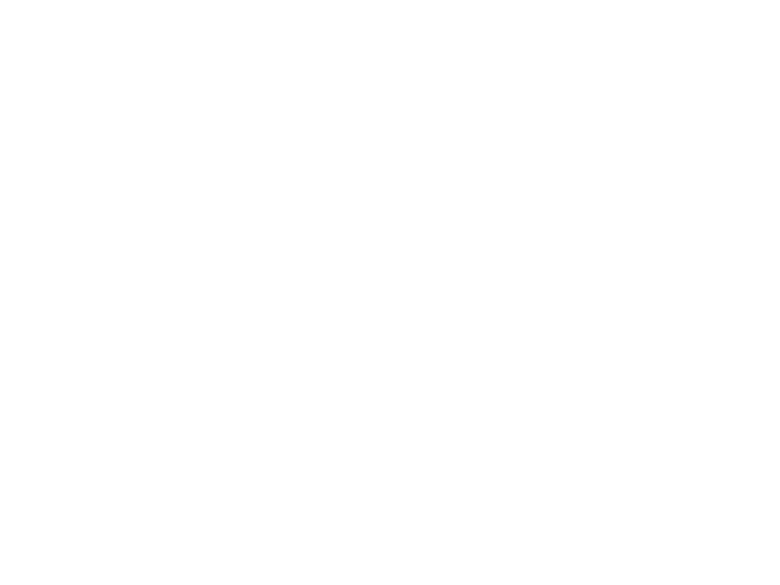
Ослепленный Полифем пытается отомстить — Гвидо Рени, 1639-1640 (Капитолийские музеи)
вас может заинтересовать

