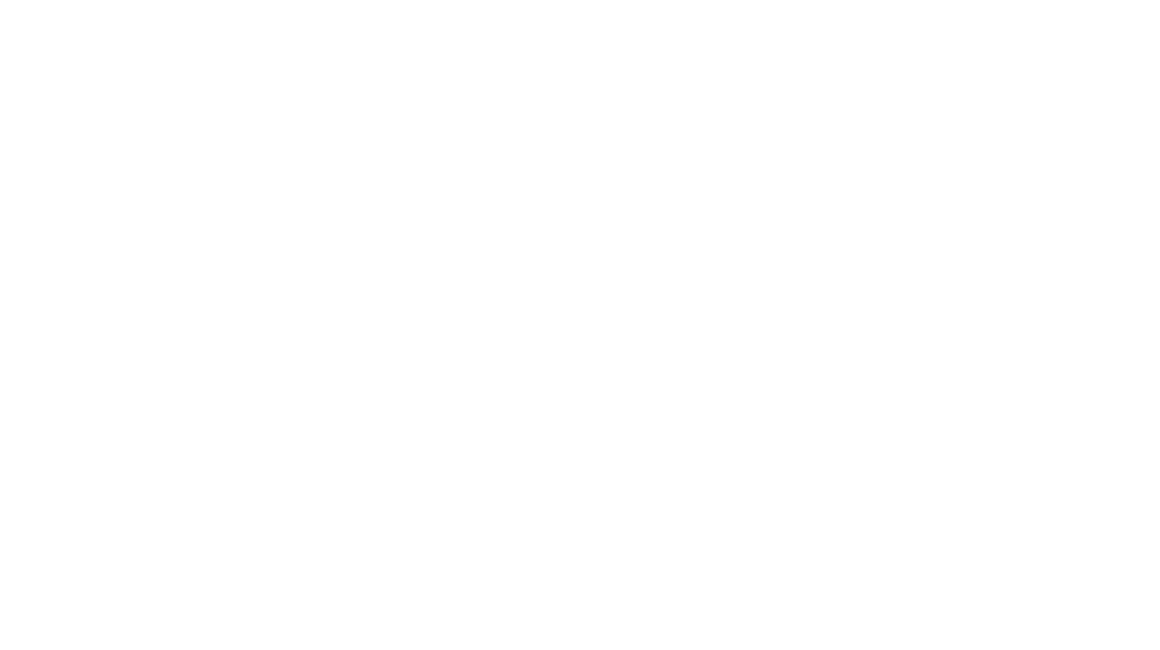
Андрей Левкин
Гентский барашек как дорога Варшава — Вильнюс
6 утра, март. Автобус из Варшавы в Ригу, точнее — он шел в Вильнюс. Варшава — Каунас — Вильнюс, там у меня пересадка на следующий. В общем, один сочлененный рейс. Вильнюс для меня лишний, но и маршрут из Каунаса в Ригу идет через Вильнюс, для заполняемости, надо полагать. Автобус все равно полупустой, не то что по двое не сидят, а и есть свободные ряды. Что ли по дороге кто-то еще зайдет, как я теперь в Варшаве, — он-то уже часов восемь едет из Берлина, через Познань, вроде бы.
Шесть утра, Варшава-Центральная, такие автобусы там останавливаются сбоку, возле вокзала, безо всяких платформ и вывесок, просто паркуются. Ясное утро, солнце. Вокруг небоскребы, новые. Сияют, а чуть сбоку торчит Дом культуры, высотка-сталинка. Вокзал под землей, сверху только его здание.
В шесть утра все отчасти в полусне, происходящее тоже будет происходить в полусне, вот: солнце, автобусы, какие-то люди. Возле автобуса, в частности, нейтральный человек неопределенных, от 40 до 60, лет — одежда без излишеств, аккуратная, даже и стильная. Песочного цвета штаны, мелко-вельветовые, песочного же цвета кроссовки, белая рубашка в крупную тонкую красную клетку, бежевый пуловер, крупные очки в твердой оправе — стекла чуть выпуклые, сильные. Примерно двухдневная щетина — то ли это у него все же такой образ, то ли ему просто было не до бритья — не то чтобы небритость выглядит дизайнерской. Темно-коричневая куртка, менее темно-коричневый шарф.
Но он не из богатых: автобус — не рейсовый между райцентрами, а вполне международный, но вот мне до Риги часов 14 ехать, и это дешевле, чем иным способом, 30 евро. То есть едут некие средние. Это не новый для меня вариант, а внимание к деталям тут только потому, что спросонья было непросто понять, где на территории вокруг немаленького вокзала отыскать свой рейс.
Неопределенного вида, возраста и занятий человек оказался в салоне сразу позади меня, лицо его тоже неопределенное — я взглянул, когда садился. Может, у него какая-нибудь двойная фамилия давней шляхты или, наоборот, он вариант пана Ковальского. Или же он Irgendwie Anders, это — если едет из Берлина. Может быть и возвращающимся литовцем, а там не знаю, какие распространенные фамилии: Янкаускас, Паулаускас? Откуда он едет — не знаю, когда я подошел к остановке, там стояли два одинаковых черных автобуса, но один — в Берлин, другой из Берлина. Разбирался с этим, человек стоял возле автобуса, а его вещи были уже внутри. Мог подойти чуть раньше меня.
Едем, выбираемся из Варшавы, времени впереди много. Что можно было бы из него, этого человека, сочинить? Список вероятностей понятен — небольшой бизнес, ездил к родственникам, что еще? Сейчас не выходные, середина недели, поэтому вряд ли поездка связана с частной жизнью. Ездят ли по бизнесовым делам на автобусах? Почему нет. Ну, можно бы придумать и криминал, но фактура слишком мягкая. Или же вот выйдет в Каунасе и отправится на шпионскую встречу в холле гостиницы — возле автовокзала на Витауто есть подходящая: темно-серая, холодная, этажей семь-восемь. Или агенты встретятся ближе к ночи на темной горе в центре или же в «Цеппелине» под ней. Там, возможно, будет громко и шумно, хотя сегодня и среда, для маскировки они станут пить водку, поедать цеппелины, а уже потом пойдут на темную гору для совсем тайных слов. Только какие ж агенты, выезжающие из Польши в Литву…
Но ведь сюжетные истории как-то производятся на свете? А тут вполне пригодный антураж: раннее утро, начало весны, она пока холодная — так, кое-где трава, никаких начинающихся листьев, даже на кустах. Сейчас я, конечно, засну — после остановки на автовокзале уже выбрались из Варшавы. Поля-перелески убаюкивают, а этот некто никуда не денется — до Каунаса остановок не будет, а тот — часов через семь.
Проснулся: все по прежнему, разве что вдоль дороги километрами лежат спиленные деревья, полосой — расширяют трассу, что ли. Частые дорожные знаки: осторожно, могут выбежать животные. Штуки три уже мимо. Отдельно стоящие господы, поля, сосновые леса. Заснул снова. В следующий раз проснулся после Острува-Мазовецка, где автобус ушел с трассы на боковую дорогу. Оказалось, что вокруг теперь туман, ну и солнце немного сквозь него. В стороны отходят какие-то еще более мелкие дороги, туман становится плотнее.
Снова проснулся. Что ж, если я не могу придумать смысл поездки этого человека, то можно адресоваться к чему-то общему, которое у нас есть, а оно сильнее, чем наши различия, — как бы иначе мы оказались в одном автобусе, просто технически? Как искать общее? Допустим, войти внутрь его мозга, выяснить, где там у него школа, что за вид из окна, какие были первые социальные контакты и прочее. Закоулки особо-то и не будут додуманы, такие позиции там безусловно присутствуют, а сильно уклониться от реальности сложно — мы более-менее из одной местности и не сильно друг от друга отличаемся по виду. Вытащить какой-нибудь более-менее вероятный пункт, намотать на него некий экшн, скажем — какой вот он нормальный представитель Центральной Европы и проч. эссеистика, этакая репортажная: репортер заходит внутрь мозга некоего то ли поляка, то ли литовца, а то и шведа, который почему-то вынужден ехать в Варшаву или Ригу, чтобы уже оттуда улететь домой, — и вот, что там внутри его мозга. Какова его карта, ну и какое-нибудь приключение-проблема заодно, для нарратива.
Или чуть иначе: все это у него в мозгу есть, но это существенно не само по себе, а тем, как и чем соединяется с тем, что для него сегодня. В этом автобусе. Не обязательно конкретно, а какая у него механика соединения? Мне, например, все равно, где быть — механизм работает одинаково что в Варшаве, что в автобусе, что в Августове, который теперь мимо окон. У них там на пятиэтажках обычных пишут название улицы и номер дома. 46b Kazstanova теперь, буквы и цифры высотой с этаж. Августов хороший, какой-то Salon fryzjerski между делом, водоемы, аккуратно. Курорт, что ли, немного. Теперь далее Сувалки, потом в сторону Мариямполе, это уже будет Литва и дальше Каунас.
Что за гимназия или школа, в которой он учился, как там были покрашены стены, далеко ли от дома. Ну да, из какого он все же города. Кем были родители, как там у них все было, что им СССР, наконец, и постсоветские дела. Что за продуктовая корзина теперь, какие физиологические пристрастия, что делать любит, а что делает по привычке. Какие книги читал — это уже помимо его профессии, а какой именно? Не клерк он, явно. Какие же у клерков разъезды в середине недели.
По возрасту мы примерно схожи, лет десять туда-сюда (я старше) здесь не существенны. Привычная музыка, например, будет той же самой. А появились ли тут, в частности, у него какие-то новости или мир, который был сделан в его голове к концу восьмидесятых и до середины девяностых, сохраняет свое доминирование, постепенно выцветая, поскольку его составляющие одна за другой уходят или забываются? Они могут оставаться некими раритетами, но уже в отрыве от общего потока, который когда-то был безусловным по умолчанию и практически не требовал описания. Что описывать, когда все — вот так, а как же еще, иначе? Ясно, что это уже такая рамка, которую нельзя ни расширить, ни изменить: найди хоть дюжину молодых приятелей или собутыльников — у них рамка другая. Можно следить за всем новым, но это ж как-то так: да, следишь, но не живешь же в этом, на самом-то деле.
Наш с ним — по возрасту — мир уходит, ну и ничего такого. Кто-нибудь крайний дотащит с собой обрывки этой схемы — смысл которой будет утрачен, пусть даже ее элементы как-то и сохранятся. Автобус тоже едет часов 15, вполне осязаемая часть жизни, так и что? 9 марта 2016-го вполне приятно проживать свое время внутри автобуса. Тут другое: какое-то понимание этого человека есть, но оно возникло не из оценки его одежды, манер и выражения лица, а что-то присутствует и постоянное. Не только то, что связано с привязкой ко времени, есть же и штуки, которые стабильны и сохраняют свои смысл и фактуру в любых обстоятельствах. Вот были схемы Галля о том, как устроен мозг, по сегментам. Один сегмент — «высшие чувства-самооценка-страх», другой — «счет-числа-оценка», а еще «остроумие», «половая любовь» — та в затылке с левой стороны; «половая любовь» почти возле шеи, чуть выше нее — «любовь к дому» и далее выше — «патриотизм»; в правой половине мозга со стороны затылка — «домашние инстинкты».
А также всяческие классификации, которые добавят непременную аллегоричность (типа заяц олицетворит трусость, а пеликан самопожертвование), еще и внешние контуры соответствующей культуры — кролик будет неплохо олицетворять похоть под музыку Монтеверди. А Джезуальдо, допустим, сову с ее как бы мудростью, хотя тут по факту не совсем сходится. Ну, пусть волком, что ли, будет. Классификации как классификации, чисто таблица Менделеева особенностей характера, где пространство выстраивания связей уже сомнительно связано с самим человеком, которого она свела к его параметрам. Потому что какое отношение к нему могут иметь, допустим, нюансы перехода от Джезуальдо к Монтеверди, пусть даже — судя по его виду — он может знать обоих и даже эти нюансы?
Еще можно рассматривать его мозг как квартиру. Как Галль с его зонами, но конкретнее. Вот тут у него комната родной гимназии, там бегают маленькие дети, в другой комнате он юноша и т. д. Собственно, чего тут вообще вымышлять этого человека, когда можно ехать и глядеть на польские перелески и прочую аскетичную, но хорошую мартовскую природу. Но вот, про всех же можно сочинить какую-нибудь историю, так чего бы не покрутить механику сочинений? Тут у него школа с маленькими (то есть реально маленькими — а какой размер уместится в голове) детишками и громким звонком, там родители, а вот университет, работа — все это разложено по секциям и продолжает там существовать, каким-то образом — он же все это помнит. Причем, даже и не по одному отсеку на каждую тему, а по каким-то историям, которые, например, связаны с тем же университетом. Какие-то слои, разные. Не смешивающиеся, практически не взаимодействующие, даже отталкивающие друг друга, то есть — просто по клеткам, как в зоопарке звери.
Он там, внутри своего мозга, так и суетится в каждой отдельной истории, как в отдельном помещении, — чисто как зоопарк. Разве что посетитель там всегда единственный, сам ты, зашедший посмотреть на свои прошлые истории. Или если с кем-нибудь выпьешь, или так просто, ведешь собеседника туда на экскурсию: как-то раз я был там-то или работал там-то, всякое такое. Вполне можно написать даже весьма полезный с точки зрения народного образования роман, где персонажи и их отношения расписываются по такой схеме. Или не исторический, а любовный. Или типа Пруста. Только все это существует и подергивается у себя там одновременно, не объединенное ничем, причем — ничто из этого не активно в данный момент — что бы влияло на действия самого человека. Светящаяся точка его внимания на них не падает. Разве что из какой-нибудь секции до сознания вдруг доберется крик ночного павлина. Сам собой, чуть тревожно напоминая зачем-то о том прошлом, которое содержится в той клетке.
У тебя внутри зоопарк, он более-менее спокойный. Его обитатели (то есть сам ты в разных историях и их иные участники) довольны, а кормятся, вероятно, мозгом, у него же есть небольшое электричество. Предыдущая жизнь там продолжается в маленьких фигурках; маленькие человечки ходят в своих загончиках, болтают, глядят друг на друга до сих пор, как тогда, всегда. В жизни почти не участвуют, но и звери обычного зоопарка мало влияют на жизнь вообще. Разве что случайно на кого-то из них попадет вот эта светящаяся точка внимания — с чем-то теперь этот зверь совпал. Лиса, например, кого-то напомнила. К тому же, зоопарки обычно в хороших местах, там природа, туда принято водить детей — в данном случае, когда они внутри мозга, — чтобы рассказывать, что да как у тебя было в жизни. Да, очередная часть мира, времени умирает, впадая в детство, — зверушки вот всякие, так это же еще и сближает напоследок. Эти звери чистые, вымытые и художественные: тут же, вокруг автобуса, земли католиков — агнцы, серебряные сердца на пурпурном бархате, золотом по камню какие-то слова на латыни, надежные. Не в варианте красот для приезжих, а видишь все это, просто проходя мимо в плохую погоду по своим делам.
Каунас. Тот человек никуда не уходит. То есть из автобуса вышел, но и только. Никакого движения в сторону города, переминается на остановке — не курит, пьет воду. Да, тут не автовокзал — просто стоянка, возле громадного торгового центра. «Акрополис» он, кажется. Логично, незачем заворачивать проходящие автобусы на автовокзал, он у них маленький. Но есть навес и указание, куда идти, чтобы купить билеты. Рядом река, на острове напротив — дворец «Жальгирис», спортивный. Хмуро, времени еще только полвторого, остановка минут на десять, куришь.
Далее должна была быть красивая дорога вдоль реки, над ней монастырь, пейзажи. Но сейчас поехали каким-то другим путем, или же я проглядел — откуда бы взяться другой трассе. Наверное, снова заснул — в Литве солнца не было, тумана тоже, был обычный сумрак марта, сырого и холодного. Да, вспоминая тему, что-то общее как-то же действует поверх частных рамок, есть какие-то разделяемые, в принципе, чувства, пусть и возникшие по различным поводам. Можно и их соотнести с зоопарком, конечно, — ну, эти все аллегории. Примерно как в бестиариях, католическая же территория, и здесь такое соотнесение имеет резон. Только надо аккуратнее. Там «тварей уподобляли образам и понятиям религии и морали, расшифровывая их, как иероглифы» (так пишут в «Википедии» — в автобусе вайфай работает). Но иероглифы могут быть и составными, не только так, будто зверек на шкафчике детского сада для его опознания пока еще неграмотным владельцем. В бестиариях все было с иллюстрациями: золото, пурпур, ультрамарин, мощное и до сих пор не выцвело.
Животные как иероглифы — это удобно: держать их на руке, небольших и разноцветных. Они не будут мельтешить, не захотят сбежать-скрыться. С достоинством работают иероглифами, нимало не опасаясь за себя, потому что знают: после того как их разглядят и сделают выводы, они — не пострадав — вернутся в свое аллегорическое пространство. Маленький динозавр на ладони, малиновый — а над ним (во время разглядывания) нависает лиловое облако его нынешнего смысла, принимающее такую-то переменчивую форму, сиреневую по краям.
Тогда этот механизм должен производить и новые, усложняющиеся чувства. Не заданные, как нормативные черты характера, но — изощренные. Он не выпиливает аллегории, а уже художественно соединяет людей и зверей, непрерывно производя истории. Потому что натура у него такая, что производит и производит.
Но как выглядела банка с какао на кухне у человека, который сидит позади, тридцать лет назад (когда это ему запомнилось)? Или не какао, а кофе? Как выглядела тогда у них кухонная полка, стояли ли на ней стандартные банки с надписями «Сахар», «Соль», «Крупа», какого они были цвета? Что за плита была или примус; где и как стирали белье; как нависали над ним — тогда ребенком — родители? Впрочем, не так и важно. В Риге можно увидеть сантехнику еще с восьмидесятых, а то и с семидесятых, ничего особенного — это мало что значит, в сущности. Просто если такой зверинец, где все разнесено по комнатам, то должна же там быть и кухня с конкретной полкой. Это тишком окрашивает чувства и задает длительность, определяя ее ритм, укомплектовывая все подряд вместе. Допустим, привкус растворимого кофе с молоком, сладкие штуки примерно того же вкуса (какие-нибудь вафли с шоколадной начинкой или темные пряники). Как-то это располагается где-то, но не отдельными пирожными, а слоями, пластами. Не эстетическими уколами и вспышками, вдруг разворачивающими в памяти нечто все сразу, но присутствуя постоянно, не воспринимаемым в сумме фоном. Или еще не растворимым кофе, а эрзацем из цикория или желудей. Впрочем, существенно и то, как выглядит его нынешняя сахарница.
Зверушки как иероглифы — это не взаимный обмен стрелочками, точками, шариками разных цветов, содержащих в себе все, но — понятное только тем, кто связан этой коммуникацией. Тут общедоступные штуки, интуитивно однозначные. Хотя могут быть и нюансы: а ну как, допустим, Чехов путал чайку и хохотуна, пусть он и из Таганрога на море. Вышла бы пьеса «Хохотун», и вся российская история повернулась бы иначе. И еще эти придуманные существа, единороги и т. п., откуда они брались? То ли их по вдохновению конструировали, то ли с чьих-то слов, или же просто предполагали (исходя из возможностей природы), что могло бы быть и этакое, заполняя разрывы между видами, — русалка, например? Так или иначе, пополнение зоопарка может происходить не только за счет новых эпизодов собственной жизни, вербующих своих зверьков, но и что угодно может поступать таким же образом, производя принципиально новые виды живности: кто-нибудь мог бы олицетворить собой и категорический императив, ну и прочее такое. Разумеется, это возможно.
Например, Гент. Там, в церкви Св. Бавона — алтарь ван Эйков, в центре его нижнего яруса — престол, а на нем — барашек, то есть — агнец, а вокруг большое скопление людей, стоящих группами. Лица — те, что можно разглядеть, — не так чтобы симпатичны (разве что один-другой человечные). Собственно, алтарь там теперь в подвале, еще и обнесен стеклом — а это блики. Но все же барашек по-прежнему в Генте. А в Генте была и такая история: там в 2014 году кто-то ставил в разных местах города голубые точки.
Они распространялись по всему центру. Не только по пятачку, где соборы, но и в стороны, добираясь даже до вокзала. И это не граффити как таковые, потому что граффити там культивируется отдельно. Они централизованы, для них выделена целая (узкая, в центре) улица, на которой их продолжают производить, отчего там всегда сильно пахнет ацетоном. Ну вот, граффити решили зачем-то организовать, а город тогда маркировали именно голубые точки. Небольшие, примерно как если перпендикулярно приставить кисть шириной в два-три пальца к стене и провернуть ее на 180 градусов. Цвет — типовой городской, общеупотребительная голубая краска, ею там много что красят (лючки водопровода, например). Это хороший цвет, мягкий.
То есть ими все как-то метилось. Вероятно, соотносясь исключительно с желанием сделать это именно вот ровно в этом месте. Вообще, непонятно, как таскать с собой краску-кисть, чтобы не пачкаться, и сколько раз за прогулку возникает такое желание, при каждом ли выходе в город? Это один человек, несколько? Но было бы несколько, тогда бы весь Гент был в горошек. Или же ими маркируется только определенное желание, причем — сильное? Как бы то ни было, главное именно в том, что тут реализуется некое желание: по крайней мере, желание поставить голубую точку в таком-то месте. А город тогда оказывается местом присутствия (или даже возникновения) этого желания и дополнительно связывается им. К тому же возникает и некоторый зазор неведения: что же это все-таки такое? Только хорошие штуки могут содержать неведение частью себя.
Причем, ведь если соединить эти точки линиями, то нарисуется какая-то схема, то есть — тоже иероглиф, то есть — тоже по факту какое-то животное. Можно считать, что в Генте завелся новый зверь, который и метит стены. Можно даже считать, что это именно барашек так представил себя в 2014-м. Как созвездия: звезды соединяли линиями, получались некие фигуры: Козерог, Волк, Овен, Большая Медведица, Гончие Псы. И, если правильно соединить эти гентские точки, то барашек и выйдет. Нет, не утверждается, что это именно так, просто пример, как это может происходить.
Но кто что знает о жизни, например, бабочек или стрекоз — чтобы всерьез, с пониманием их чувств? Не говоря уже о мелких букашках в траве или о тех, кто живет под дерном. Они появляются, живут себе и исчезают неведомыми — почему бы и мыслям такого же малого размера не быть мелкими зверьками, рыбами, насекомыми (да, тараканы, например)? Но в каком облике там будет существовать категорический императив? Это вроде бы уже точно натяжка, метафора, только граница размыта — где тут одно, где другое: что такого мы знаем о жизни землероек, чтобы не считать это знание аллегорией и метафорой? Что тут может быть известно точно, словами какого языка, соотносящимися с каким веществом, с его понятиями, узлами и действиями, можно сообщить о том, что происходит в реальности?
Понятия, узлы и действия фактически тоже будут звери, о них можно сочинять, как о зверях, рисовать их: все примется взаимонастраиваться. Классификация нарастает, постепенно забирая в себя весь мир: мелкий, копошащийся, перепискивающийся. Само собой, если кто-то вошел в отношения с бесплотными существами, вроде всяческих духов, то и они для него получат облик. А тогда чем, в сущности, это не зверушки, как-то так они и будут выглядеть. И наоборот, если кто-то впервые увидел муравьеда, чем это для него не сгущение в плоть неведомой духовной сущности или же некоей душевной ситуации? Даже ощущение покоя относительно теплым утром в середине марта, нарушаемое лишь мыслью о том, что день будет длинным и тряским, вполне способно материализовать себя в виде кого-то мягкого, но с мелкими зубами, то есть — с челюстями, завершающими его мягкий хвост.
Любую классификацию можно нарастить до космоса, расширяя применение метода: творчество такого-то (и кого угодно) есть такой-то зверек, например. Методики и приемы тоже окажутся подобными животными, ими могут быть даже повторяющиеся (а даже и не повторяющиеся) жесты. Дело сходится к общему механизму: вот престол, на нем барашек, а все вокруг стоят, глядят и ощущают, как стройно и красиво все в этом мире устроено. Ну да, вообще-то они собрались, чтобы его ритуально зарезать, но что с того. На деле там происходит что-то другое, что-то мягко-голубое и зеленое, а внутри нечто золотое, гибкие переходы с алыми линиями, полусырые гибриды: они еще превратятся во что-нибудь конкретное.
Кто знает, что за гибриды живут в мозгу, они не обязательно обрывки всего подряд, у них свои связи; гибриды могут и должны складываться во внятность — так дорога легко сложит, склеит все подряд, что придет в голову, пока едешь в автобусе. Как скотч или изолента (но не синяя, а серебристая — влагонепроницаемая, она прочнее склеивает), зверушки не разбегутся, можно соотносить с ними что угодно. Как история про ежика, вышедшего из леса и спросившего: «Мужик, у тебя изолента есть?» — «Нет», — ответил тот. Ежик ушел и вернулся: «На, мужик, изоленту». И ежик — изолента, и зверушки эти все — тоже, а дорога от Варшавы до Вильнюса уж само собой.
До Вильнюса уже недалеко. Мутно, будто уже начинаются сумерки, но смеркаться еще не может — в Вильнюсе должны быть в 16:00, а автобус еще и идет быстрее расписания. Ну, мне в Ригу, из Каунаса было бы лучше на Паневежис, но придется в Вильнюс, где стык с рейсом на Таллин, его и ждать почти час, в сумме — часа четыре лишние. Да, в Риге на вокзале есть заведение с пончиками-донатсами, на стене меню. Там вариантов 30. Например: «Пончик дамский», «Клубничная мечта», «Коко-шоко», «Джон-лимон», «Малиновая страсть», «Великолепный банановый», «Фисташковая сила», «Манго-танго», «Голубой ангел», «Дублин», «Вишневая зебра». Явный переизбыток, отчего азарт перепробовать все не возникнет: ведь не запомнишь, какие уже, а какие — еще нет. Эта классификация уже ничего не организует, не держит под контролем — ее элементы толпой вышли на свободу. Даже не заметив, что куда-то вышли и уже свободны от привязок, отчего как бы потеряли связь с общим проектом, даже и не осознавая, что были придуманы внутри чего-то цельного. Вышли из зоопарка, точнее — он распространился повсюду, а какой же он тогда зоопарк? Разумеется, все они называются как-то, но название не сообщает ничего, то есть — ничего не означает. Какой-то единичный оттенок вкуса, вполне равный разовым чувствам или мыслям: вокруг множество каких-то таких же штук, разнящихся на вкус, неисчислимых, вот уж новость.
Со зверями в мозгу так же: они имеют там какой-то вид, но их все больше, очередные ощущения и их склейки производят умопомрачительно непостижимые гибриды, хотя бы — что касается их облика. А все они отчетливо отдельные, со своими неведомыми жизнями, возникают после каждого жеста, осознания, контакта, связи. Кто ж их рисует и откуда они именно такие, но так и должно быть: даже и природа производит такое, что хотелось бы узнать имена авторов, а если учесть и глубоководных тварей… Все это производится и производится механизмом, не имеющим отношения к производимому, вовсе не заботящимся о чувствах самих тварей. Так и к нам механизм не имеет отношения, он просто это зачем-то делает, но мозговая фауна не станет иметь отношения к человеку — тем более не будет, чем точнее он ее увидит. Механизм показывает кино со зверушками. Континуум новых существ выходит на волю, они перетекают одно в другое, будто в человеке и нет ничего, кроме этого зоопарка. Он тоже не имеет к тебе отношения, так что пусть они разбегаются куда хотят, новые появятся — один не останешься никогда. Красиво тут все устроено, что уж.
Теперь здесь автовокзал Вильнюса, и эта история закончена. Дальше будет следующий автобус, то есть — уже следующая жизнь, пусть даже автобус будет той же фирмы и даже место в нем оказалось ровно таким же. Тот человек куда-то уже ушел. Собственно, конечная. Придет он на рейс в Таллин — неважно. Уже другая история.
Зато здесь уже вокруг ходит какой-то зверь, не зверь — так зверушка, и его контуры приблизительно переминаются в воздухе. Барашек, видимо, кто же еще мог сейчас появиться здесь. В начинающем постепенно темнеть воздухе, только безо всяких красот: никакого золотого меха, никакого серебряного сердца на пурпуре и сапфировых глаз — здесь же не центр Вильнюса, а автовокзал, возле железнодорожного. Вот беляши в ларьке, почему-то стоят дороже, чем на вокзале в Риге, 90 к 60 в евроцентах, а размер примерно тот же; на треть съедобнее, что ли.
Шесть утра, Варшава-Центральная, такие автобусы там останавливаются сбоку, возле вокзала, безо всяких платформ и вывесок, просто паркуются. Ясное утро, солнце. Вокруг небоскребы, новые. Сияют, а чуть сбоку торчит Дом культуры, высотка-сталинка. Вокзал под землей, сверху только его здание.
В шесть утра все отчасти в полусне, происходящее тоже будет происходить в полусне, вот: солнце, автобусы, какие-то люди. Возле автобуса, в частности, нейтральный человек неопределенных, от 40 до 60, лет — одежда без излишеств, аккуратная, даже и стильная. Песочного цвета штаны, мелко-вельветовые, песочного же цвета кроссовки, белая рубашка в крупную тонкую красную клетку, бежевый пуловер, крупные очки в твердой оправе — стекла чуть выпуклые, сильные. Примерно двухдневная щетина — то ли это у него все же такой образ, то ли ему просто было не до бритья — не то чтобы небритость выглядит дизайнерской. Темно-коричневая куртка, менее темно-коричневый шарф.
Но он не из богатых: автобус — не рейсовый между райцентрами, а вполне международный, но вот мне до Риги часов 14 ехать, и это дешевле, чем иным способом, 30 евро. То есть едут некие средние. Это не новый для меня вариант, а внимание к деталям тут только потому, что спросонья было непросто понять, где на территории вокруг немаленького вокзала отыскать свой рейс.
Неопределенного вида, возраста и занятий человек оказался в салоне сразу позади меня, лицо его тоже неопределенное — я взглянул, когда садился. Может, у него какая-нибудь двойная фамилия давней шляхты или, наоборот, он вариант пана Ковальского. Или же он Irgendwie Anders, это — если едет из Берлина. Может быть и возвращающимся литовцем, а там не знаю, какие распространенные фамилии: Янкаускас, Паулаускас? Откуда он едет — не знаю, когда я подошел к остановке, там стояли два одинаковых черных автобуса, но один — в Берлин, другой из Берлина. Разбирался с этим, человек стоял возле автобуса, а его вещи были уже внутри. Мог подойти чуть раньше меня.
Едем, выбираемся из Варшавы, времени впереди много. Что можно было бы из него, этого человека, сочинить? Список вероятностей понятен — небольшой бизнес, ездил к родственникам, что еще? Сейчас не выходные, середина недели, поэтому вряд ли поездка связана с частной жизнью. Ездят ли по бизнесовым делам на автобусах? Почему нет. Ну, можно бы придумать и криминал, но фактура слишком мягкая. Или же вот выйдет в Каунасе и отправится на шпионскую встречу в холле гостиницы — возле автовокзала на Витауто есть подходящая: темно-серая, холодная, этажей семь-восемь. Или агенты встретятся ближе к ночи на темной горе в центре или же в «Цеппелине» под ней. Там, возможно, будет громко и шумно, хотя сегодня и среда, для маскировки они станут пить водку, поедать цеппелины, а уже потом пойдут на темную гору для совсем тайных слов. Только какие ж агенты, выезжающие из Польши в Литву…
Но ведь сюжетные истории как-то производятся на свете? А тут вполне пригодный антураж: раннее утро, начало весны, она пока холодная — так, кое-где трава, никаких начинающихся листьев, даже на кустах. Сейчас я, конечно, засну — после остановки на автовокзале уже выбрались из Варшавы. Поля-перелески убаюкивают, а этот некто никуда не денется — до Каунаса остановок не будет, а тот — часов через семь.
Проснулся: все по прежнему, разве что вдоль дороги километрами лежат спиленные деревья, полосой — расширяют трассу, что ли. Частые дорожные знаки: осторожно, могут выбежать животные. Штуки три уже мимо. Отдельно стоящие господы, поля, сосновые леса. Заснул снова. В следующий раз проснулся после Острува-Мазовецка, где автобус ушел с трассы на боковую дорогу. Оказалось, что вокруг теперь туман, ну и солнце немного сквозь него. В стороны отходят какие-то еще более мелкие дороги, туман становится плотнее.
Снова проснулся. Что ж, если я не могу придумать смысл поездки этого человека, то можно адресоваться к чему-то общему, которое у нас есть, а оно сильнее, чем наши различия, — как бы иначе мы оказались в одном автобусе, просто технически? Как искать общее? Допустим, войти внутрь его мозга, выяснить, где там у него школа, что за вид из окна, какие были первые социальные контакты и прочее. Закоулки особо-то и не будут додуманы, такие позиции там безусловно присутствуют, а сильно уклониться от реальности сложно — мы более-менее из одной местности и не сильно друг от друга отличаемся по виду. Вытащить какой-нибудь более-менее вероятный пункт, намотать на него некий экшн, скажем — какой вот он нормальный представитель Центральной Европы и проч. эссеистика, этакая репортажная: репортер заходит внутрь мозга некоего то ли поляка, то ли литовца, а то и шведа, который почему-то вынужден ехать в Варшаву или Ригу, чтобы уже оттуда улететь домой, — и вот, что там внутри его мозга. Какова его карта, ну и какое-нибудь приключение-проблема заодно, для нарратива.
Или чуть иначе: все это у него в мозгу есть, но это существенно не само по себе, а тем, как и чем соединяется с тем, что для него сегодня. В этом автобусе. Не обязательно конкретно, а какая у него механика соединения? Мне, например, все равно, где быть — механизм работает одинаково что в Варшаве, что в автобусе, что в Августове, который теперь мимо окон. У них там на пятиэтажках обычных пишут название улицы и номер дома. 46b Kazstanova теперь, буквы и цифры высотой с этаж. Августов хороший, какой-то Salon fryzjerski между делом, водоемы, аккуратно. Курорт, что ли, немного. Теперь далее Сувалки, потом в сторону Мариямполе, это уже будет Литва и дальше Каунас.
Что за гимназия или школа, в которой он учился, как там были покрашены стены, далеко ли от дома. Ну да, из какого он все же города. Кем были родители, как там у них все было, что им СССР, наконец, и постсоветские дела. Что за продуктовая корзина теперь, какие физиологические пристрастия, что делать любит, а что делает по привычке. Какие книги читал — это уже помимо его профессии, а какой именно? Не клерк он, явно. Какие же у клерков разъезды в середине недели.
По возрасту мы примерно схожи, лет десять туда-сюда (я старше) здесь не существенны. Привычная музыка, например, будет той же самой. А появились ли тут, в частности, у него какие-то новости или мир, который был сделан в его голове к концу восьмидесятых и до середины девяностых, сохраняет свое доминирование, постепенно выцветая, поскольку его составляющие одна за другой уходят или забываются? Они могут оставаться некими раритетами, но уже в отрыве от общего потока, который когда-то был безусловным по умолчанию и практически не требовал описания. Что описывать, когда все — вот так, а как же еще, иначе? Ясно, что это уже такая рамка, которую нельзя ни расширить, ни изменить: найди хоть дюжину молодых приятелей или собутыльников — у них рамка другая. Можно следить за всем новым, но это ж как-то так: да, следишь, но не живешь же в этом, на самом-то деле.
Наш с ним — по возрасту — мир уходит, ну и ничего такого. Кто-нибудь крайний дотащит с собой обрывки этой схемы — смысл которой будет утрачен, пусть даже ее элементы как-то и сохранятся. Автобус тоже едет часов 15, вполне осязаемая часть жизни, так и что? 9 марта 2016-го вполне приятно проживать свое время внутри автобуса. Тут другое: какое-то понимание этого человека есть, но оно возникло не из оценки его одежды, манер и выражения лица, а что-то присутствует и постоянное. Не только то, что связано с привязкой ко времени, есть же и штуки, которые стабильны и сохраняют свои смысл и фактуру в любых обстоятельствах. Вот были схемы Галля о том, как устроен мозг, по сегментам. Один сегмент — «высшие чувства-самооценка-страх», другой — «счет-числа-оценка», а еще «остроумие», «половая любовь» — та в затылке с левой стороны; «половая любовь» почти возле шеи, чуть выше нее — «любовь к дому» и далее выше — «патриотизм»; в правой половине мозга со стороны затылка — «домашние инстинкты».
А также всяческие классификации, которые добавят непременную аллегоричность (типа заяц олицетворит трусость, а пеликан самопожертвование), еще и внешние контуры соответствующей культуры — кролик будет неплохо олицетворять похоть под музыку Монтеверди. А Джезуальдо, допустим, сову с ее как бы мудростью, хотя тут по факту не совсем сходится. Ну, пусть волком, что ли, будет. Классификации как классификации, чисто таблица Менделеева особенностей характера, где пространство выстраивания связей уже сомнительно связано с самим человеком, которого она свела к его параметрам. Потому что какое отношение к нему могут иметь, допустим, нюансы перехода от Джезуальдо к Монтеверди, пусть даже — судя по его виду — он может знать обоих и даже эти нюансы?
Еще можно рассматривать его мозг как квартиру. Как Галль с его зонами, но конкретнее. Вот тут у него комната родной гимназии, там бегают маленькие дети, в другой комнате он юноша и т. д. Собственно, чего тут вообще вымышлять этого человека, когда можно ехать и глядеть на польские перелески и прочую аскетичную, но хорошую мартовскую природу. Но вот, про всех же можно сочинить какую-нибудь историю, так чего бы не покрутить механику сочинений? Тут у него школа с маленькими (то есть реально маленькими — а какой размер уместится в голове) детишками и громким звонком, там родители, а вот университет, работа — все это разложено по секциям и продолжает там существовать, каким-то образом — он же все это помнит. Причем, даже и не по одному отсеку на каждую тему, а по каким-то историям, которые, например, связаны с тем же университетом. Какие-то слои, разные. Не смешивающиеся, практически не взаимодействующие, даже отталкивающие друг друга, то есть — просто по клеткам, как в зоопарке звери.
Он там, внутри своего мозга, так и суетится в каждой отдельной истории, как в отдельном помещении, — чисто как зоопарк. Разве что посетитель там всегда единственный, сам ты, зашедший посмотреть на свои прошлые истории. Или если с кем-нибудь выпьешь, или так просто, ведешь собеседника туда на экскурсию: как-то раз я был там-то или работал там-то, всякое такое. Вполне можно написать даже весьма полезный с точки зрения народного образования роман, где персонажи и их отношения расписываются по такой схеме. Или не исторический, а любовный. Или типа Пруста. Только все это существует и подергивается у себя там одновременно, не объединенное ничем, причем — ничто из этого не активно в данный момент — что бы влияло на действия самого человека. Светящаяся точка его внимания на них не падает. Разве что из какой-нибудь секции до сознания вдруг доберется крик ночного павлина. Сам собой, чуть тревожно напоминая зачем-то о том прошлом, которое содержится в той клетке.
У тебя внутри зоопарк, он более-менее спокойный. Его обитатели (то есть сам ты в разных историях и их иные участники) довольны, а кормятся, вероятно, мозгом, у него же есть небольшое электричество. Предыдущая жизнь там продолжается в маленьких фигурках; маленькие человечки ходят в своих загончиках, болтают, глядят друг на друга до сих пор, как тогда, всегда. В жизни почти не участвуют, но и звери обычного зоопарка мало влияют на жизнь вообще. Разве что случайно на кого-то из них попадет вот эта светящаяся точка внимания — с чем-то теперь этот зверь совпал. Лиса, например, кого-то напомнила. К тому же, зоопарки обычно в хороших местах, там природа, туда принято водить детей — в данном случае, когда они внутри мозга, — чтобы рассказывать, что да как у тебя было в жизни. Да, очередная часть мира, времени умирает, впадая в детство, — зверушки вот всякие, так это же еще и сближает напоследок. Эти звери чистые, вымытые и художественные: тут же, вокруг автобуса, земли католиков — агнцы, серебряные сердца на пурпурном бархате, золотом по камню какие-то слова на латыни, надежные. Не в варианте красот для приезжих, а видишь все это, просто проходя мимо в плохую погоду по своим делам.
Каунас. Тот человек никуда не уходит. То есть из автобуса вышел, но и только. Никакого движения в сторону города, переминается на остановке — не курит, пьет воду. Да, тут не автовокзал — просто стоянка, возле громадного торгового центра. «Акрополис» он, кажется. Логично, незачем заворачивать проходящие автобусы на автовокзал, он у них маленький. Но есть навес и указание, куда идти, чтобы купить билеты. Рядом река, на острове напротив — дворец «Жальгирис», спортивный. Хмуро, времени еще только полвторого, остановка минут на десять, куришь.
Далее должна была быть красивая дорога вдоль реки, над ней монастырь, пейзажи. Но сейчас поехали каким-то другим путем, или же я проглядел — откуда бы взяться другой трассе. Наверное, снова заснул — в Литве солнца не было, тумана тоже, был обычный сумрак марта, сырого и холодного. Да, вспоминая тему, что-то общее как-то же действует поверх частных рамок, есть какие-то разделяемые, в принципе, чувства, пусть и возникшие по различным поводам. Можно и их соотнести с зоопарком, конечно, — ну, эти все аллегории. Примерно как в бестиариях, католическая же территория, и здесь такое соотнесение имеет резон. Только надо аккуратнее. Там «тварей уподобляли образам и понятиям религии и морали, расшифровывая их, как иероглифы» (так пишут в «Википедии» — в автобусе вайфай работает). Но иероглифы могут быть и составными, не только так, будто зверек на шкафчике детского сада для его опознания пока еще неграмотным владельцем. В бестиариях все было с иллюстрациями: золото, пурпур, ультрамарин, мощное и до сих пор не выцвело.
Животные как иероглифы — это удобно: держать их на руке, небольших и разноцветных. Они не будут мельтешить, не захотят сбежать-скрыться. С достоинством работают иероглифами, нимало не опасаясь за себя, потому что знают: после того как их разглядят и сделают выводы, они — не пострадав — вернутся в свое аллегорическое пространство. Маленький динозавр на ладони, малиновый — а над ним (во время разглядывания) нависает лиловое облако его нынешнего смысла, принимающее такую-то переменчивую форму, сиреневую по краям.
Тогда этот механизм должен производить и новые, усложняющиеся чувства. Не заданные, как нормативные черты характера, но — изощренные. Он не выпиливает аллегории, а уже художественно соединяет людей и зверей, непрерывно производя истории. Потому что натура у него такая, что производит и производит.
Но как выглядела банка с какао на кухне у человека, который сидит позади, тридцать лет назад (когда это ему запомнилось)? Или не какао, а кофе? Как выглядела тогда у них кухонная полка, стояли ли на ней стандартные банки с надписями «Сахар», «Соль», «Крупа», какого они были цвета? Что за плита была или примус; где и как стирали белье; как нависали над ним — тогда ребенком — родители? Впрочем, не так и важно. В Риге можно увидеть сантехнику еще с восьмидесятых, а то и с семидесятых, ничего особенного — это мало что значит, в сущности. Просто если такой зверинец, где все разнесено по комнатам, то должна же там быть и кухня с конкретной полкой. Это тишком окрашивает чувства и задает длительность, определяя ее ритм, укомплектовывая все подряд вместе. Допустим, привкус растворимого кофе с молоком, сладкие штуки примерно того же вкуса (какие-нибудь вафли с шоколадной начинкой или темные пряники). Как-то это располагается где-то, но не отдельными пирожными, а слоями, пластами. Не эстетическими уколами и вспышками, вдруг разворачивающими в памяти нечто все сразу, но присутствуя постоянно, не воспринимаемым в сумме фоном. Или еще не растворимым кофе, а эрзацем из цикория или желудей. Впрочем, существенно и то, как выглядит его нынешняя сахарница.
Зверушки как иероглифы — это не взаимный обмен стрелочками, точками, шариками разных цветов, содержащих в себе все, но — понятное только тем, кто связан этой коммуникацией. Тут общедоступные штуки, интуитивно однозначные. Хотя могут быть и нюансы: а ну как, допустим, Чехов путал чайку и хохотуна, пусть он и из Таганрога на море. Вышла бы пьеса «Хохотун», и вся российская история повернулась бы иначе. И еще эти придуманные существа, единороги и т. п., откуда они брались? То ли их по вдохновению конструировали, то ли с чьих-то слов, или же просто предполагали (исходя из возможностей природы), что могло бы быть и этакое, заполняя разрывы между видами, — русалка, например? Так или иначе, пополнение зоопарка может происходить не только за счет новых эпизодов собственной жизни, вербующих своих зверьков, но и что угодно может поступать таким же образом, производя принципиально новые виды живности: кто-нибудь мог бы олицетворить собой и категорический императив, ну и прочее такое. Разумеется, это возможно.
Например, Гент. Там, в церкви Св. Бавона — алтарь ван Эйков, в центре его нижнего яруса — престол, а на нем — барашек, то есть — агнец, а вокруг большое скопление людей, стоящих группами. Лица — те, что можно разглядеть, — не так чтобы симпатичны (разве что один-другой человечные). Собственно, алтарь там теперь в подвале, еще и обнесен стеклом — а это блики. Но все же барашек по-прежнему в Генте. А в Генте была и такая история: там в 2014 году кто-то ставил в разных местах города голубые точки.
Они распространялись по всему центру. Не только по пятачку, где соборы, но и в стороны, добираясь даже до вокзала. И это не граффити как таковые, потому что граффити там культивируется отдельно. Они централизованы, для них выделена целая (узкая, в центре) улица, на которой их продолжают производить, отчего там всегда сильно пахнет ацетоном. Ну вот, граффити решили зачем-то организовать, а город тогда маркировали именно голубые точки. Небольшие, примерно как если перпендикулярно приставить кисть шириной в два-три пальца к стене и провернуть ее на 180 градусов. Цвет — типовой городской, общеупотребительная голубая краска, ею там много что красят (лючки водопровода, например). Это хороший цвет, мягкий.
То есть ими все как-то метилось. Вероятно, соотносясь исключительно с желанием сделать это именно вот ровно в этом месте. Вообще, непонятно, как таскать с собой краску-кисть, чтобы не пачкаться, и сколько раз за прогулку возникает такое желание, при каждом ли выходе в город? Это один человек, несколько? Но было бы несколько, тогда бы весь Гент был в горошек. Или же ими маркируется только определенное желание, причем — сильное? Как бы то ни было, главное именно в том, что тут реализуется некое желание: по крайней мере, желание поставить голубую точку в таком-то месте. А город тогда оказывается местом присутствия (или даже возникновения) этого желания и дополнительно связывается им. К тому же возникает и некоторый зазор неведения: что же это все-таки такое? Только хорошие штуки могут содержать неведение частью себя.
Причем, ведь если соединить эти точки линиями, то нарисуется какая-то схема, то есть — тоже иероглиф, то есть — тоже по факту какое-то животное. Можно считать, что в Генте завелся новый зверь, который и метит стены. Можно даже считать, что это именно барашек так представил себя в 2014-м. Как созвездия: звезды соединяли линиями, получались некие фигуры: Козерог, Волк, Овен, Большая Медведица, Гончие Псы. И, если правильно соединить эти гентские точки, то барашек и выйдет. Нет, не утверждается, что это именно так, просто пример, как это может происходить.
Но кто что знает о жизни, например, бабочек или стрекоз — чтобы всерьез, с пониманием их чувств? Не говоря уже о мелких букашках в траве или о тех, кто живет под дерном. Они появляются, живут себе и исчезают неведомыми — почему бы и мыслям такого же малого размера не быть мелкими зверьками, рыбами, насекомыми (да, тараканы, например)? Но в каком облике там будет существовать категорический императив? Это вроде бы уже точно натяжка, метафора, только граница размыта — где тут одно, где другое: что такого мы знаем о жизни землероек, чтобы не считать это знание аллегорией и метафорой? Что тут может быть известно точно, словами какого языка, соотносящимися с каким веществом, с его понятиями, узлами и действиями, можно сообщить о том, что происходит в реальности?
Понятия, узлы и действия фактически тоже будут звери, о них можно сочинять, как о зверях, рисовать их: все примется взаимонастраиваться. Классификация нарастает, постепенно забирая в себя весь мир: мелкий, копошащийся, перепискивающийся. Само собой, если кто-то вошел в отношения с бесплотными существами, вроде всяческих духов, то и они для него получат облик. А тогда чем, в сущности, это не зверушки, как-то так они и будут выглядеть. И наоборот, если кто-то впервые увидел муравьеда, чем это для него не сгущение в плоть неведомой духовной сущности или же некоей душевной ситуации? Даже ощущение покоя относительно теплым утром в середине марта, нарушаемое лишь мыслью о том, что день будет длинным и тряским, вполне способно материализовать себя в виде кого-то мягкого, но с мелкими зубами, то есть — с челюстями, завершающими его мягкий хвост.
Любую классификацию можно нарастить до космоса, расширяя применение метода: творчество такого-то (и кого угодно) есть такой-то зверек, например. Методики и приемы тоже окажутся подобными животными, ими могут быть даже повторяющиеся (а даже и не повторяющиеся) жесты. Дело сходится к общему механизму: вот престол, на нем барашек, а все вокруг стоят, глядят и ощущают, как стройно и красиво все в этом мире устроено. Ну да, вообще-то они собрались, чтобы его ритуально зарезать, но что с того. На деле там происходит что-то другое, что-то мягко-голубое и зеленое, а внутри нечто золотое, гибкие переходы с алыми линиями, полусырые гибриды: они еще превратятся во что-нибудь конкретное.
Кто знает, что за гибриды живут в мозгу, они не обязательно обрывки всего подряд, у них свои связи; гибриды могут и должны складываться во внятность — так дорога легко сложит, склеит все подряд, что придет в голову, пока едешь в автобусе. Как скотч или изолента (но не синяя, а серебристая — влагонепроницаемая, она прочнее склеивает), зверушки не разбегутся, можно соотносить с ними что угодно. Как история про ежика, вышедшего из леса и спросившего: «Мужик, у тебя изолента есть?» — «Нет», — ответил тот. Ежик ушел и вернулся: «На, мужик, изоленту». И ежик — изолента, и зверушки эти все — тоже, а дорога от Варшавы до Вильнюса уж само собой.
До Вильнюса уже недалеко. Мутно, будто уже начинаются сумерки, но смеркаться еще не может — в Вильнюсе должны быть в 16:00, а автобус еще и идет быстрее расписания. Ну, мне в Ригу, из Каунаса было бы лучше на Паневежис, но придется в Вильнюс, где стык с рейсом на Таллин, его и ждать почти час, в сумме — часа четыре лишние. Да, в Риге на вокзале есть заведение с пончиками-донатсами, на стене меню. Там вариантов 30. Например: «Пончик дамский», «Клубничная мечта», «Коко-шоко», «Джон-лимон», «Малиновая страсть», «Великолепный банановый», «Фисташковая сила», «Манго-танго», «Голубой ангел», «Дублин», «Вишневая зебра». Явный переизбыток, отчего азарт перепробовать все не возникнет: ведь не запомнишь, какие уже, а какие — еще нет. Эта классификация уже ничего не организует, не держит под контролем — ее элементы толпой вышли на свободу. Даже не заметив, что куда-то вышли и уже свободны от привязок, отчего как бы потеряли связь с общим проектом, даже и не осознавая, что были придуманы внутри чего-то цельного. Вышли из зоопарка, точнее — он распространился повсюду, а какой же он тогда зоопарк? Разумеется, все они называются как-то, но название не сообщает ничего, то есть — ничего не означает. Какой-то единичный оттенок вкуса, вполне равный разовым чувствам или мыслям: вокруг множество каких-то таких же штук, разнящихся на вкус, неисчислимых, вот уж новость.
Со зверями в мозгу так же: они имеют там какой-то вид, но их все больше, очередные ощущения и их склейки производят умопомрачительно непостижимые гибриды, хотя бы — что касается их облика. А все они отчетливо отдельные, со своими неведомыми жизнями, возникают после каждого жеста, осознания, контакта, связи. Кто ж их рисует и откуда они именно такие, но так и должно быть: даже и природа производит такое, что хотелось бы узнать имена авторов, а если учесть и глубоководных тварей… Все это производится и производится механизмом, не имеющим отношения к производимому, вовсе не заботящимся о чувствах самих тварей. Так и к нам механизм не имеет отношения, он просто это зачем-то делает, но мозговая фауна не станет иметь отношения к человеку — тем более не будет, чем точнее он ее увидит. Механизм показывает кино со зверушками. Континуум новых существ выходит на волю, они перетекают одно в другое, будто в человеке и нет ничего, кроме этого зоопарка. Он тоже не имеет к тебе отношения, так что пусть они разбегаются куда хотят, новые появятся — один не останешься никогда. Красиво тут все устроено, что уж.
Теперь здесь автовокзал Вильнюса, и эта история закончена. Дальше будет следующий автобус, то есть — уже следующая жизнь, пусть даже автобус будет той же фирмы и даже место в нем оказалось ровно таким же. Тот человек куда-то уже ушел. Собственно, конечная. Придет он на рейс в Таллин — неважно. Уже другая история.
Зато здесь уже вокруг ходит какой-то зверь, не зверь — так зверушка, и его контуры приблизительно переминаются в воздухе. Барашек, видимо, кто же еще мог сейчас появиться здесь. В начинающем постепенно темнеть воздухе, только безо всяких красот: никакого золотого меха, никакого серебряного сердца на пурпуре и сапфировых глаз — здесь же не центр Вильнюса, а автовокзал, возле железнодорожного. Вот беляши в ларьке, почему-то стоят дороже, чем на вокзале в Риге, 90 к 60 в евроцентах, а размер примерно тот же; на треть съедобнее, что ли.
вас может заинтересовать

Андрей Левкин
Гентский барашек как дорога Варшава — Вильнюс
6 утра, март. Автобус из Варшавы в Ригу, точнее — он шел в Вильнюс. Варшава — Каунас — Вильнюс, там у меня пересадка на следующий. В общем, один сочлененный рейс. Вильнюс для меня лишний, но и маршрут из Каунаса в Ригу идет через Вильнюс, для заполняемости, надо полагать. Автобус все равно полупустой, не то что по двое не сидят, а и есть свободные ряды. Что ли по дороге кто-то еще зайдет, как я теперь в Варшаве, — он-то уже часов восемь едет из Берлина, через Познань, вроде бы.
Шесть утра, Варшава-Центральная, такие автобусы там останавливаются сбоку, возле вокзала, безо всяких платформ и вывесок, просто паркуются. Ясное утро, солнце. Вокруг небоскребы, новые. Сияют, а чуть сбоку торчит Дом культуры, высотка-сталинка. Вокзал под землей, сверху только его здание.
В шесть утра все отчасти в полусне, происходящее тоже будет происходить в полусне, вот: солнце, автобусы, какие-то люди. Возле автобуса, в частности, нейтральный человек неопределенных, от 40 до 60, лет — одежда без излишеств, аккуратная, даже и стильная. Песочного цвета штаны, мелко-вельветовые, песочного же цвета кроссовки, белая рубашка в крупную тонкую красную клетку, бежевый пуловер, крупные очки в твердой оправе — стекла чуть выпуклые, сильные. Примерно двухдневная щетина — то ли это у него все же такой образ, то ли ему просто было не до бритья — не то чтобы небритость выглядит дизайнерской. Темно-коричневая куртка, менее темно-коричневый шарф.
Но он не из богатых: автобус — не рейсовый между райцентрами, а вполне международный, но вот мне до Риги часов 14 ехать, и это дешевле, чем иным способом, 30 евро. То есть едут некие средние. Это не новый для меня вариант, а внимание к деталям тут только потому, что спросонья было непросто понять, где на территории вокруг немаленького вокзала отыскать свой рейс.
Неопределенного вида, возраста и занятий человек оказался в салоне сразу позади меня, лицо его тоже неопределенное — я взглянул, когда садился. Может, у него какая-нибудь двойная фамилия давней шляхты или, наоборот, он вариант пана Ковальского. Или же он Irgendwie Anders, это — если едет из Берлина. Может быть и возвращающимся литовцем, а там не знаю, какие распространенные фамилии: Янкаускас, Паулаускас? Откуда он едет — не знаю, когда я подошел к остановке, там стояли два одинаковых черных автобуса, но один — в Берлин, другой из Берлина. Разбирался с этим, человек стоял возле автобуса, а его вещи были уже внутри. Мог подойти чуть раньше меня.
Едем, выбираемся из Варшавы, времени впереди много. Что можно было бы из него, этого человека, сочинить? Список вероятностей понятен — небольшой бизнес, ездил к родственникам, что еще? Сейчас не выходные, середина недели, поэтому вряд ли поездка связана с частной жизнью. Ездят ли по бизнесовым делам на автобусах? Почему нет. Ну, можно бы придумать и криминал, но фактура слишком мягкая. Или же вот выйдет в Каунасе и отправится на шпионскую встречу в холле гостиницы — возле автовокзала на Витауто есть подходящая: темно-серая, холодная, этажей семь-восемь. Или агенты встретятся ближе к ночи на темной горе в центре или же в «Цеппелине» под ней. Там, возможно, будет громко и шумно, хотя сегодня и среда, для маскировки они станут пить водку, поедать цеппелины, а уже потом пойдут на темную гору для совсем тайных слов. Только какие ж агенты, выезжающие из Польши в Литву…
Но ведь сюжетные истории как-то производятся на свете? А тут вполне пригодный антураж: раннее утро, начало весны, она пока холодная — так, кое-где трава, никаких начинающихся листьев, даже на кустах. Сейчас я, конечно, засну — после остановки на автовокзале уже выбрались из Варшавы. Поля-перелески убаюкивают, а этот некто никуда не денется — до Каунаса остановок не будет, а тот — часов через семь.
Проснулся: все по прежнему, разве что вдоль дороги километрами лежат спиленные деревья, полосой — расширяют трассу, что ли. Частые дорожные знаки: осторожно, могут выбежать животные. Штуки три уже мимо. Отдельно стоящие господы, поля, сосновые леса. Заснул снова. В следующий раз проснулся после Острува-Мазовецка, где автобус ушел с трассы на боковую дорогу. Оказалось, что вокруг теперь туман, ну и солнце немного сквозь него. В стороны отходят какие-то еще более мелкие дороги, туман становится плотнее.
Снова проснулся. Что ж, если я не могу придумать смысл поездки этого человека, то можно адресоваться к чему-то общему, которое у нас есть, а оно сильнее, чем наши различия, — как бы иначе мы оказались в одном автобусе, просто технически? Как искать общее? Допустим, войти внутрь его мозга, выяснить, где там у него школа, что за вид из окна, какие были первые социальные контакты и прочее. Закоулки особо-то и не будут додуманы, такие позиции там безусловно присутствуют, а сильно уклониться от реальности сложно — мы более-менее из одной местности и не сильно друг от друга отличаемся по виду. Вытащить какой-нибудь более-менее вероятный пункт, намотать на него некий экшн, скажем — какой вот он нормальный представитель Центральной Европы и проч. эссеистика, этакая репортажная: репортер заходит внутрь мозга некоего то ли поляка, то ли литовца, а то и шведа, который почему-то вынужден ехать в Варшаву или Ригу, чтобы уже оттуда улететь домой, — и вот, что там внутри его мозга. Какова его карта, ну и какое-нибудь приключение-проблема заодно, для нарратива.
Или чуть иначе: все это у него в мозгу есть, но это существенно не само по себе, а тем, как и чем соединяется с тем, что для него сегодня. В этом автобусе. Не обязательно конкретно, а какая у него механика соединения? Мне, например, все равно, где быть — механизм работает одинаково что в Варшаве, что в автобусе, что в Августове, который теперь мимо окон. У них там на пятиэтажках обычных пишут название улицы и номер дома. 46b Kazstanova теперь, буквы и цифры высотой с этаж. Августов хороший, какой-то Salon fryzjerski между делом, водоемы, аккуратно. Курорт, что ли, немного. Теперь далее Сувалки, потом в сторону Мариямполе, это уже будет Литва и дальше Каунас.
Что за гимназия или школа, в которой он учился, как там были покрашены стены, далеко ли от дома. Ну да, из какого он все же города. Кем были родители, как там у них все было, что им СССР, наконец, и постсоветские дела. Что за продуктовая корзина теперь, какие физиологические пристрастия, что делать любит, а что делает по привычке. Какие книги читал — это уже помимо его профессии, а какой именно? Не клерк он, явно. Какие же у клерков разъезды в середине недели.
По возрасту мы примерно схожи, лет десять туда-сюда (я старше) здесь не существенны. Привычная музыка, например, будет той же самой. А появились ли тут, в частности, у него какие-то новости или мир, который был сделан в его голове к концу восьмидесятых и до середины девяностых, сохраняет свое доминирование, постепенно выцветая, поскольку его составляющие одна за другой уходят или забываются? Они могут оставаться некими раритетами, но уже в отрыве от общего потока, который когда-то был безусловным по умолчанию и практически не требовал описания. Что описывать, когда все — вот так, а как же еще, иначе? Ясно, что это уже такая рамка, которую нельзя ни расширить, ни изменить: найди хоть дюжину молодых приятелей или собутыльников — у них рамка другая. Можно следить за всем новым, но это ж как-то так: да, следишь, но не живешь же в этом, на самом-то деле.
Наш с ним — по возрасту — мир уходит, ну и ничего такого. Кто-нибудь крайний дотащит с собой обрывки этой схемы — смысл которой будет утрачен, пусть даже ее элементы как-то и сохранятся. Автобус тоже едет часов 15, вполне осязаемая часть жизни, так и что? 9 марта 2016-го вполне приятно проживать свое время внутри автобуса. Тут другое: какое-то понимание этого человека есть, но оно возникло не из оценки его одежды, манер и выражения лица, а что-то присутствует и постоянное. Не только то, что связано с привязкой ко времени, есть же и штуки, которые стабильны и сохраняют свои смысл и фактуру в любых обстоятельствах. Вот были схемы Галля о том, как устроен мозг, по сегментам. Один сегмент — «высшие чувства-самооценка-страх», другой — «счет-числа-оценка», а еще «остроумие», «половая любовь» — та в затылке с левой стороны; «половая любовь» почти возле шеи, чуть выше нее — «любовь к дому» и далее выше — «патриотизм»; в правой половине мозга со стороны затылка — «домашние инстинкты».
А также всяческие классификации, которые добавят непременную аллегоричность (типа заяц олицетворит трусость, а пеликан самопожертвование), еще и внешние контуры соответствующей культуры — кролик будет неплохо олицетворять похоть под музыку Монтеверди. А Джезуальдо, допустим, сову с ее как бы мудростью, хотя тут по факту не совсем сходится. Ну, пусть волком, что ли, будет. Классификации как классификации, чисто таблица Менделеева особенностей характера, где пространство выстраивания связей уже сомнительно связано с самим человеком, которого она свела к его параметрам. Потому что какое отношение к нему могут иметь, допустим, нюансы перехода от Джезуальдо к Монтеверди, пусть даже — судя по его виду — он может знать обоих и даже эти нюансы?
Еще можно рассматривать его мозг как квартиру. Как Галль с его зонами, но конкретнее. Вот тут у него комната родной гимназии, там бегают маленькие дети, в другой комнате он юноша и т. д. Собственно, чего тут вообще вымышлять этого человека, когда можно ехать и глядеть на польские перелески и прочую аскетичную, но хорошую мартовскую природу. Но вот, про всех же можно сочинить какую-нибудь историю, так чего бы не покрутить механику сочинений? Тут у него школа с маленькими (то есть реально маленькими — а какой размер уместится в голове) детишками и громким звонком, там родители, а вот университет, работа — все это разложено по секциям и продолжает там существовать, каким-то образом — он же все это помнит. Причем, даже и не по одному отсеку на каждую тему, а по каким-то историям, которые, например, связаны с тем же университетом. Какие-то слои, разные. Не смешивающиеся, практически не взаимодействующие, даже отталкивающие друг друга, то есть — просто по клеткам, как в зоопарке звери.
Он там, внутри своего мозга, так и суетится в каждой отдельной истории, как в отдельном помещении, — чисто как зоопарк. Разве что посетитель там всегда единственный, сам ты, зашедший посмотреть на свои прошлые истории. Или если с кем-нибудь выпьешь, или так просто, ведешь собеседника туда на экскурсию: как-то раз я был там-то или работал там-то, всякое такое. Вполне можно написать даже весьма полезный с точки зрения народного образования роман, где персонажи и их отношения расписываются по такой схеме. Или не исторический, а любовный. Или типа Пруста. Только все это существует и подергивается у себя там одновременно, не объединенное ничем, причем — ничто из этого не активно в данный момент — что бы влияло на действия самого человека. Светящаяся точка его внимания на них не падает. Разве что из какой-нибудь секции до сознания вдруг доберется крик ночного павлина. Сам собой, чуть тревожно напоминая зачем-то о том прошлом, которое содержится в той клетке.
У тебя внутри зоопарк, он более-менее спокойный. Его обитатели (то есть сам ты в разных историях и их иные участники) довольны, а кормятся, вероятно, мозгом, у него же есть небольшое электричество. Предыдущая жизнь там продолжается в маленьких фигурках; маленькие человечки ходят в своих загончиках, болтают, глядят друг на друга до сих пор, как тогда, всегда. В жизни почти не участвуют, но и звери обычного зоопарка мало влияют на жизнь вообще. Разве что случайно на кого-то из них попадет вот эта светящаяся точка внимания — с чем-то теперь этот зверь совпал. Лиса, например, кого-то напомнила. К тому же, зоопарки обычно в хороших местах, там природа, туда принято водить детей — в данном случае, когда они внутри мозга, — чтобы рассказывать, что да как у тебя было в жизни. Да, очередная часть мира, времени умирает, впадая в детство, — зверушки вот всякие, так это же еще и сближает напоследок. Эти звери чистые, вымытые и художественные: тут же, вокруг автобуса, земли католиков — агнцы, серебряные сердца на пурпурном бархате, золотом по камню какие-то слова на латыни, надежные. Не в варианте красот для приезжих, а видишь все это, просто проходя мимо в плохую погоду по своим делам.
Каунас. Тот человек никуда не уходит. То есть из автобуса вышел, но и только. Никакого движения в сторону города, переминается на остановке — не курит, пьет воду. Да, тут не автовокзал — просто стоянка, возле громадного торгового центра. «Акрополис» он, кажется. Логично, незачем заворачивать проходящие автобусы на автовокзал, он у них маленький. Но есть навес и указание, куда идти, чтобы купить билеты. Рядом река, на острове напротив — дворец «Жальгирис», спортивный. Хмуро, времени еще только полвторого, остановка минут на десять, куришь.
Далее должна была быть красивая дорога вдоль реки, над ней монастырь, пейзажи. Но сейчас поехали каким-то другим путем, или же я проглядел — откуда бы взяться другой трассе. Наверное, снова заснул — в Литве солнца не было, тумана тоже, был обычный сумрак марта, сырого и холодного. Да, вспоминая тему, что-то общее как-то же действует поверх частных рамок, есть какие-то разделяемые, в принципе, чувства, пусть и возникшие по различным поводам. Можно и их соотнести с зоопарком, конечно, — ну, эти все аллегории. Примерно как в бестиариях, католическая же территория, и здесь такое соотнесение имеет резон. Только надо аккуратнее. Там «тварей уподобляли образам и понятиям религии и морали, расшифровывая их, как иероглифы» (так пишут в «Википедии» — в автобусе вайфай работает). Но иероглифы могут быть и составными, не только так, будто зверек на шкафчике детского сада для его опознания пока еще неграмотным владельцем. В бестиариях все было с иллюстрациями: золото, пурпур, ультрамарин, мощное и до сих пор не выцвело.
Животные как иероглифы — это удобно: держать их на руке, небольших и разноцветных. Они не будут мельтешить, не захотят сбежать-скрыться. С достоинством работают иероглифами, нимало не опасаясь за себя, потому что знают: после того как их разглядят и сделают выводы, они — не пострадав — вернутся в свое аллегорическое пространство. Маленький динозавр на ладони, малиновый — а над ним (во время разглядывания) нависает лиловое облако его нынешнего смысла, принимающее такую-то переменчивую форму, сиреневую по краям.
Тогда этот механизм должен производить и новые, усложняющиеся чувства. Не заданные, как нормативные черты характера, но — изощренные. Он не выпиливает аллегории, а уже художественно соединяет людей и зверей, непрерывно производя истории. Потому что натура у него такая, что производит и производит.
Но как выглядела банка с какао на кухне у человека, который сидит позади, тридцать лет назад (когда это ему запомнилось)? Или не какао, а кофе? Как выглядела тогда у них кухонная полка, стояли ли на ней стандартные банки с надписями «Сахар», «Соль», «Крупа», какого они были цвета? Что за плита была или примус; где и как стирали белье; как нависали над ним — тогда ребенком — родители? Впрочем, не так и важно. В Риге можно увидеть сантехнику еще с восьмидесятых, а то и с семидесятых, ничего особенного — это мало что значит, в сущности. Просто если такой зверинец, где все разнесено по комнатам, то должна же там быть и кухня с конкретной полкой. Это тишком окрашивает чувства и задает длительность, определяя ее ритм, укомплектовывая все подряд вместе. Допустим, привкус растворимого кофе с молоком, сладкие штуки примерно того же вкуса (какие-нибудь вафли с шоколадной начинкой или темные пряники). Как-то это располагается где-то, но не отдельными пирожными, а слоями, пластами. Не эстетическими уколами и вспышками, вдруг разворачивающими в памяти нечто все сразу, но присутствуя постоянно, не воспринимаемым в сумме фоном. Или еще не растворимым кофе, а эрзацем из цикория или желудей. Впрочем, существенно и то, как выглядит его нынешняя сахарница.
Зверушки как иероглифы — это не взаимный обмен стрелочками, точками, шариками разных цветов, содержащих в себе все, но — понятное только тем, кто связан этой коммуникацией. Тут общедоступные штуки, интуитивно однозначные. Хотя могут быть и нюансы: а ну как, допустим, Чехов путал чайку и хохотуна, пусть он и из Таганрога на море. Вышла бы пьеса «Хохотун», и вся российская история повернулась бы иначе. И еще эти придуманные существа, единороги и т. п., откуда они брались? То ли их по вдохновению конструировали, то ли с чьих-то слов, или же просто предполагали (исходя из возможностей природы), что могло бы быть и этакое, заполняя разрывы между видами, — русалка, например? Так или иначе, пополнение зоопарка может происходить не только за счет новых эпизодов собственной жизни, вербующих своих зверьков, но и что угодно может поступать таким же образом, производя принципиально новые виды живности: кто-нибудь мог бы олицетворить собой и категорический императив, ну и прочее такое. Разумеется, это возможно.
Например, Гент. Там, в церкви Св. Бавона — алтарь ван Эйков, в центре его нижнего яруса — престол, а на нем — барашек, то есть — агнец, а вокруг большое скопление людей, стоящих группами. Лица — те, что можно разглядеть, — не так чтобы симпатичны (разве что один-другой человечные). Собственно, алтарь там теперь в подвале, еще и обнесен стеклом — а это блики. Но все же барашек по-прежнему в Генте. А в Генте была и такая история: там в 2014 году кто-то ставил в разных местах города голубые точки.
Они распространялись по всему центру. Не только по пятачку, где соборы, но и в стороны, добираясь даже до вокзала. И это не граффити как таковые, потому что граффити там культивируется отдельно. Они централизованы, для них выделена целая (узкая, в центре) улица, на которой их продолжают производить, отчего там всегда сильно пахнет ацетоном. Ну вот, граффити решили зачем-то организовать, а город тогда маркировали именно голубые точки. Небольшие, примерно как если перпендикулярно приставить кисть шириной в два-три пальца к стене и провернуть ее на 180 градусов. Цвет — типовой городской, общеупотребительная голубая краска, ею там много что красят (лючки водопровода, например). Это хороший цвет, мягкий.
То есть ими все как-то метилось. Вероятно, соотносясь исключительно с желанием сделать это именно вот ровно в этом месте. Вообще, непонятно, как таскать с собой краску-кисть, чтобы не пачкаться, и сколько раз за прогулку возникает такое желание, при каждом ли выходе в город? Это один человек, несколько? Но было бы несколько, тогда бы весь Гент был в горошек. Или же ими маркируется только определенное желание, причем — сильное? Как бы то ни было, главное именно в том, что тут реализуется некое желание: по крайней мере, желание поставить голубую точку в таком-то месте. А город тогда оказывается местом присутствия (или даже возникновения) этого желания и дополнительно связывается им. К тому же возникает и некоторый зазор неведения: что же это все-таки такое? Только хорошие штуки могут содержать неведение частью себя.
Причем, ведь если соединить эти точки линиями, то нарисуется какая-то схема, то есть — тоже иероглиф, то есть — тоже по факту какое-то животное. Можно считать, что в Генте завелся новый зверь, который и метит стены. Можно даже считать, что это именно барашек так представил себя в 2014-м. Как созвездия: звезды соединяли линиями, получались некие фигуры: Козерог, Волк, Овен, Большая Медведица, Гончие Псы. И, если правильно соединить эти гентские точки, то барашек и выйдет. Нет, не утверждается, что это именно так, просто пример, как это может происходить.
Но кто что знает о жизни, например, бабочек или стрекоз — чтобы всерьез, с пониманием их чувств? Не говоря уже о мелких букашках в траве или о тех, кто живет под дерном. Они появляются, живут себе и исчезают неведомыми — почему бы и мыслям такого же малого размера не быть мелкими зверьками, рыбами, насекомыми (да, тараканы, например)? Но в каком облике там будет существовать категорический императив? Это вроде бы уже точно натяжка, метафора, только граница размыта — где тут одно, где другое: что такого мы знаем о жизни землероек, чтобы не считать это знание аллегорией и метафорой? Что тут может быть известно точно, словами какого языка, соотносящимися с каким веществом, с его понятиями, узлами и действиями, можно сообщить о том, что происходит в реальности?
Понятия, узлы и действия фактически тоже будут звери, о них можно сочинять, как о зверях, рисовать их: все примется взаимонастраиваться. Классификация нарастает, постепенно забирая в себя весь мир: мелкий, копошащийся, перепискивающийся. Само собой, если кто-то вошел в отношения с бесплотными существами, вроде всяческих духов, то и они для него получат облик. А тогда чем, в сущности, это не зверушки, как-то так они и будут выглядеть. И наоборот, если кто-то впервые увидел муравьеда, чем это для него не сгущение в плоть неведомой духовной сущности или же некоей душевной ситуации? Даже ощущение покоя относительно теплым утром в середине марта, нарушаемое лишь мыслью о том, что день будет длинным и тряским, вполне способно материализовать себя в виде кого-то мягкого, но с мелкими зубами, то есть — с челюстями, завершающими его мягкий хвост.
Любую классификацию можно нарастить до космоса, расширяя применение метода: творчество такого-то (и кого угодно) есть такой-то зверек, например. Методики и приемы тоже окажутся подобными животными, ими могут быть даже повторяющиеся (а даже и не повторяющиеся) жесты. Дело сходится к общему механизму: вот престол, на нем барашек, а все вокруг стоят, глядят и ощущают, как стройно и красиво все в этом мире устроено. Ну да, вообще-то они собрались, чтобы его ритуально зарезать, но что с того. На деле там происходит что-то другое, что-то мягко-голубое и зеленое, а внутри нечто золотое, гибкие переходы с алыми линиями, полусырые гибриды: они еще превратятся во что-нибудь конкретное.
Кто знает, что за гибриды живут в мозгу, они не обязательно обрывки всего подряд, у них свои связи; гибриды могут и должны складываться во внятность — так дорога легко сложит, склеит все подряд, что придет в голову, пока едешь в автобусе. Как скотч или изолента (но не синяя, а серебристая — влагонепроницаемая, она прочнее склеивает), зверушки не разбегутся, можно соотносить с ними что угодно. Как история про ежика, вышедшего из леса и спросившего: «Мужик, у тебя изолента есть?» — «Нет», — ответил тот. Ежик ушел и вернулся: «На, мужик, изоленту». И ежик — изолента, и зверушки эти все — тоже, а дорога от Варшавы до Вильнюса уж само собой.
До Вильнюса уже недалеко. Мутно, будто уже начинаются сумерки, но смеркаться еще не может — в Вильнюсе должны быть в 16:00, а автобус еще и идет быстрее расписания. Ну, мне в Ригу, из Каунаса было бы лучше на Паневежис, но придется в Вильнюс, где стык с рейсом на Таллин, его и ждать почти час, в сумме — часа четыре лишние. Да, в Риге на вокзале есть заведение с пончиками-донатсами, на стене меню. Там вариантов 30. Например: «Пончик дамский», «Клубничная мечта», «Коко-шоко», «Джон-лимон», «Малиновая страсть», «Великолепный банановый», «Фисташковая сила», «Манго-танго», «Голубой ангел», «Дублин», «Вишневая зебра». Явный переизбыток, отчего азарт перепробовать все не возникнет: ведь не запомнишь, какие уже, а какие — еще нет. Эта классификация уже ничего не организует, не держит под контролем — ее элементы толпой вышли на свободу. Даже не заметив, что куда-то вышли и уже свободны от привязок, отчего как бы потеряли связь с общим проектом, даже и не осознавая, что были придуманы внутри чего-то цельного. Вышли из зоопарка, точнее — он распространился повсюду, а какой же он тогда зоопарк? Разумеется, все они называются как-то, но название не сообщает ничего, то есть — ничего не означает. Какой-то единичный оттенок вкуса, вполне равный разовым чувствам или мыслям: вокруг множество каких-то таких же штук, разнящихся на вкус, неисчислимых, вот уж новость.
Со зверями в мозгу так же: они имеют там какой-то вид, но их все больше, очередные ощущения и их склейки производят умопомрачительно непостижимые гибриды, хотя бы — что касается их облика. А все они отчетливо отдельные, со своими неведомыми жизнями, возникают после каждого жеста, осознания, контакта, связи. Кто ж их рисует и откуда они именно такие, но так и должно быть: даже и природа производит такое, что хотелось бы узнать имена авторов, а если учесть и глубоководных тварей… Все это производится и производится механизмом, не имеющим отношения к производимому, вовсе не заботящимся о чувствах самих тварей. Так и к нам механизм не имеет отношения, он просто это зачем-то делает, но мозговая фауна не станет иметь отношения к человеку — тем более не будет, чем точнее он ее увидит. Механизм показывает кино со зверушками. Континуум новых существ выходит на волю, они перетекают одно в другое, будто в человеке и нет ничего, кроме этого зоопарка. Он тоже не имеет к тебе отношения, так что пусть они разбегаются куда хотят, новые появятся — один не останешься никогда. Красиво тут все устроено, что уж.
Теперь здесь автовокзал Вильнюса, и эта история закончена. Дальше будет следующий автобус, то есть — уже следующая жизнь, пусть даже автобус будет той же фирмы и даже место в нем оказалось ровно таким же. Тот человек куда-то уже ушел. Собственно, конечная. Придет он на рейс в Таллин — неважно. Уже другая история.
Зато здесь уже вокруг ходит какой-то зверь, не зверь — так зверушка, и его контуры приблизительно переминаются в воздухе. Барашек, видимо, кто же еще мог сейчас появиться здесь. В начинающем постепенно темнеть воздухе, только безо всяких красот: никакого золотого меха, никакого серебряного сердца на пурпуре и сапфировых глаз — здесь же не центр Вильнюса, а автовокзал, возле железнодорожного. Вот беляши в ларьке, почему-то стоят дороже, чем на вокзале в Риге, 90 к 60 в евроцентах, а размер примерно тот же; на треть съедобнее, что ли.
Шесть утра, Варшава-Центральная, такие автобусы там останавливаются сбоку, возле вокзала, безо всяких платформ и вывесок, просто паркуются. Ясное утро, солнце. Вокруг небоскребы, новые. Сияют, а чуть сбоку торчит Дом культуры, высотка-сталинка. Вокзал под землей, сверху только его здание.
В шесть утра все отчасти в полусне, происходящее тоже будет происходить в полусне, вот: солнце, автобусы, какие-то люди. Возле автобуса, в частности, нейтральный человек неопределенных, от 40 до 60, лет — одежда без излишеств, аккуратная, даже и стильная. Песочного цвета штаны, мелко-вельветовые, песочного же цвета кроссовки, белая рубашка в крупную тонкую красную клетку, бежевый пуловер, крупные очки в твердой оправе — стекла чуть выпуклые, сильные. Примерно двухдневная щетина — то ли это у него все же такой образ, то ли ему просто было не до бритья — не то чтобы небритость выглядит дизайнерской. Темно-коричневая куртка, менее темно-коричневый шарф.
Но он не из богатых: автобус — не рейсовый между райцентрами, а вполне международный, но вот мне до Риги часов 14 ехать, и это дешевле, чем иным способом, 30 евро. То есть едут некие средние. Это не новый для меня вариант, а внимание к деталям тут только потому, что спросонья было непросто понять, где на территории вокруг немаленького вокзала отыскать свой рейс.
Неопределенного вида, возраста и занятий человек оказался в салоне сразу позади меня, лицо его тоже неопределенное — я взглянул, когда садился. Может, у него какая-нибудь двойная фамилия давней шляхты или, наоборот, он вариант пана Ковальского. Или же он Irgendwie Anders, это — если едет из Берлина. Может быть и возвращающимся литовцем, а там не знаю, какие распространенные фамилии: Янкаускас, Паулаускас? Откуда он едет — не знаю, когда я подошел к остановке, там стояли два одинаковых черных автобуса, но один — в Берлин, другой из Берлина. Разбирался с этим, человек стоял возле автобуса, а его вещи были уже внутри. Мог подойти чуть раньше меня.
Едем, выбираемся из Варшавы, времени впереди много. Что можно было бы из него, этого человека, сочинить? Список вероятностей понятен — небольшой бизнес, ездил к родственникам, что еще? Сейчас не выходные, середина недели, поэтому вряд ли поездка связана с частной жизнью. Ездят ли по бизнесовым делам на автобусах? Почему нет. Ну, можно бы придумать и криминал, но фактура слишком мягкая. Или же вот выйдет в Каунасе и отправится на шпионскую встречу в холле гостиницы — возле автовокзала на Витауто есть подходящая: темно-серая, холодная, этажей семь-восемь. Или агенты встретятся ближе к ночи на темной горе в центре или же в «Цеппелине» под ней. Там, возможно, будет громко и шумно, хотя сегодня и среда, для маскировки они станут пить водку, поедать цеппелины, а уже потом пойдут на темную гору для совсем тайных слов. Только какие ж агенты, выезжающие из Польши в Литву…
Но ведь сюжетные истории как-то производятся на свете? А тут вполне пригодный антураж: раннее утро, начало весны, она пока холодная — так, кое-где трава, никаких начинающихся листьев, даже на кустах. Сейчас я, конечно, засну — после остановки на автовокзале уже выбрались из Варшавы. Поля-перелески убаюкивают, а этот некто никуда не денется — до Каунаса остановок не будет, а тот — часов через семь.
Проснулся: все по прежнему, разве что вдоль дороги километрами лежат спиленные деревья, полосой — расширяют трассу, что ли. Частые дорожные знаки: осторожно, могут выбежать животные. Штуки три уже мимо. Отдельно стоящие господы, поля, сосновые леса. Заснул снова. В следующий раз проснулся после Острува-Мазовецка, где автобус ушел с трассы на боковую дорогу. Оказалось, что вокруг теперь туман, ну и солнце немного сквозь него. В стороны отходят какие-то еще более мелкие дороги, туман становится плотнее.
Снова проснулся. Что ж, если я не могу придумать смысл поездки этого человека, то можно адресоваться к чему-то общему, которое у нас есть, а оно сильнее, чем наши различия, — как бы иначе мы оказались в одном автобусе, просто технически? Как искать общее? Допустим, войти внутрь его мозга, выяснить, где там у него школа, что за вид из окна, какие были первые социальные контакты и прочее. Закоулки особо-то и не будут додуманы, такие позиции там безусловно присутствуют, а сильно уклониться от реальности сложно — мы более-менее из одной местности и не сильно друг от друга отличаемся по виду. Вытащить какой-нибудь более-менее вероятный пункт, намотать на него некий экшн, скажем — какой вот он нормальный представитель Центральной Европы и проч. эссеистика, этакая репортажная: репортер заходит внутрь мозга некоего то ли поляка, то ли литовца, а то и шведа, который почему-то вынужден ехать в Варшаву или Ригу, чтобы уже оттуда улететь домой, — и вот, что там внутри его мозга. Какова его карта, ну и какое-нибудь приключение-проблема заодно, для нарратива.
Или чуть иначе: все это у него в мозгу есть, но это существенно не само по себе, а тем, как и чем соединяется с тем, что для него сегодня. В этом автобусе. Не обязательно конкретно, а какая у него механика соединения? Мне, например, все равно, где быть — механизм работает одинаково что в Варшаве, что в автобусе, что в Августове, который теперь мимо окон. У них там на пятиэтажках обычных пишут название улицы и номер дома. 46b Kazstanova теперь, буквы и цифры высотой с этаж. Августов хороший, какой-то Salon fryzjerski между делом, водоемы, аккуратно. Курорт, что ли, немного. Теперь далее Сувалки, потом в сторону Мариямполе, это уже будет Литва и дальше Каунас.
Что за гимназия или школа, в которой он учился, как там были покрашены стены, далеко ли от дома. Ну да, из какого он все же города. Кем были родители, как там у них все было, что им СССР, наконец, и постсоветские дела. Что за продуктовая корзина теперь, какие физиологические пристрастия, что делать любит, а что делает по привычке. Какие книги читал — это уже помимо его профессии, а какой именно? Не клерк он, явно. Какие же у клерков разъезды в середине недели.
По возрасту мы примерно схожи, лет десять туда-сюда (я старше) здесь не существенны. Привычная музыка, например, будет той же самой. А появились ли тут, в частности, у него какие-то новости или мир, который был сделан в его голове к концу восьмидесятых и до середины девяностых, сохраняет свое доминирование, постепенно выцветая, поскольку его составляющие одна за другой уходят или забываются? Они могут оставаться некими раритетами, но уже в отрыве от общего потока, который когда-то был безусловным по умолчанию и практически не требовал описания. Что описывать, когда все — вот так, а как же еще, иначе? Ясно, что это уже такая рамка, которую нельзя ни расширить, ни изменить: найди хоть дюжину молодых приятелей или собутыльников — у них рамка другая. Можно следить за всем новым, но это ж как-то так: да, следишь, но не живешь же в этом, на самом-то деле.
Наш с ним — по возрасту — мир уходит, ну и ничего такого. Кто-нибудь крайний дотащит с собой обрывки этой схемы — смысл которой будет утрачен, пусть даже ее элементы как-то и сохранятся. Автобус тоже едет часов 15, вполне осязаемая часть жизни, так и что? 9 марта 2016-го вполне приятно проживать свое время внутри автобуса. Тут другое: какое-то понимание этого человека есть, но оно возникло не из оценки его одежды, манер и выражения лица, а что-то присутствует и постоянное. Не только то, что связано с привязкой ко времени, есть же и штуки, которые стабильны и сохраняют свои смысл и фактуру в любых обстоятельствах. Вот были схемы Галля о том, как устроен мозг, по сегментам. Один сегмент — «высшие чувства-самооценка-страх», другой — «счет-числа-оценка», а еще «остроумие», «половая любовь» — та в затылке с левой стороны; «половая любовь» почти возле шеи, чуть выше нее — «любовь к дому» и далее выше — «патриотизм»; в правой половине мозга со стороны затылка — «домашние инстинкты».
А также всяческие классификации, которые добавят непременную аллегоричность (типа заяц олицетворит трусость, а пеликан самопожертвование), еще и внешние контуры соответствующей культуры — кролик будет неплохо олицетворять похоть под музыку Монтеверди. А Джезуальдо, допустим, сову с ее как бы мудростью, хотя тут по факту не совсем сходится. Ну, пусть волком, что ли, будет. Классификации как классификации, чисто таблица Менделеева особенностей характера, где пространство выстраивания связей уже сомнительно связано с самим человеком, которого она свела к его параметрам. Потому что какое отношение к нему могут иметь, допустим, нюансы перехода от Джезуальдо к Монтеверди, пусть даже — судя по его виду — он может знать обоих и даже эти нюансы?
Еще можно рассматривать его мозг как квартиру. Как Галль с его зонами, но конкретнее. Вот тут у него комната родной гимназии, там бегают маленькие дети, в другой комнате он юноша и т. д. Собственно, чего тут вообще вымышлять этого человека, когда можно ехать и глядеть на польские перелески и прочую аскетичную, но хорошую мартовскую природу. Но вот, про всех же можно сочинить какую-нибудь историю, так чего бы не покрутить механику сочинений? Тут у него школа с маленькими (то есть реально маленькими — а какой размер уместится в голове) детишками и громким звонком, там родители, а вот университет, работа — все это разложено по секциям и продолжает там существовать, каким-то образом — он же все это помнит. Причем, даже и не по одному отсеку на каждую тему, а по каким-то историям, которые, например, связаны с тем же университетом. Какие-то слои, разные. Не смешивающиеся, практически не взаимодействующие, даже отталкивающие друг друга, то есть — просто по клеткам, как в зоопарке звери.
Он там, внутри своего мозга, так и суетится в каждой отдельной истории, как в отдельном помещении, — чисто как зоопарк. Разве что посетитель там всегда единственный, сам ты, зашедший посмотреть на свои прошлые истории. Или если с кем-нибудь выпьешь, или так просто, ведешь собеседника туда на экскурсию: как-то раз я был там-то или работал там-то, всякое такое. Вполне можно написать даже весьма полезный с точки зрения народного образования роман, где персонажи и их отношения расписываются по такой схеме. Или не исторический, а любовный. Или типа Пруста. Только все это существует и подергивается у себя там одновременно, не объединенное ничем, причем — ничто из этого не активно в данный момент — что бы влияло на действия самого человека. Светящаяся точка его внимания на них не падает. Разве что из какой-нибудь секции до сознания вдруг доберется крик ночного павлина. Сам собой, чуть тревожно напоминая зачем-то о том прошлом, которое содержится в той клетке.
У тебя внутри зоопарк, он более-менее спокойный. Его обитатели (то есть сам ты в разных историях и их иные участники) довольны, а кормятся, вероятно, мозгом, у него же есть небольшое электричество. Предыдущая жизнь там продолжается в маленьких фигурках; маленькие человечки ходят в своих загончиках, болтают, глядят друг на друга до сих пор, как тогда, всегда. В жизни почти не участвуют, но и звери обычного зоопарка мало влияют на жизнь вообще. Разве что случайно на кого-то из них попадет вот эта светящаяся точка внимания — с чем-то теперь этот зверь совпал. Лиса, например, кого-то напомнила. К тому же, зоопарки обычно в хороших местах, там природа, туда принято водить детей — в данном случае, когда они внутри мозга, — чтобы рассказывать, что да как у тебя было в жизни. Да, очередная часть мира, времени умирает, впадая в детство, — зверушки вот всякие, так это же еще и сближает напоследок. Эти звери чистые, вымытые и художественные: тут же, вокруг автобуса, земли католиков — агнцы, серебряные сердца на пурпурном бархате, золотом по камню какие-то слова на латыни, надежные. Не в варианте красот для приезжих, а видишь все это, просто проходя мимо в плохую погоду по своим делам.
Каунас. Тот человек никуда не уходит. То есть из автобуса вышел, но и только. Никакого движения в сторону города, переминается на остановке — не курит, пьет воду. Да, тут не автовокзал — просто стоянка, возле громадного торгового центра. «Акрополис» он, кажется. Логично, незачем заворачивать проходящие автобусы на автовокзал, он у них маленький. Но есть навес и указание, куда идти, чтобы купить билеты. Рядом река, на острове напротив — дворец «Жальгирис», спортивный. Хмуро, времени еще только полвторого, остановка минут на десять, куришь.
Далее должна была быть красивая дорога вдоль реки, над ней монастырь, пейзажи. Но сейчас поехали каким-то другим путем, или же я проглядел — откуда бы взяться другой трассе. Наверное, снова заснул — в Литве солнца не было, тумана тоже, был обычный сумрак марта, сырого и холодного. Да, вспоминая тему, что-то общее как-то же действует поверх частных рамок, есть какие-то разделяемые, в принципе, чувства, пусть и возникшие по различным поводам. Можно и их соотнести с зоопарком, конечно, — ну, эти все аллегории. Примерно как в бестиариях, католическая же территория, и здесь такое соотнесение имеет резон. Только надо аккуратнее. Там «тварей уподобляли образам и понятиям религии и морали, расшифровывая их, как иероглифы» (так пишут в «Википедии» — в автобусе вайфай работает). Но иероглифы могут быть и составными, не только так, будто зверек на шкафчике детского сада для его опознания пока еще неграмотным владельцем. В бестиариях все было с иллюстрациями: золото, пурпур, ультрамарин, мощное и до сих пор не выцвело.
Животные как иероглифы — это удобно: держать их на руке, небольших и разноцветных. Они не будут мельтешить, не захотят сбежать-скрыться. С достоинством работают иероглифами, нимало не опасаясь за себя, потому что знают: после того как их разглядят и сделают выводы, они — не пострадав — вернутся в свое аллегорическое пространство. Маленький динозавр на ладони, малиновый — а над ним (во время разглядывания) нависает лиловое облако его нынешнего смысла, принимающее такую-то переменчивую форму, сиреневую по краям.
Тогда этот механизм должен производить и новые, усложняющиеся чувства. Не заданные, как нормативные черты характера, но — изощренные. Он не выпиливает аллегории, а уже художественно соединяет людей и зверей, непрерывно производя истории. Потому что натура у него такая, что производит и производит.
Но как выглядела банка с какао на кухне у человека, который сидит позади, тридцать лет назад (когда это ему запомнилось)? Или не какао, а кофе? Как выглядела тогда у них кухонная полка, стояли ли на ней стандартные банки с надписями «Сахар», «Соль», «Крупа», какого они были цвета? Что за плита была или примус; где и как стирали белье; как нависали над ним — тогда ребенком — родители? Впрочем, не так и важно. В Риге можно увидеть сантехнику еще с восьмидесятых, а то и с семидесятых, ничего особенного — это мало что значит, в сущности. Просто если такой зверинец, где все разнесено по комнатам, то должна же там быть и кухня с конкретной полкой. Это тишком окрашивает чувства и задает длительность, определяя ее ритм, укомплектовывая все подряд вместе. Допустим, привкус растворимого кофе с молоком, сладкие штуки примерно того же вкуса (какие-нибудь вафли с шоколадной начинкой или темные пряники). Как-то это располагается где-то, но не отдельными пирожными, а слоями, пластами. Не эстетическими уколами и вспышками, вдруг разворачивающими в памяти нечто все сразу, но присутствуя постоянно, не воспринимаемым в сумме фоном. Или еще не растворимым кофе, а эрзацем из цикория или желудей. Впрочем, существенно и то, как выглядит его нынешняя сахарница.
Зверушки как иероглифы — это не взаимный обмен стрелочками, точками, шариками разных цветов, содержащих в себе все, но — понятное только тем, кто связан этой коммуникацией. Тут общедоступные штуки, интуитивно однозначные. Хотя могут быть и нюансы: а ну как, допустим, Чехов путал чайку и хохотуна, пусть он и из Таганрога на море. Вышла бы пьеса «Хохотун», и вся российская история повернулась бы иначе. И еще эти придуманные существа, единороги и т. п., откуда они брались? То ли их по вдохновению конструировали, то ли с чьих-то слов, или же просто предполагали (исходя из возможностей природы), что могло бы быть и этакое, заполняя разрывы между видами, — русалка, например? Так или иначе, пополнение зоопарка может происходить не только за счет новых эпизодов собственной жизни, вербующих своих зверьков, но и что угодно может поступать таким же образом, производя принципиально новые виды живности: кто-нибудь мог бы олицетворить собой и категорический императив, ну и прочее такое. Разумеется, это возможно.
Например, Гент. Там, в церкви Св. Бавона — алтарь ван Эйков, в центре его нижнего яруса — престол, а на нем — барашек, то есть — агнец, а вокруг большое скопление людей, стоящих группами. Лица — те, что можно разглядеть, — не так чтобы симпатичны (разве что один-другой человечные). Собственно, алтарь там теперь в подвале, еще и обнесен стеклом — а это блики. Но все же барашек по-прежнему в Генте. А в Генте была и такая история: там в 2014 году кто-то ставил в разных местах города голубые точки.
Они распространялись по всему центру. Не только по пятачку, где соборы, но и в стороны, добираясь даже до вокзала. И это не граффити как таковые, потому что граффити там культивируется отдельно. Они централизованы, для них выделена целая (узкая, в центре) улица, на которой их продолжают производить, отчего там всегда сильно пахнет ацетоном. Ну вот, граффити решили зачем-то организовать, а город тогда маркировали именно голубые точки. Небольшие, примерно как если перпендикулярно приставить кисть шириной в два-три пальца к стене и провернуть ее на 180 градусов. Цвет — типовой городской, общеупотребительная голубая краска, ею там много что красят (лючки водопровода, например). Это хороший цвет, мягкий.
То есть ими все как-то метилось. Вероятно, соотносясь исключительно с желанием сделать это именно вот ровно в этом месте. Вообще, непонятно, как таскать с собой краску-кисть, чтобы не пачкаться, и сколько раз за прогулку возникает такое желание, при каждом ли выходе в город? Это один человек, несколько? Но было бы несколько, тогда бы весь Гент был в горошек. Или же ими маркируется только определенное желание, причем — сильное? Как бы то ни было, главное именно в том, что тут реализуется некое желание: по крайней мере, желание поставить голубую точку в таком-то месте. А город тогда оказывается местом присутствия (или даже возникновения) этого желания и дополнительно связывается им. К тому же возникает и некоторый зазор неведения: что же это все-таки такое? Только хорошие штуки могут содержать неведение частью себя.
Причем, ведь если соединить эти точки линиями, то нарисуется какая-то схема, то есть — тоже иероглиф, то есть — тоже по факту какое-то животное. Можно считать, что в Генте завелся новый зверь, который и метит стены. Можно даже считать, что это именно барашек так представил себя в 2014-м. Как созвездия: звезды соединяли линиями, получались некие фигуры: Козерог, Волк, Овен, Большая Медведица, Гончие Псы. И, если правильно соединить эти гентские точки, то барашек и выйдет. Нет, не утверждается, что это именно так, просто пример, как это может происходить.
Но кто что знает о жизни, например, бабочек или стрекоз — чтобы всерьез, с пониманием их чувств? Не говоря уже о мелких букашках в траве или о тех, кто живет под дерном. Они появляются, живут себе и исчезают неведомыми — почему бы и мыслям такого же малого размера не быть мелкими зверьками, рыбами, насекомыми (да, тараканы, например)? Но в каком облике там будет существовать категорический императив? Это вроде бы уже точно натяжка, метафора, только граница размыта — где тут одно, где другое: что такого мы знаем о жизни землероек, чтобы не считать это знание аллегорией и метафорой? Что тут может быть известно точно, словами какого языка, соотносящимися с каким веществом, с его понятиями, узлами и действиями, можно сообщить о том, что происходит в реальности?
Понятия, узлы и действия фактически тоже будут звери, о них можно сочинять, как о зверях, рисовать их: все примется взаимонастраиваться. Классификация нарастает, постепенно забирая в себя весь мир: мелкий, копошащийся, перепискивающийся. Само собой, если кто-то вошел в отношения с бесплотными существами, вроде всяческих духов, то и они для него получат облик. А тогда чем, в сущности, это не зверушки, как-то так они и будут выглядеть. И наоборот, если кто-то впервые увидел муравьеда, чем это для него не сгущение в плоть неведомой духовной сущности или же некоей душевной ситуации? Даже ощущение покоя относительно теплым утром в середине марта, нарушаемое лишь мыслью о том, что день будет длинным и тряским, вполне способно материализовать себя в виде кого-то мягкого, но с мелкими зубами, то есть — с челюстями, завершающими его мягкий хвост.
Любую классификацию можно нарастить до космоса, расширяя применение метода: творчество такого-то (и кого угодно) есть такой-то зверек, например. Методики и приемы тоже окажутся подобными животными, ими могут быть даже повторяющиеся (а даже и не повторяющиеся) жесты. Дело сходится к общему механизму: вот престол, на нем барашек, а все вокруг стоят, глядят и ощущают, как стройно и красиво все в этом мире устроено. Ну да, вообще-то они собрались, чтобы его ритуально зарезать, но что с того. На деле там происходит что-то другое, что-то мягко-голубое и зеленое, а внутри нечто золотое, гибкие переходы с алыми линиями, полусырые гибриды: они еще превратятся во что-нибудь конкретное.
Кто знает, что за гибриды живут в мозгу, они не обязательно обрывки всего подряд, у них свои связи; гибриды могут и должны складываться во внятность — так дорога легко сложит, склеит все подряд, что придет в голову, пока едешь в автобусе. Как скотч или изолента (но не синяя, а серебристая — влагонепроницаемая, она прочнее склеивает), зверушки не разбегутся, можно соотносить с ними что угодно. Как история про ежика, вышедшего из леса и спросившего: «Мужик, у тебя изолента есть?» — «Нет», — ответил тот. Ежик ушел и вернулся: «На, мужик, изоленту». И ежик — изолента, и зверушки эти все — тоже, а дорога от Варшавы до Вильнюса уж само собой.
До Вильнюса уже недалеко. Мутно, будто уже начинаются сумерки, но смеркаться еще не может — в Вильнюсе должны быть в 16:00, а автобус еще и идет быстрее расписания. Ну, мне в Ригу, из Каунаса было бы лучше на Паневежис, но придется в Вильнюс, где стык с рейсом на Таллин, его и ждать почти час, в сумме — часа четыре лишние. Да, в Риге на вокзале есть заведение с пончиками-донатсами, на стене меню. Там вариантов 30. Например: «Пончик дамский», «Клубничная мечта», «Коко-шоко», «Джон-лимон», «Малиновая страсть», «Великолепный банановый», «Фисташковая сила», «Манго-танго», «Голубой ангел», «Дублин», «Вишневая зебра». Явный переизбыток, отчего азарт перепробовать все не возникнет: ведь не запомнишь, какие уже, а какие — еще нет. Эта классификация уже ничего не организует, не держит под контролем — ее элементы толпой вышли на свободу. Даже не заметив, что куда-то вышли и уже свободны от привязок, отчего как бы потеряли связь с общим проектом, даже и не осознавая, что были придуманы внутри чего-то цельного. Вышли из зоопарка, точнее — он распространился повсюду, а какой же он тогда зоопарк? Разумеется, все они называются как-то, но название не сообщает ничего, то есть — ничего не означает. Какой-то единичный оттенок вкуса, вполне равный разовым чувствам или мыслям: вокруг множество каких-то таких же штук, разнящихся на вкус, неисчислимых, вот уж новость.
Со зверями в мозгу так же: они имеют там какой-то вид, но их все больше, очередные ощущения и их склейки производят умопомрачительно непостижимые гибриды, хотя бы — что касается их облика. А все они отчетливо отдельные, со своими неведомыми жизнями, возникают после каждого жеста, осознания, контакта, связи. Кто ж их рисует и откуда они именно такие, но так и должно быть: даже и природа производит такое, что хотелось бы узнать имена авторов, а если учесть и глубоководных тварей… Все это производится и производится механизмом, не имеющим отношения к производимому, вовсе не заботящимся о чувствах самих тварей. Так и к нам механизм не имеет отношения, он просто это зачем-то делает, но мозговая фауна не станет иметь отношения к человеку — тем более не будет, чем точнее он ее увидит. Механизм показывает кино со зверушками. Континуум новых существ выходит на волю, они перетекают одно в другое, будто в человеке и нет ничего, кроме этого зоопарка. Он тоже не имеет к тебе отношения, так что пусть они разбегаются куда хотят, новые появятся — один не останешься никогда. Красиво тут все устроено, что уж.
Теперь здесь автовокзал Вильнюса, и эта история закончена. Дальше будет следующий автобус, то есть — уже следующая жизнь, пусть даже автобус будет той же фирмы и даже место в нем оказалось ровно таким же. Тот человек куда-то уже ушел. Собственно, конечная. Придет он на рейс в Таллин — неважно. Уже другая история.
Зато здесь уже вокруг ходит какой-то зверь, не зверь — так зверушка, и его контуры приблизительно переминаются в воздухе. Барашек, видимо, кто же еще мог сейчас появиться здесь. В начинающем постепенно темнеть воздухе, только безо всяких красот: никакого золотого меха, никакого серебряного сердца на пурпуре и сапфировых глаз — здесь же не центр Вильнюса, а автовокзал, возле железнодорожного. Вот беляши в ларьке, почему-то стоят дороже, чем на вокзале в Риге, 90 к 60 в евроцентах, а размер примерно тот же; на треть съедобнее, что ли.
вас может заинтересовать

